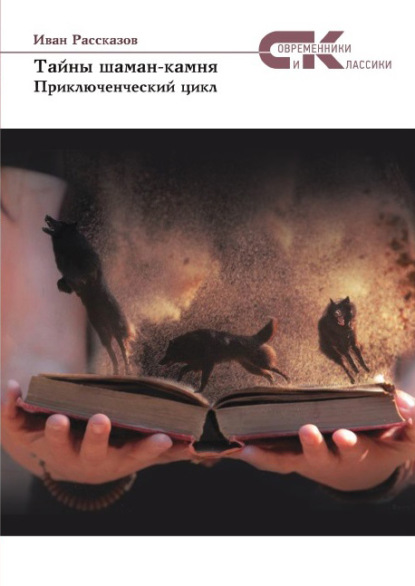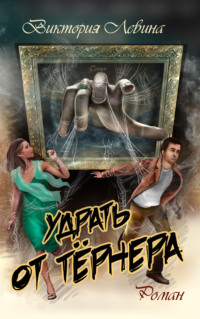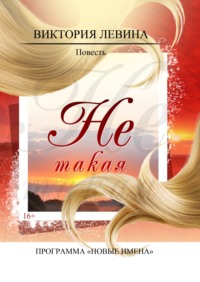Полная версия
Я сегодня Ван Гог (сборник)

Виктория Левина
Я сегодня Ван Гог
© Виктория Левина, 2019
© Интернациональный Союз писателей, 2019

Родиться имела честь в бывшем СССР, на стратегическом аэродроме, что на китайской границе в Читинской области. Случилось это в семье папы-лётчика и мамы-радистки в 1954 году, к несусветной радости двух израненных фронтовиков.
Росла на Украине, ходила в пионерках, даже удостоилась быть командиром пионерской дружины, чем очень разочаровывала философически настроенного папку, имевшего к тому времени диссидентский настрой ума.
Тогда же и случились первые литературные опыты. Писалось в муках, в состоянии огорошенности от появления опусов на свет, они были обильно смочены слезой от первых влюблённостей…
И вдруг – Москва! Учёба в Бауманке, огромная любовь, потрясшая основу бытия, музыка, камерные хоры с гастролями и – стихи, и – небольшие рассказы!
Однажды, прилетев на короткую побывку к обожаемым родителям, случайно оказалась на литературном конкурсе на Украине – и победила! Состояние шока. Неожиданная окрылённость занесла в редакцию «Юности», где по рекомендации маститых украинских «виршистов» и пропечаталась.
Писалось хорошо везде – на тесной кухоньке в хрущёвской «двушке» – шумной и прокуренной квартирке студенческой семьи, на конференциях, на пне в походных условиях, под гитару и портвейн, у детской постели с посапывающими во сне дочечками.
Выходили подборки на Украине, в России. Литературные семинары, литературные друзья на всю жизнь…
А потом всё кончилось. И был Израиль, и было синее-синее небо, и пальмы, и море. И скалы пустыни Негев с горными козлами на склонах, и библейские тропы, по которым ходил Бог…
Имею я и свою аудиторию, и десятки тысяч горячо любимых мною читателей, которые заходят на мою литературную страничку в инете.
Мой второй «израильский» муж понимает понемногу мой родной язык, но не настолько, чтобы понять всю глубину моей радости, когда что-то из пролившегося на виртуального читателя вдруг прорывается на главные страницы медии. Он просто радуется вместе со мной и тихо гладит меня по голове, когда я читаю ему новорожденное, переводя каждое слово…
Я сегодня – Ван Гог…
Романс
Я сегодня – Ван Гог,мои тени деревьев красны,на руках – фиолетовым пламенемвспучены вены…И расхристанный богрыжей с синим забытой веснымне картины рисует – как в знамениюной вселенной!Мне сегодня видныярко-розовый цвет облаков,что надеты, как бусы, на небазелёного далии лиловой луныочарованной диск, и цветов,опадающих чёрным, как небыль,созвездья печали…Подчиняется мневсей палитрой усвоенных летсуть знамений, влюблённостей полных,предсказанной доли.И уже прорисован вчернеяркой масляной краской сюжет:моя жизнь – как тот жёлтый подсолнухна ветренном поле…[1]Гора Свержения
Гора Свержения[2]. Парю, стою над бездною,на цикломены не смотрю (цветут, прелестные!),на сотни сосен и камней (так… украшение…).На гору гнали главарей – для устрашения.А он тогда стоял на краешке, непризнанный,и на него вовсю глядел весь город «избранный»!«Ворона белая», изгой в своём отечестве,на край скалы привёл простое человечествои показал всем им, отвергнувшим познание,что – смел и мудр, неуязвим и горд изгнанием!Там кто-то подлый подтолкнул, и в полдень ветренныйпророк бесстрашно сиганул в своё бессмертие!А может быть, слова нашёл душою любящейи молча сквозь толпу прошёл к Голгофе будущей…А может, слепо поглядел, как смотрят странники,и – растворился, улетел, как время праздников…А там, внизу, стояла мать, глядела пристально,стараясь в птице распознать судьбу и истину.И лишь слова…
И снова строю виртуально жизнь из кубиков:что было, если б не пошла дорожкой встречною,что было, если бы другой любви пригубила,уста медовые и радость быстротечную?Проблема выбора встаёт всё актуальнее:не оскудеет ли рука щедрот и Господа,когда возникнет за окном горой сакральноюпейзаж заморского жилья, что долей послано?И как мне быть, и что мне делать, чтобы ангелы,что в спину дышат, продолжали покровительство?И не пора ли прекращать скитанья дальниеи все удачи обращать в домостроительство?И лишь слова, что прилетают с неба птицами,слагают строки моего стихотворения,и буква каждая кивает, что сгодится мне,ни кривотолк не предвещая, ни сомнения…О бельгийской земле распеваая повсюду…
Видишь след золотой на брусчатке Брюсселя[3]? —Это путь, по которому шли менестрели.Здесь бродили студенты, растили таланты —в разухабистых песнях рождались ваганты…Мимо глыбы Собора и ратуши мимопо дорогам Брюсселя брели пилигримы.Королевскою площадью и галереейпрохожу и предчувствую, что заболеютвоей прелестью, арками, шармом, дворцами,шоколадными, в сладком томленьи, губами…Осторожно – к Гран-Пласу, к Дворцу – осторожно, —скоро эту красу позабыть невозможно!И останусь бродить по брюссельским дорогампилигримом, просящим, как милости, богаощущать этот воздух, вбирать это чудо,о бельгийской земле распеваая повсюду…Ницца. Дом Паганини…
Ницца. Дом Паганини. Рождественский рынок.Слепо окна глядят на излишество света…Папский дом проклинал в парадигме ухмылокнеуёмный огонь скрипача и поэта[4]!Папский дом душу дьявола видел и адомнеуёмному телу грозил в исступленьи!Бальзамировал плоть. И гробы, как награду,разрешал на повторные захороненья…На безумства святош, фарисейство и мифы —он ответил пассажем бессмертных творений!На подпиленных струнах судьбы да на грифе,испоганенном завистью, – ширился гений.Для избранников божьих, отважно рискнувшихприближаться к Николло, – в истории место.Старой Ниццы дома в переулках уснувших.По брусчатке хромает бессмеррный Маэстро.У дома Анны Франк
Прочитан весь дневник[5]. Я – девочка. Я – Анна.Я не люблю зануд. Талантлива. Легка.Воспитывают все и пилят постоянно.Пытливый, острый ум и – детская рука…Отрезана от войн дубовым книжным шкафом,отрезана от звёзд и ветра, и луны…Еврейское лицо – наследие от папы,от мамы – лишь глаза, страданием полны.Ещё не влюблена, но слышу голос плоти.Познаю ли любовь? Скорее «нет», чем «да».Замедлен бег секунд. Полиция в пролётечердачных этажей. Нашитая звезда.Написанный дневник хранит движенье мыслии радость, и печаль, и горе сорванца!Галактику вместил простой по виду листик.Я – Анна, я – судьба, похожая с лица…О Милане прекрасном два слова…
О Милане прекрасном два слова —Микеланджело Буонаротти,замок Сфорца иль крепость Сфорцеско —как удобнее, так и зови…Галерею Витторио сновапосетите – к Ла Скала пройдёте,и да Винчевой «тайною» фрескойзадохнётесь в порыве любви!Я рыдала на Пьяцца Дуомоот кружившего голову чуда!Я касалась святынь и паролей,отшлифованных сотнею рук…И «Пьета Рондонини» – знакомойплотью мрамора светит оттуда[6],а Да Винчи недюжинной долейзамыкает Ломбардии круг.Пел фонтан возле замка Сфорцеско(У Ломбардии – синее небо!).У Милана, красивого ликом,поразительно лёгкая стать!Даже ветры, задувшие резко,не испортили прелести, – мне быэту лёгкость, изящества бликиутончённого города взять…Пел певец Эллады
после концерта Димитриса Басиса
Греческие танцы истово и страстно,выбежав на сцену, в зале танцевали,пели под бузуки, а певец прекрасныйс греческим ансамблем – сердце разрывали!Как впитала песня Греции волшебнойгорный и приморский ветер побережья,как плясали люди – как на ниве хлебной,с ветром, поднимавшим лёгкие одежды!Как они плясали на пурпурной сцене —руки влёт раскинув, как орлы, и долуочи опускали, внутренним гореньемприкасались к небу, как касались пола…Пел певец Эллады. Вторили гитары.Слёз струились капли по щекам и шее.Греческие боги меж рядов виталив танце легкокрылом, песнею немея…Окружали горы и вздымалось моребирюзово-белым гребнем на прибое.Отрыдали звуки и бузуки, вторя, —улетали боги мимо нас с тобою…Вальс. Равель
«Я задумал это произведение как своего рода апофеоз венского вальса, впечатление от кружения которого фантастично и фатально. Я поместил этот вальс в обстановку императорского дворца, приблизительно около 1855 года».
Морис Равель, 1928 г.Так начинался вальс[7]. В холёной Венесгущались облака. Звучат фаготы.У Габсбургов сумбурно представленьео будущем династии. А боты,накидки и плащи, и скрип кареты —преддверие к несмелым звукам вальса…И вот он начинается. В просветах —голубизна. Особо удавалсявальсирующим парам бег по залам,по анфиладе комнат, до балконов!Звучала музыка, влюбляла и взывалавсё к новым реверансам и поклонам!Но что это: затишье перед бурейиль «танец на вулкане» войн грядущих?Уже – камланья разъярённых гурийи обречённость армий, в смерть идущих!Так не похож на вальс финал и крикив агонии всплакнувших инструментов!Поёт обрывки вальса соло скрипки,утраченного мира монументом…И – замирает притча венской были,и притча миру, павшему в руинах, —теперь лишь вспоминать, как нежно плылив том вальсе пары, слившись воедино…Бартоку
после прослушивания сонаты для двух фортепиано и ударных инструментов Бэлы Бартока
Возьми меня, возьми меня в странучистейших рек от горного истока, —я проплыла по жизни не однупучину вод, пришедши издалёка…Я тоже понимаю речь лесов,скрывающих в себе разбой и святость!Я упиваюсь музыкой басовтвоей сонаты, что плывёт на радостьнад головами слушающих жизнь,вцепившихся в сиденья от волнений…В штормах гармоний ветренных – держись,мой бунтовщик, мой музыкальный гений!Приговори меня к ударам в гонг,спаси меня в бурлящих фуг потоках,духовной власти музыкальный бог,верховный жрец и плачущее око…Тебе – хранить пассаж душевных мук,мне – уходить с душою потрясённой!Кружит под потолком последний звук,незримым ветром кверху унесённый…Играют Стравинского
после прослушивания октета для духовых инструментов Игоря Стравинского (1882–1971)
То русской попевкой, то вальсом, то скачкой,то сальто Петрушки (трамбон и фагот) —играют Стравинского… Начат враскачку,октет, галопируя, залом идёт!То вскрикнет кларнетом, то флейтою взвизгнет,то яркой трубою закончит кульбит, —живою водою остывшее сбрызнет,атакой стоккатною зал окропит.Как «кушать» её, эту музыку улиц,с парижских балетов пришедшую к нам?Событий тех лет дуновенья вернулись,и Дягилев пальцем ведёт по усам…Я где-то не в теме, я что-то не знаю,я как-то бы меди умерила власть…Играют Стравинского. Зал замирает.И только на сцене – фактура и страсть!Вивальди в Яффо
после скрипичного концерта Вивальди в стенах Армянской церкви в Яффо
Я задыхаюсь! Музыка Вивальдипроникла в стены храма. Скрипачамивзлелеянные звуки – служат морю,что за окошками колышется лениво…Я пробиралась к вам, гармоний ради,обычным жарким днём. А на причалестояли рыбаки. И, ветру вторя,колокола звонили в церкви у обрыва.Нас собрала здесь доля иль случайность, —две сотни обезличенных и сирых,в сравненьи с музыкой, в такую мощь и святостьнас вовлекающей, что арки заструилисьи задрожали! Нераскрытость тайныАнтонио Вивальди. Блеск и силастаринных скрипок. И шероховатостьплит под ногами – воедино слились.Служенью музыке, как Яффо – морю служит,век обучались музыканты в чёрном.Помеченные грифом, станом нотным,они уходят с зачехлёнными смычками,оставив тень Вивальди… Долго кружитего концерт, в часовню заточённый…Наружу – к морю! Тель-авивский потныйсубботний вечер разливается над нами!И если ты владеешь нотным станом…
после прослушивания Квартета № 3 для струнных Виктора Ульмана, задушенного газами в Освенциме в октябре 1944 года
И если ты владеешь нотным станом,как станом девушки, прильнувшей в страсти нежной,ты пишешь музыку и в «гетто образцовом»,и место написанья – Терезин…До «окончательных решений», город странныйраскинул улицы бараков тьмы кромешной.Там, неопределённостью окован,писал квартет «мишигене»[8] один.Какая, к чёрту, неопределённость?Задушен газами в Освенциме с семьёю.Задушен вместе с песней и квартетом,и оперой, написанной в стенах, —не «плача на брегах рек вавилонских»,писал, творил натруженной рукою…Гуманным антропологом, эстетом, —он музыкой судьбы ввергает в прах!Мелодия его кричит и плачет,потом тебя баюкает в бараках…И теме ностальгической и нежнойпротивопоставляет гром сапог.…Сегодня ночью, вновь огнём охвачен,взывает Юг о помощи от мрака,детей прижав к груди, бомбоубежищопять наполнив чрево… Вэйз мир[9], бог!Виктор Ульман (1898, Тешен – 1944, Освенцим) – австрийский и чешский композитор еврейского происхождения. Родился в еврейской семье кадрового военного. В 1909 году семья переехала в Вену. Изучал право в Венском университете, брал уроки музыки у Йозефа Польнауэра, сблизился с шёнберговским кругом. В 1919 году переехал в Прагу и по рекомендации Шёнберга поступил под начало композитора Александра Цемлинского в Новый немецкий театр, где прослужил в должности капельмейстера с 1922 до 1927 год, затем на непродолжительное время возглавил оперный театр в городе Усти-над-Лабем, но быстро вышел в отставку из-за чрезмерной для небольшого городка радикальности репертуара. В 1929–1931 годах был дирижёром в Цюрихе, увлекся антропософией, открыл антропософскую книжную лавку «Новалис» в Штутгарте, в 1931 году вступил в антропософское общество Чехословакии. В 1933 году магазин разорился, Ульман с семьёй вернулся в Прагу. 8 сентября 1942 года вместе с женой и сыном Ульман был депортирован в лагерь Терезин, где в течение двух лет сочинял и выступал с концертами в музыкальном театре. 16 октября 1944 года его вместе с женой перевезли в Освенцим, где через два дня умертвили в газовой камере.
Прага Марины Цветаевой
Прага Марины
Сюда вели дороги. И стремиласьсюда, к супругу, тёплая душа!Вот в этом доме вновь соединилисьи Прагою гуляли, не спеша…Вот здесь учился. Здесь она стиралаи куховарила холёною рукой.Страна благоволила к ним. Давалакакие-то гроши на их постой…Но плыли рифмы! Ими захлебнувшись,она писала ночи напролёт!(Под тяжестью Горы, бледна, согнувшись,вот здесь, по этим улицам бредёт…).Под тяжестью Конца она писалаугрюмых строк о мести и судьбеволшебные созвучья… и читалаих, преимущественно, ночью… и – себе…Вот здесь она заказывала чаюи мучилась ершистою строкой,здесь – кладбищем бродила и в отчаяньиглядела в воду Влтавы колдовской…Что мне осталось? Горьких фраз прочтенье,да строк поэм печальных острый нож,да засвидетельствовать тихое почтеньефигуре Брунцвика, что на неё похож…Марина и Сергей
Ему не позавидуешь – Маринаженою неудобною была,а тут ещё – невзгоды, и чужбина,нет денег – эмигрантские дела…Она стремилась и старалась очень,чтоб обеспечить хоть какой-то быт!Но то платёж за булочки просрочен,а то – суповник праздничный разбит.Мешали рифмы. Дочка тянет юбку,и сын кричит, хоть звать былинно – Гор.В белогвардейских судеб мясорубкувовлёк их исторический позор!Сергей учился в Университете, —учёба и семья, стипендий – пшик…Под Прагой, в доме, ждут Марина, дети.И он в ответе за семью, – мужик!Бывало всякое – огромным сердцем нежнымвлюблялась, гениальная любить!Хотела развестись. Но к узам прежнимвновь возвращалась, чтобы рядом быть!Марина и Сергей. Судьбой вошедшив историю литературных пар,здесь проживали бурный, сумасшедший,талантливых сердец шальной пожар!Деревни Марины
Обнимаю то самое дерево,что любила Марина… Избушкою,где Марина жила, куховарила,умиляюсь, хоть ветха изба…И стою перед входом потерянно, —не рублём золотым, а полушкою, —перед той, что светила, как зарево,многоликой любови раба!Во Вшеноры въезжаю на станцию(только стены расписаны граффити) —всё как прежде: и столб «пастернаковский»,где молила небесной любви…В этой чешской глуши – иностранцами,чуть значимей, чем нищий на паперти,ею писаны, в горе и напасти,строки, – «русский олимп» обрели!Вот стоишь у окна, отрешённая,после долгой прогулки покосами.Дом в низине, а церковь – охровымикамельками, в описанный вид…Затянувшись врачом запрещённымии губительными папиросами,ты восходишь созвучьями новымив мир поэзии русских элит!Как жаль любви…
В завершение кружения по «цветаевским» местам Пётр Вайль, российский и американский журналист, писатель, радиоведущий, рекомендует лучший в Збраслове ресторан «Skoda lasky» – «Жалко любви», по названию всемирно известной польки композитора Яромира Вейводы, родившемся и жившем в этом доме:
«Жалко любви, которую я тебе дала.Так бы всё плакала и плакала.Моя молодость унеслась, как сон.От всего, что было, в сердце моем только память».(«Skoda lasky»)Здесь памяти Марины – «Skoda lasky».Как жаль любви в разгар её цветенья! —сердечного героя откровенийв деревне Йиловиште не забыть…На вилле у Чиркова, как из сказки,возник в дверном проёме… Боже правый!Как сердца стук унять? На берег Влтавыбежать с любимым – до зари бродить!Как жаль любви! Сын Гор, иль Мур – Георгий(хотелось бы – Борисом…). Ариадна —ладошкой тёплой по плечам отраднодоверчиво и нежно проведёт…Вчера встречались у прибрежной горки(так зябко, если шалью не укрыться).В груди трепещет сердце тайной птицей!Когда ещё мой князь ко мне придёт?Любить – не предавать! Любовь – как святость.Глаза сверкают жаждой откровений…В любовь – как в бездну! (Рифму под сомненьепоставить может и поэт, и бог.)Позволена ль свиданий тайных радостьтой, чью судьбу за юбку держат дети?Любила, как последний раз на свете!Как жаль любви, ушедшей за порог…Марина попала в Прагу в 1922 году. Здесь ее ждал муж С. Эфрон, который на тот момент учился в Карловом университете. Они поселились на окраине Праги. М. Цветаева очень любила гулять по улочкам Праги, она часами могла наблюдать за рекой Влтавой и ее прекрасными островами. А Петр-шин холм на берегу реки стал даже героем ее «Поэмы Горы». Во времена язычества это было место поклонения богу Перуну. Именно здесь княгиня Либуше предсказала рождение Праги. Дорога по старым улочкам Малого града к Карловому мосту – и есть та самая дорога героев «Поэмы Конца». Поэтесса любила бывать на Древнем Малостранском кладбище. Недалеко от Староместской площади находилось здание, где располагалась редакция газеты «Воля России». Это одно из самых популярных эмигрантских изданий того времени. Главным редактором был Марк Слоним, друг Марины Цветаевой, благодаря которому тогда были напечатаны некоторые ее произведения. По пути из редакции поэтесса часто заходила в кафе «Славия». Замечательный панорамный вид и непринужденная атмосфера привлекали сюда творческую интеллигенцию и литераторов.
В Праге были написан поэтический диптих М. Цветаевой: «Поэма Горы» (февраль 1924 г.) и «Поэма Конца» (июнь 1924 г.). Эти произведения стали отражением чувств поэтессы к Константину Родзевичу, описанием великой любви и крушения неудавшегося романа.
Однажды Цветаева гуляла по столичным улочкам и увидела статую Брунцвика. Она нашла в его облике сходство с собственной внешностью. Так Цветаева и называла потом каменного рыцаря Брунцвика: «…друг в Праге… похожий на меня лицом».
Памятник Моцарту в Вене
Моцарт в Императорском саду.Стройный, грациозный, неуёмный!К саду, с преклонением огромным,к Вам с букетом красных роз иду![10]В юности с влюблённой ноты к Вамначинался день, событий полный.«Реквиема» траурного волныправду жизни открывали нам.Помню, увлечения своия под «Рондо» Моцарта играла,про рефрены часто забывалаи лила в подушку слёз ручьи.«Дон Жуан» был сыгран, и не раз,сцена – жизнь, а зрители – далече…Помню ту, особенную. встречуи огонь восточных чёрных глаз!Я тогда по-Моцарту жила, —без раздумий, весело и бойко!А потом, как тот солдатик стойкий,незаметно к зрелости пришла.Вам, Маэстро, не пришлось взрослеть:Вы, как прежде, – ангел-Керубино…Соберу печали воединои пообещаю не стареть!Близимся к финалу, на беду.Хоть ещё играем «Интермеццо»…Вами очарованное сердцек постаменту розою кладу.Пауль Клее
«Nulla dies sine linea» («Ни дня без линии!»)
Плиний
Я знала, чувствовала – Пауль где-то рядом! —полуребёнок, полубожество…Была любовь – спонтанно, с полувзгляда,с полукасанья к сущности его!Я понимаю, что сказать хотелискупые линии на мешковине грёз,как виртуальный мускул в слабом телемечту гиганта на полотна нёс!Как превращалась точка над пространствомбеспомощности – в яркую звезду!«Ни дня без линии!» – с завидным постоянствомя повторяю аксиому ту,я утверждаюсь бравым восхожденьемс клюкой на каждодневный Эверест, —не ограничен трудностью движеньяхмельной адреналин моих небес!«Ни дня без строчки!» – Пауль где-то рядом —передаёт тепло своей руки…Из-за оков судьбы – обоим надок строке и к линии пробиться! Вопреки.Пауль Клее (1879–1940), родившийся в Берне в семье музыкантов, некоторое время колебался, что предпочесть – путь музыканта или художника. Выбор остался за живописью. Клее переехал учиться в Мюнхен. Встреча с В.Кандинским и Ф. Марком имела для него решающее значение, о чем свидетельствует участие во второй выставке «Синего всадника». С 1920
года началась его преподавательская деятельность в Баухаузе. После прихода к власти Гитлера в 1933 году Клее не испытывал иллюзий относительно будущего Германии. Немцы объявили его «безумным евреем», после чего Клее с семьей уехал в Швейцарию. Вскоре после переезда в Берн Клее тяжело заболел. Он стал терять подвижность в руках, но при этом работал с поразительной, даже для здорового человека, активностью.
Открытие в июне 2005 года в Берне Центра Пауля Клее стало одним из важных событий в музейной жизни ХХI века. Впервые наследие одного из крупнейших мастеров ХХ века представлено в таких впечатляющих масштабах. Основу собрания составили произведения из Фонда Пауля Клее, мемориальные вещи, документы из личного архива художника, работы из ряда частных коллекций. Пауль Клее, прославившийся как живописец, был талантливым писателем, музыкантом, философом. Выставка рассказывала о болезни Клее (склеродермии) и представляла интерес не только с творческой, но и с медицинской точки зрения. Здесь можно представить всю сложность существования человека, лишенного возможности активно жить. Среди экспонатов – столы с приборами и устройствами, позволяющие посетителю самому испытать ощущения больного, но духовно активного человека.
Под одним из своих рисунков 1938 года Клее сделал такую запись: «Nulla dies sine linea». Цитата из Плиния, описавшего античного художника Апеллеса, который ежедневно упражнялся в своем искусстве. Больной мастер в конце жизни неуклонно следовал этому правилу. Выставка «Пауль Клее. Ни дня без линии» стала следующей после ретроспективной, и на ней уже были представлены последние работы 1938–1939 годов. В проявлении любви к своему национальному гению жители Берна не ограничиваются стенами музея, что получило развитие и в окружающем пейзаже. Выйдя из музея, можно прогуляться по парку скульптуры, отдохнуть в тени берез, созерцая спокойную гладь озер и величественное молчание древних валунов, посетить кладбище, где покоится прах художника. От музея в город через парк ведут так называемые «дороги Клее», включающие в себя мемориальные остановки, посвященные местам, где часто бывал мастер.
Я, как он, – напишу про окружность…
После спектакля, где Михаил Барышников читал и «танцевал» 50 стихотворений своего друга Иосифа Бродского
22-го января 2016-го года в городе Тель-Авив – Яффо.Он стихи танцевал, как танцуют последнее танго, —после ночи навзрыд, когда счёты с земным сведены…Стая книжных страниц, высотою заоблачной планки,танцевала, да так, что исподние были видны!Белый стул танцевал, испомаженный кремом для тела,и являл сухожилья кентавра, где было дано…И открытого рта фуэте прямо в космос летело! —по-немому, безгласно, как мим в чёрно-белом кино.Замыканья щитка, как нейроны у публики в зале,порождали разряд (и как следстие – взрыв и испуг!).Провода оголённые боль и тоску танцевали,что в запасе у гения были, как ром и мундштук.Тренированным телом и мускулом выпуклым каждымтанцевал Тель-Авив на стихи о простуженных днях,о простом одиночестве в небо идущих отважных,кто стихи танцевал, кто парил на крылатых конях.И остатки заплаканной обескураженной волина ступеньках, на выходе, вместе в пучок соберу, —танцевали стихи моей собственной прожитой доли…Я, как он, – напишу про окружность – и тихо умру.Читаю Бродского…
Я Бродского читаю. День во мнеперемешался с ночью. Руки стынут…И с жадностью вселенскою придвинутчай обжигающий к губам. Как на огне,как на поленьях адовых, душа,читая строки, ёжится и стонет,а взгляд – каким-то зреньем постороннимс листа вбирает буквы, не спеша.Чем так пленит и ранит монолог,такой огромный и такой негромкий?Я слышу, как струится голос ломкий,и – мозг взрывает непевучий слог!Читаю Бродского. Весь день, всю ночь, всю жизнь,читаю, упиваясь словом каждым…Войдя строкою в жизнь мою однажды,до выхода в финале – удержись!Не мантрой, не молитвой, а судьбой,на вымученных родственных дорогах,да поцелуем в темечко от богамечтаю оцерквлённой быть тобой…Благославляю мысленно твой след,и мессианским именем болею…Читаю Бродского. Вот всё, что я имеюсквозь призму стран и строчек, зим и лет.