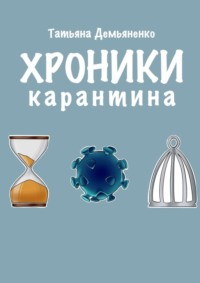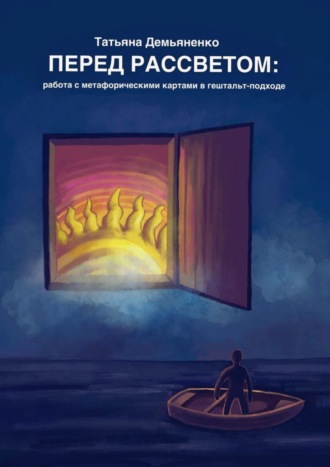
Полная версия
Перед рассветом: работа с метафорическими картами в гештальт-подходе
В терапии, используя в том числе карты, мы открываем человеку его самого, а он может использовать это знание, как внутреннюю опору.
Кризис внешний и внутренний
Наша жизнь и чувство витальности в ней рождается в контакте. Реакция на мир – это процесс, который в норме является непрерывным. Степень этой реакции может быть разной. Есть факторы, не реагировать на которые очень сложно или невозможно. Такое происходит только в сложных нарушениях деятельности организма. Например, существенное изменение температуры окружающей среды, степени освещенности. Стихийное бедствие или техногенная катастрофа. В реакцию на такие изменения человек включается всем собой, потому что происходит угроза физическому выживанию.
От других факторов проще абстрагироваться, и в зависимости от того, какая потребность сейчас актуальна, человек выбирает из фона, на что именно реагировать. Голодный – на пищу, одинокий – на людей. И именно в области этих стимулов, не связанных с потребностью в безопасности, часто процесс реакции на мир останавливается, замирает. Такое может происходить, когда человек сталкивается с каким-то из двух типов кризиса: внутренним или внешним.
Во не замеченной оказывается актуальная на сейчас потребность. Глубоко внутри, человек жаждет близости, но убежден, что важно достигать, выше взбираться по служебной лестнице. Вкладывает туда все больше сил, но остается голодным. И замирает…. Работа больше не приносит удовлетворения и двигаться дальше нет энергии. А распознать истинную потребность оказывается сложно. Реакции на мир больше нет. Ступор. Депрессия. внутреннем кризисе
Во потребность не изменяется, но ее привычные пути удовлетворения разрушаются. Например, из-за потери работы или развода. Что-то меняется извне, и чтобы вновь свободно реагировать на мир, нужно сначала пережить потерю. Этот процесс называется гореванием. В рамках этого раздела я рассмотрю работу с ПТСР (посттравматическим стрессовым расстройством) и гореванием, как с замороженными, отсроченными проявлениями внешнего кризиса. внешнем кризисе
Я попробую рассмотреть кризис пользуясь метафорой вязаного свитера. Предположим, у Вас есть любимый свитер. А, возможно, даже, единственный. И вдруг нитки истираются, вслед за маленькой дырочкой очень быстро образуется большая дыра. Дыра – это то, что утеряно в кризисе. Весь остальной свитер – это неизменная часть жизни. Проблема кризиса – это взгляд на него «из дыры», когда важной становится только утерянное, а то, что сохранно, не замечается. Это называется туннельным мышлением, и такой взгляд может сохраняться годы. Как фиксация на утраченном. «Хочу, чтобы свитер стал прежним» – а это невозможно.
В ответ на испорченный свитер обычно происходит ряд цепных реакций. Сначала, дыра не замечается, нет привычки этот свитер разглядывать так тщательно каждый день. Но именно поэтому она и расходится все шире, больше невозможно игнорировать ее. Потихоньку факт наличия дыры сменяется потребностью обнаружить ее размеры. Сопоставить с остальным свитером, сохранным. Что делать дальше? Чинить или выбросить? Иногда, люди, утратив что-то одно, начинают кардинально менять все остальное. Например, переезжать в другую страну. Обычно это не способствует прожитию кризиса, а больше похоже на бегство.
«Чинить» свитер – это оценить масштабы потери. Иногда расширить дыру, чтобы ее эстетичнее залатать. А вот способов починки может быть очень много, и в этом и проявляется творчество, творческое приспособление. Аппликация? Штопка? Распустить свитер совсем и связать другое изделие – для меня это тоже из способов починки, но более масштабной. Правда в том, что после этих преобразований свитер становится уникальным, единственным в своем роде, особенным.
Особенности терапевтической работы с кризисом – не стоит создавать спешку и пытаться чинить дыру за клиента. Важно дать время клиенту заметить дыру, но не стоит игнорировать и степень сохранности свитера. Терапевт может видеть свитер целиком, в тот момент, когда клиент ничего кроме дыры не замечает. И это другое, более объемное видение, может быть ресурсом для клиента. Но может и вызывать сильный гнев, ведь двинуться в сторону разглядывания свитера таким, какой он есть – это признать, что все изменилось. А, значит, встретиться с болью, оживить горе.
Почему я выбрала именно свитер? Потому что разрыв одной нитки, если его игнорировать, приведет к тому, что все изделие распустится. Иногда совсем небольшая для стороннего взгляда проблема становится вот таким катализатором, когда личность начинает разрушаться.
Мне кажется важным помнить, что даже разорванные нитки – это все еще нитки, изделие может утратить целостность, но никогда не поздно создать нечто особенное из того же самого. Никогда не поздно, пока мы живы.
В результате кризиса появляется создается идентичность, обретается ответ на вопрос, кто Я. Идентичность нельзя обрести однажды и навсегда. Мы меняемся, и, потому, невозможно держаться за прежние знания о себе. Необходимость кризисов продиктована этими изменениями.
Идентичность может быть и результатом, и процессом. Процесс идентичности относится к тому, кем я являюсь именно сейчас. С кем я соотношу себя сейчас. Результат идентичности появляется в итоге некоего индивидуального для каждого результата числа ассимиляций процессов.
Иногда идентичность надстраивается. Я-гештальт-терапевт. Я-гештальт-терапевт, использующий метафорические карты в процессе терапии.
Иногда для обретения идентичности прежняя должна разрушиться. Приобретая идентичность «гештальт-терапевт», я разрушаю идентичность «обучающегося гештальт-терапии». Нельзя быть одновременно девочкой и женщиной в результативной идентичности, но в процессе движения от идентичности «девочка» к идентичности «женщина» можно себя попеременно идентифицировать то той, то другой. Когда прежняя идентичность пытается разрушиться ради обретения новой, такие процессы мы называем «кризисами». Кризисы бывают инициированы внешними событиями – беременностью. А могут стать результатом внутреннего процесса – наступлением менструации.
Какими бы причинами не был вызван кризис, в нем возникает два вектора движения – в развитие (разрушение старого ради строительства нового) или – в стагнацию (ради безопасности человек пытается оставить все как есть). Именно попытка остановить развитие в кризисные периоды в основном и приводит человека в терапию.
В кризисе конкурируют две идентичности. Первая кажется безопасной в силу изученности и понятности. Вторая пугающей в силу новизны. Парадоксально то, что чем менее поддерживающая и опорная утрачиваемая идентичность, тем сложнее совершить переход. Кризис откладывается тем, что «мне бы еще остаться и дорасти в этом качестве», но среда уже не является питающей. Чаще всего это невозможно сделать, и надежда «дорасти» приводит к угасанию.
Ребенок, которого резко перестали кормить грудью, может учиться пользоваться зубами и поглощать предлагаемую вместо молока пищи. А может упрямо ждать возвращения прежнего питания, не требующего приложения усилий, пока не умрет с голоду. Каждый кризисный момент даже во взрослой жизни чем-то похож на такое вот лишение. Внешний кризис, когда грудь отняли пока я еще в ней очень нуждался. Внутренний – грудь больше не питает, в молоке не хватает элементов, необходимых мне для роста.
Если внешний и внутренний кризисы совпадают, то их прохождение, как правило, значительно проще. Если они расходятся во времени, то внешний кризис может быть пройден ценой остановки внутреннего. Например, ребенок начнет есть другую пищу, кроме молока, но большинство веществ из нее не будет усваиваться, он начнет худеть и остановится в развитии. Или они станут токсичными для него: еще нет чего-то внутри, способного их расщепить, и может возникнуть угроза здоровью или жизни.
Чем в эти кризисные моменты «между идентичностями» могут быть полезны карты (и вообще любая метафора)? Путем метафоры мы можем постепенно знакомиться с новой идентичностью. До появления психологии, как науки, люди активно использовали сказки и мифы в качестве таких поддерживающих средств. Я еще не знаю, как это развернется в моей жизни, но мне уже это знакомо через опыт предков, концентрированно выраженный в символической форме. Тревога новизны снижается. Метафора становится новой опорой в процессе перехода.
При этом терапевту может быть знаком этот кризис на собственном опыте именно как путь, который был пройден. Но что появится на этом пути у клиента, в чем будет проявляться его собственная уникальность, мы знать не можем. Одна единственная карта вызывает массу разнородных проекций у разных людей. Наша общность в том, что мы все проходим кризисы, но как именно, и что возникнет в результате, мы не можем знать, можем лишь предполагать. Есть канва, остов метафоры. Сказка с сюжетом свадьбы. А вариантов развития этого сюжета великое множество. Пройденный кризис – это лишь мой сюжет, сюжет моего уникального бытия в этом мире, который внешне может выглядеть типовым, но именно внутри переживаться особенным образом.
Метафора проживания кризиса
Если говорить о кризисе простым языком, то это путь из точки, в которой меня уже нет в точку, в которой меня ещё нет. Кризис – это «между». Поэтому, по большому счету вся наша жизнь является непрерывным кризисом. Как только она таковым быть перестает, то заканчивается. Но в психологии непрерывность жизни кризисом не считается. Во всяком случае таким, который выделили бы в отдельную категорию. Давайте разберёмся почему. Например, я болею ветрянкой первый раз. Это кризис. Организм никогда не встречался с ней, ему необходимо адаптироваться. Если же далее у меня выработались антитела и возникает иммунитет, то встреча с ветрянкой (совсем новая) кризиса уже не вызовет. Хотя сама по себе встреча может случиться совершенно в других условиях.
А бывает так, что несмотря на болезнь, иммунитет не вырабатывается, и тогда ветрянка грозит нам снова. Давайте пока запомним этот факт и отойдем немного в сторону.
Итак, кризис – это пространство «между». Работа уже очень сильно не нравится, но менять ничего не буду. В браке непереносимо, чувствую себя очень несчастным. Так как есть не хочу, как хочу, не знаю. Или знаю, но совесть не позволяет. Или знаю, а этот противный другой со мной не согласен.
Мне кажется, очень важно, на чем именно мы «едем» в кризисе. Я это четко почувствовала в самолёте и в метро. Я попадаю куда хочу, а ориентация нарушается. Во-первых, этот путь мне теперь не проделать самой (то есть не выработать антитела на ветрянку). Во-вторых, я не найду обратной дороги, не смогу сделать шаг назад.
«На самолёте» кризис проходят люди, когда разрывают связи с прошлым резко и радикально. Иногда без слов, без объяснений. Сегодня был здесь, а завтра там. Мне кажется, это не более, чем бегство от кризиса. Тогда в новом месте он сначала игнорируется, а потом вновь обрушивается на человека. Не улететь от ветрянки на самолёте. Хотя от жены можно. А от войны так бежать (чем быстрее, тем лучше) иногда единственный шанс спасти жизнь. Поэтому все зависит от контекста. Чем больше в нашем кризисе внутренних факторов, тем целесообразнее его проходить медленнее.
«На метро» проще вернуться назад, пробовать шажочками, по одной остановке совершать изменения. И вот так, очень нескоро, особенно если хотя бы иногда ходить и по поверхности тоже, карта метро наложится на карту земли. Но муторный, я вам скажу, этот путь. Алгоритмичный. Кому-то, впрочем, он подойдёт хорошо. Тем, кто привык мыслить «если-то-иначе». Сложность ещё в том, что пока спустишься под землю, пока поднимешься… Оказывается, что пешком было бы куда быстрее. А человек и не подозревал об этом. Привык, что все просто и по стрелочкам. «В метро» в кризисе можно зависнуть надолго, курсируя туда-сюда. В фильме «Долгие проводы» герой так и остался жить в кризисе в таких вот перебежках. Но в метро можно передохнуть, когда устал ходить, набраться ресурса.
«Пешком». Самый эффективный способ в том смысле, что очень хорошо удается рассмотреть, что вокруг. Легко поменять направление или обойти препятствие. Скорость восприятия того, куда я иду вполне соответствует скорости движения, даже остаётся время подумать, зачем я туда иду и от чего ухожу. Все бы хорошо, но уж очень медленный способ. Из Петербурга в Москву долго придется идти, и тогда это тоже зависание в кризисе. А иногда ещё и опасно. Одно дело ходить по городу, и совсем другое по темной трассе.
«Наземным транспортом»: от маршрутки до поезда. Его очень хорошо удается сочетать с пешим способом. И в отличие от метро можно тут же выскочить из него, и понятно, куда идти назад. Ведь путь проходит той же дорогой.
На мой взгляд, пройденный кризис характеризует не то, где я оказался наконец. Не прибытие на вожделенную станцию. Не новая работа, новые отношения и прочие изменения. А осознавание, как именно я этого достиг, как поучаствовал в этой ситуации, пользуясь каким транспортном сюда приехал. Что погнало меня в этот транспорт, чего мне дома не сиделось. И тогда столкновение с похожей ситуацией уже не будет для меня кризисом. Так как я знаю дорогу. Если этого не происходит, то внешнее вновь скатывается во внутреннее. «Работа та, о которой мечтал, но я вновь ее ненавижу. Она истощает.»
Чаще всего именно внутренний разрыв мы пытаемся «соединить» внешними действиями. И тогда размеренный пеший шаг подходит не для путешествия из кризиса. А для его пристального рассматривания. Иду и вдруг вижу яму. Откуда взялась, что в ней. Заглянуть и потом заделать! Или всю жизнь обходить ее? Но, когда кризис – это реакция на внешние изменения, то самолёт оказывается иногда самым адаптивным способом его прохождения. А ландшафт уже на новом месте будете рассматривать. Пешком.
О депрессии и жизни
В тяжелом кризисе, в котором я ощущала себя скорее мертвой, чем живой, меня поразило одно наблюдение: в те моменты, когда ко мне возвращалась энергия, когда я переставала чувствовать себя выключенной я начинала ощущать физическую боль. Боль от зажимов в шее, боль от старых травм, боль от растущего зуба мудрости. Эта боль обрушивалась на меня одновременно с ощущением жизни, как будто являясь расплатой за то, чтобы чувствовать себя живой. Позже она притуплялась, ее сигналы уже не были столь острыми. Но порезанный палец, обожженная рука, ушибленное колено напоминали о себе довольно долго.
У живой меня легко катятся слезы. Слезы горя или слезы гнева. Слезы обиды или слезы радости. Иногда я просто задыхаюсь от боли, получив какое-то известие. Или, даже, при просмотре фильма. Или при чтении книги. Но, пережив состояние полного бесчувствия, выключенности, отгороженности от жизни, я ни за что не согласилась бы уже расстаться с той болью, которую возможно чувствовать.
Слово «депрессия» для меня не просто термин, который используют психиатры и психологи. Не просто бытовое название апатии. А огромный отрезок жизни, которой не было. Жизни, заключенной в темнице, в которую я посадила себя сама и выкинула ключ от двери. Жизни без риска, без ошибок, без боли, без вкуса, без запаха. «Спокойной жизни», к которой я так стремилась, не зная, что покой – это удел мертвецов, а удел живых – волнение. В контрасте с этим отрезком, с этой частью моего пути я особенно ценю иную жизнь.
Жизнь, иногда наполненную ужасом, бессилием, несправедливостью, отчаянием, острыми ударами судьбы. Но также жизнь радостную, скоротечную, пронизанную любовью и удивлением от той человечности, которая хранится даже в самых истерзанных сердцах.
Я знаю, что в собственной глубокой заморозке только возвращенная боль способна пробить брешь в этой вечной мерзлоте.
Иногда это происходит через ее разделение с кем-то, кто уже прошел этот путь, и именно потому знает, что у тебя свой собственный, и можно лишь быть рядом и терпеливо ждать, а не предлагать свою дорогу.
Иногда через погружение в более глубокие слои этого льда, которые защищают от мира робкий росток угнетенной души, она набирается сил и изнутри лед наклевывается словно скорлупа цыпленком.
А иногда внешний мир оказывается столь агрессивным, что вспарывает лед снаружи, повсюду разводят костры и нет никакой возможности больше оставаться под его защитой: или дашь отпор, или погибнешь.
Но можно сделать иной выбор: последние силы тратить лишь на то, чтобы наращивать слои льда. Из страха встретиться с болью, которая когда-то казалась невыносимой, заморозить себя навсегда. Для возвращения из объятий Морры требуется вера: эту боль я могу пережить, она конечна.
Для этой веры нет никаких оснований, когда-то пережить ее было невозможно, так она была сильна. И именно потому потребовалась настолько глубокая анестезия. Доверять вопреки своему опыту – это почти непосильная задача. Доверять от отчаяния. Доверять, потеряв все надежды. Отдаться чему-то высшему и непонятному. Мудрости своей души, которая более всего на свете хочет быть живой.
Когда лед тает, текут потоки воды. Потоки неимоверной силы, как весенние горные реки, сметающие все на своем пути. Слезы кажутся бесконечными, они ворочают острые булыжные громады боли как песчинки. Но именно в этой точке зима сдает свои права весне. Траве лишь предстоит зазеленеть. Набухнуть почкам. Запеть птицам.
Начало выхода из депрессии порой столь тяжело: вокруг лишь грязь да серость, что именно на этом пике отчаяния люди часто расстаются с жизнью. Именно в тот момент, когда она возвращается. В февральских окнах чудесное голубое небо, и оно манит куда больше невзрачной земли. Нужно еще только чуточку веры в то, что так будет не всегда. Весна близко…..
У боли есть одно важное свойство, которое, на мой взгляд, является ее основной функцией: она привлекает внимание к тому, что ещё можно спасти. Обезболивая телесные ощущения, но ничего при этом не делая с источником, можно лишиться зуба, или жизни. Игнорируя и стараясь анестезировать боль психическую, люди лишаются чувства витальности и ощущают себя живыми мертвецами, при этом разрушительный процесс в психике продолжается, просто незаметно.
Психическая боль сопровождает жизнь, терапия – это попытка услышать ее сигналы, и принять их во внимание, это сообщение о потребностях, столь важных для человека, но «неправильных, стыдных, бессмысленных». Об остановленном горевании. О подавленных талантах, «в которых я все равно не стану самым лучшим».
Физическая боль помогает выжить телу, психическая – личности, но они переплетаются между собой, и подменяют друг друга. А бывает, что единственный способ чувствовать себя, знать, что я есть – это переживание физической боли, менее слабые сигналы, чем боль, просто не достигают сознания. И тогда люди (кстати, не только подростки, как часто принято считать) режут себя, дают себе сумасшедшую нагрузку в спортзале или работают до седьмого пота, до обезвоживания, до адских мигреней.
Способов почувствовать боль неимоверное множество в отличие от способов переживать себя живым в полноте. Он лишь один, но часто требует неимоверных усилий. Впустить в себя жизнь сможет лишь тот, кто однажды примет скорбный факт, что смерть наступит в любом случае, от нее не уберечься, избегая жизни.
Очень частым запросом терапии является просьба избавить от боли. Но как это ни парадоксально звучит, именно оживление боли – одна из задач терапии. Боль не исчезнет, но вместо смутного тотального отчаяния, в боли появятся оттенки, она развернется гаммой чувств. Обнаружится, что боль далеко не всегда связана с условно-неприятными переживаниями: злости, стыда и вины. Часто (и, на мой взгляд, чаще всего) болит от переполненности нежностью, которую запрещено выражать другим. Подавленная любовь разъедает ничуть не меньше подавленного страха.
Боль бывает от избытка, я сейчас переполнен чем-то, но не выражаю это. Свое любопытство, свою радость, свою злость.
А бывает от недостатка. Я очень хочу что-то, но хотеть мне этого нельзя или получать запрещено.
Эти причины боли часто путают. Пытаясь найти того, кто полюбит, когда самому очень важно любить, проявлять любовь. Пытаясь позаботиться о другом, когда сам очень нуждаешься в заботе, в ее получении. И тогда боль усиливается.
Разговор с болью – это разговор с самим собой. Распознавая нюансы боли, мы становимся хорошей мамой для себя. Вот той самой, которая в нюансах крика младенца угадывает его потребность. Быть может такой мамы никогда не было, и реальная мама предлагала ложечку с едой вместо телесного контакта, или клизму, когда живот болел от голода. Но вырастить хорошую маму внутри никогда не поздно, и именно ее появление кардинально меняет жизнь, потому что получить желаемое теперь можно. Потому что теперь понятно, что именно я хочу, а значит и понятнее, как это достичь. Или пережить бессилие, разочарование, горевание по этому поводу, и хотеть уже другого: того, что возможно.
От многих людей, переживших клиническую депрессию я слышала такую фразу: «Я ни за что больше не расстанусь с болью!». Для меня это звучит, как выбор жизни даже не вместо смерти, а вместо безжизненности. Выбирая боль, выбирают и Жизнь.
Нежить (к работе с депрессией)
Я убеждена, что все мифологические персонажи возникли как попытка описать процессы нашей психики. Язык психиатрии называет иначе все то, чем наполнена культура. Особенному, отличающемуся важно найти название, обозначение. Это делает его понятнее, предсказуемее, и с ним становится возможно контактировать. В этой статье я хочу порассуждать про нЕжить. И о том, как присутствуют эти образы в человеческой жизни, как наполняют ее.
НЕЖИТЬ1, жу, жишь; несов., кого-что. 1. Содержать в неге (в 1 знач.), холить, баловать. Н. детей. 2. Приводить в состояние неги (во 2 знач.). Нежит ветерок. • Нежить мечту (надежду) (высок.) то же, что лелеять мечту, надежду. 2. НЕЖИТЬ2, и, ж., собир. В русской мифологии: фантастические существа (домовые, лешие, водяные, ведьмы, русалки, кикиморы). Всякая н. / Толковый словарь Ожегова
Корни я начала искать в языке, и с удивлением обнаружила первое значение слова. Любопытно же, почему всякая нечисть и слово, связанное с заботой и, вероятно, имеющее общность с «нежность», звучат одинаково? Что их связывает?
А еще можно поставить ударение иначе, разделить слова и получится «не жить». Так и хочется поставить запятую и продолжить. Например, «не жить, а пребывать в фантазийном мире, населенном русалками да домовым, потешками и сказками, миром, в котором символ и реальность тесно связаны и переплетены, внутреннее и внешнее нераздельны».
На мой взгляд, в жизни каждого человека могут возникать такие состояния, когда он нуждается в материнской заботе. Когда ресурсов «справляться самому» и «быть сильным» недостаточно. И тогда появляется вилка выбора. Либо об этой заботе и поддержке просить других (таким образом становясь хорошей, «нежной» матерью для себя). Либо уходить в тот мир, в тот опыт, в котором это делает мама, замыкаясь внутри. Выстраивая между собой и другими неприступную крепость или, что больше свойственно нашей культуре, непроходимый лес. В этом мире человек волен быть кем угодно и творить, что вздумается. Восстановить утраченную справедливость, переживать себя всесильным и бесстрашным, создать себе воображаемых друзей, понимающих без слов, и воображаемых врагов, козни которых не могут ему навредить. Лишь один подвох существует в таком уходе – капля за каплей человека покидает чувство жизни. Она становится не переживаемой, а представляемой. Не ощущением, а мыслью. «Я мыслю, следовательно, существую» – из этой оперы. Картезианская философия и обсессии (навязчивые мысли) – две стороны одной медали, ведь мысль, оторванная от ощущений, от чувств, от канвы жизни, не более чем резонерство. Я могу здесь обозначить свое невежество, ведь глубоко не изучала, что в понятие «мышление» вкладывал Декарт. Но я много раз встречала людей, которые утратили свои ощущения. Точнее, контакт с ними. И поэтому переживают себя неживыми, нежитью, существами потустороннего мира.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.