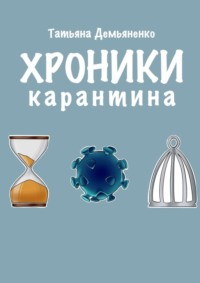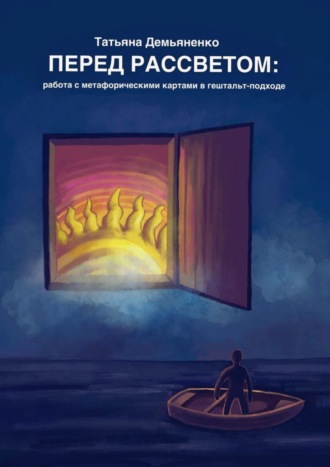
Полная версия
Перед рассветом: работа с метафорическими картами в гештальт-подходе
С чем приходит к нам клиент
Я не люблю обобщать, но сейчас мне очень хочется это сделать в виде метафоры. Мне часто кажется, что клиенты приходят в терапию со смутным томлением и тоской. А внутри очень похожий голос мечты, своей мечты…
Из жизни мечты
Откуда я здесь взялась? Это я помню очень смутно. Кажется, я услышала Зов, услышала мольбу, а потом меня просто понесло как на волнах, все ближе и ближе. И вот я, как семя, зародилась в тебе.
Ты очень долго отмахивался от меня, тебя щекотали мои проклевывающиеся всходы, но ты чувствовал лишь кожный зуд, и стал завсегдатаем аптек, а потом дерматолога. И, хотя ты совсем не удобрял меня, я потихоньку вырастала все выше и выше. И однажды стало невозможно не замечать меня.
Сначала ты удивился, потом даже восхитился на какой-то миг, но потом…. Чем больше ты смотрел, чем больше раздумывал, тем сильнее я трепетала. Я чувствовала твои сомнения, твою обреченность, твои трезвые доводы, и, самое главное, твой страх… И теряла надежду стать для тебя важной….
Так и случилось. Ты пошел за перчатками, и стал выдергивать меня, но у тебя не хватило сил. Ты взял тяпку. И она не помогла, и к тому же тебе было больно. Ты подумал еще немного, посоветовался с другими, и решение было найдено: раундап! А для верности сверху залить бетоном.
Очень долгое время я и впрямь не напоминала о себе. Ты был уверен, что убил меня, но это, к сожалению, или к счастью, не так просто. Ты забыл меня. И свой страх. И свой восторг. И свое удивление. Твоя жизнь стала наполненной покоем. Режимом. Из нее исчезли неожиданности. Это было очень безопасно и…. скучно. Ты начал тосковать. Это было непросто, непонятно почему, ведь именно этого ты и хотел.
Ты стал искать способ оживить себя. Их так много описано в книгах. Ты пробовал отдых, прыгнуть с парашютом, завести новый роман, и еще, и еще…. Тебе были доступны все удовольствия: вкусная еда, комфорт, секс, власть, чужое восхищение. Но тоска лишь усиливалась. Ты будто был похоронен заживо. Под тем самым бетоном, вместе со мной.
В какой-то момент ты начал поиск в себе, отчаявшись найти что-то вовне. И обнаружил ровную площадку. Безукоризненную. Совершенную. Безжизненную.
Тебе нечего было терять, и ты внес хаос и естество в эту бетонную твердь. Ты кромсал ее, бурил, крошил, топтал. И она поддалась! Ты не помнил, что под ней, и не сразу обнаружил меня. А, обнаружив, не смог узнать. Я была желтая, сухая и обезображенная.
Но сердце забилось чуточку сильнее. И еще сильнее, когда ты направил на меня лампу. И еще, когда полил. И так, шаг за шагом, твое сердце снова стало биться, как раньше. Трепетать. А я росла. Ты растил меня.
Я выросла большая-большая, крепкая-крепкая. Теперь мне не нужна была твоя забота, я сама могла быть твоей опорой. Я сбрасывала с себя то, что мне было уже не нужно – кору, листья, цветы, плоды. А ты создавал из них невероятные творения. Когда люди видели их, то в их сердцах что-то кололо. Некоторым удавалось разглядеть там проклюнувшееся семечко.
Гештальт-диагностика при помощи МАК
Я использую два основных способа при диагностике:
– более структурированный – это когда мне нужно получить общие представления о «головах дракона» клиента, их представленности в его жизни, опираясь на динамическую концепцию личности Д. Хломова: шизоидной, невротической и нарциссической;
– более свободный – создающий представление о том, с чем мне придется иметь дело в самое ближайшее время, отражающий взаимодействие фигуры и фона.
Все техники, представленные в этой книге, можно и нужно модифицировать: искажать, дополнять, урезать.
– Из колоды карт с лицами (Альтер Эго, Персона, Персонита) достать в открытую три карты: Я «сам с собой» (шизоидная «голова»), Я «в контакте с другим» (невротическая «голова»), Я «действующий, достигающий» (нарциссическая «голова»). Уделить время описанию каждой карты, какие они? Как взаимодействуют между собой? Что чувствуют друг к другу? Кто главный среди них, а кого вечно задвигают? Что должно произойти, чтобы они сотрудничали? А что, чтобы враждовали и превращались в «лебедя, щуку и рака»? Попробовать идентифицироваться с каждой картой и поискать телесные феномены, соответствующие этой идентификации, возраст, на который себя ощущает каждая из «голов»
При помощи этой техники исследуется преимущественно «персонэлити» – знание о себе. При этом выявляются внутренние конфликты, полярные тенденции психики, способы удовлетворения мета-потребностей в безопасности (шизоидная «голова»), привязанности (невротическая «голова») и манипулировании (нарциссическая «голова»), обнаруживаются фрустрированные потребности. В процессе терапии это знание будет разрушаться, дополняться, уточняться. Клиент часто обращается за терапевтической помощью, когда представления о себе и реальные проявления себя начинают сильно расходиться. Часто выбор делается в пользу сохранения представлений путем остановки процесса жизни: формирования новых потребностей. В терапии происходит обратное – обретается новое, более актуальное знание о себе, позволяющее лучше заботиться о себе. Потому изменения «голов» можно периодически рассматривать в терапии, проводя эту технику с определенной периодичностью. Она делает наглядной динамику изменений.
– «Одна карта».
Одна карта. Когда она лежит на столе: рубашкой вверх или вниз, это карта, кем-то нарисованная. Ее кто-то придумал, вложив в нее какое-то содержание. Но, попадая в руки другого человека, карта перестает быть фиксацией чьих-то фантазий во времени путем изобразительных средств. В руках другого она может ожить. Из статичной картинки превратиться в динамичную.
Карта – волшебная палочка. К картам есть предубеждение, уж очень у многих они связаны с гаданием, с чем-то мистическим и запретным. Но ведь сколько знаний о себе были вытеснены, оказавшись запретными для нашего сознания. Говоря гештальт-языком, «ушли в фон». Предлагая клиенту карту, мы словно просим разрешения заглянуть в глазок в двери, ведущей в его внутренний мир, а не грубо ломимся в эту дверь топором.
Удивительно то, что этот мир обычно бывает скрыт и от самого человека. И если смотреть «внутрь» в одиночку, то минутное озарение очень быстро вновь скроется в сумерках. И лишь показанный другому человеку мир присваивается себе. Естественно, если Другой этот мир признает, замечает, учитывает.
Первоначально это является родительской функцией. Ребенка и знакомят с собой иносказательно, через метафору. Прибаутки, потешки, поговорки, сказки, колыбельные – все это огромный культурный пласт, связывающий нас друг с другом. Родитель выбирает сказки исходя из своих глубинных убеждений о мире, или выражает какое-то яркое отношение к ним. Так закладываются первые представления о правильном и неправильном, допустимом и недопустимом.
На первой стадии развития родитель узнает потребности «за ребенка». И от того, насколько успешен родитель в этом распознавании, зависит появление или отсутствие базового доверия к миру. Но все это важно пока потребности довольно просты и сводимы всего к нескольким, да и средство их удовлетворение одно – мама.
Дальше и потребности усложняются и средства расширяются. Есть можно уже не только грудное молоко, а целый мир разнообразных продуктов. На этом этапе потребность по-прежнему важно узнавать, но также проявлять любопытство. Прояснять, уточнять, и лишь потом предлагать.
Если родитель ригиден в этом месте и все очень хорошо знает за ребенка: чего он хочет и какой он, то самого ребенка он видеть не готов, а подменяет детские потребности своими собственными. Именно на этом этапе собственный внутренний мир может замереть, скрыться за миром значимого Другого. Так из поколения в поколения путешествуют семейные миры.
Иногда, фантазируя по карте, рассказывая какую-то историю, человек обнаруживает, что это история и мамы, и бабушки, и прабабушки. И здесь возникает растерянность: а существует ли моя, отдельная от них жизнь? Может ли во мне быть что-то особенное, лишь мое, или я всего лишь клон своего предка?
Первые метафоры, появляющиеся в терапии, они часто именно такие: символическое описание жизни рода в большей степени и в меньшей – описание опыта одного конкретного человека, держащего в руке карту.
Но этот процесс динамичен. И вот уже в той же самой карте появляется совсем другая история… Для меня это настоящее волшебство.
Это упражнение я часто провожу в обучающем процессе, чтобы отточить навык терапевтов идти за процессом клиента, а не замещать его собственным. Карта является привлекательным экраном для проекций и, порой, очень сложно, глядя на чужую карту, видеть там другого, а не себя. Тут мало образов, которые мы видим оба, нужны слова, описывающие, как именно их видит человек напротив. Одна и та же карта создает два совершенно разных проективных процесса. На карте огонь: для одного это пережитый пожар, для другого страсть, которой не хватает в отношениях, для третьего – согревающий очаг, для четвертого – покончить с прошлым. Терапевт «отставляет» собственный процесс, чтобы войти в дверь карты клиента.
Клиент достает карту в закрытую из любой колоды и не показывает ее терапевту. В течение 7—10 минут он рассказывает, что именно видит на карте, все больше «углубляясь в нее». Любопытство терапевта адресовано рассказу (или внешней феноменологии клиента), а не изображению. Далее терапевт перефразирует услышанное – «теперь я знаю о тебе, что ты…», пытаясь перевести метафорический язык в гипотезу о клиенте, с чем клиент может согласиться или не согласиться. Так очень быстро происходит знакомство с глубиной клиента и, посему, этот способ стоит применять осторожно: внезапная обнаженность сулит столкновение с большим количеством стыда. Но, на мой взгляд, задача и усилия терапевта и состоят в том, чтобы находить такую форму, в которой клиент одновременно оказывается узнанным в разных своих проявлениях, и при этом она не является стыдящей, обвиняющей для него. Иногда, это удается сделать довольно быстро. Иногда, это задача нескольких лет. Проявление искреннего живого любопытства к клиенту является опорой на этом пути. Возможно, прежде, человека, сидящего напротив, замечали лишь чтобы обвинить, наказать, сравнить с кем-то ради самоутверждения, переделать. Его опыт узнанности будет сильно влиять на его готовность быть узнанным вами – терапевтом, другим человеком. В терапии принято называть отсутствие такой готовности – сопротивлением с целью сохранить прежние способы, с целью «сделать хорошо», ничего не меняя. Я думаю, что безусловно такой фоновый процесс сопротивления изменениям часто присутствует, но если человек уже оказался на терапии и сидит перед вами, вкладывая усилия в свой приход, присутствие, вовлеченность, то вектор, направленный на изменения в данный момент у него перевешивает. Важно не форсировать этот процесс существенно, дабы он не превратился в натянутую со всех сил тетиву. Ускорение полета стрелы – прерогатива коучинга, терапия про медленные, и, посему, устойчивые изменения. Про процесс, в котором есть право шагать назад подобно тому, как ребенок бежит назад к матери, когда мир внезапно оказывается слишком интенсивным для него.
Внутренний мир может казаться хаотичным и запутанным после каких-нибудь жизненных бурь, но опираясь на карту, можно дать время себе разглядеть его и учиться жить в этом новом мире. Терапевт участвует своей включенностью, в его присутствии человек идет через свой собственный туман, и иногда, может попросить руку для опоры, или воспользоваться глазами терапевта и поверить или не поверить ему в его видении. Он может использовать терапевта на этой дороге, точнее, бездорожье, но карту он способен составить только сам.
В конце этого упражнения можно открыть карту терапевту. Обычно этот процесс сопровождается сильным удивлением.
Пример работы (карты Cope):
Т: Достань одну карту из колоды и скажи, что ты там видишь.
К: Я вижу толпу людей, которая окружила меня. Я стою в центре, говорю с ними, они внимательно слушают меня, кивают, но я знаю, что у каждого из них в одежде спрятан камень. Даже у детей. От гальки до булыжника. Мне нужно очень внимательно замечать их выражения лиц, пока они не стали нахмуренными. Будет слишком поздно. Я не успею увернуться от удара. Стоит полететь одному камню, как толпа станет безумной, и на меня обрушится град. Мне не выжить. Поэтому мне нужно не пропустить момент, когда они начинают сомневаться во мне, в моей убедительности, праведности, честности. На кону моя жизнь.
Сейчас я вижу, что в этом кругу я не одна. Очень близко ко мне стоит вторая фигура. Так близко, что мы сливаемся в одну. Я не уверена, что толпа понимает, что нас двое. Теперь мне нужно контролировать еще и ее. Брошенные камни убьют нас обеих, а она несет невесть что, она бесстыжа, она не замечает реакции на себя, она не ведает, что творит и не понимает, что случится в результате ее действий. Она немного безумна, но поплатимся за это мы обе. Меня тошнит, когда я это рассказываю. Тошнит от ужаса и беспомощности. У меня нет выхода отсюда
Т: Как ты попала в этот круг?
К: Они сбежались посмотреть на ту, что рядом со мной. Я не могла ее оставить, я очень боялась за нее, а теперь боюсь за себя…
Т: Что еще есть на этой картинке?
К: Вокруг толпы пустыня, она простирается на сотни километров. Если нам даже удастся продолжить путь, вырваться из круга, мы умрем от жажды и солнца. Мы можем выжить только, подружившись с этими людьми.
Т: Посмотри на людей вокруг, они также угрожающе смотрят на нас с тобой? (работа происходит в группе)
К: (замирает и становится тише) Мне очень страшно это делать (набирает воздуха и голос набирает силу) – давай! – разворачивается и медленно смотрит в глаза каждому из группы, ловит заинтересованные и сочувственные взгляды, потихоньку выдыхает – смотрит на терапевта.
Т: Что с тобой сейчас?
К: Меня больше не тошнит и мне жарко.
Т: Что это за жар?
К: Это злость!!! Это моя мама часто была пьяной, когда ходила со мной гулять, она вычурно себя вела, я умирала от стыда рядом с ней. Стыда и ужаса. На меня смотрели так же как на нее, с отвращением. Ненавижу тебя, мама (кричит!) Как ты могла??
Т: Здесь на тебя смотрели иначе. Ты не отвратительна и тебе нечего стыдится.
К: После громкого выплеска чувств потихоньку затихает и смотрит на терапевта. Происходит встреча глазами. – Спасибо тебе! Я теперь понимаю, что все время жду от людей этого взгляда, взгляда, наполненного отвращением. Но понимаю и то, что мама была отвратительной и мне, когда была такой. Мне так хотелось, чтобы она стала прежней – мягкой, любящей, участливой, обычной мамой, как у всех.
Т: Посмотри на карту еще раз.
К: Люди в круге собрались здесь потому что им интересно, здесь происходит что-то новое и захватывающее. Они видят то, что редко удается увидеть. И они затихают потому что боятся пропустить даже одно слово.
Т: Какое слово?
К: Наше с тобой.
В этой работе группа выступает усилителем, терапевт не возвращает услышанное, потому что клиент сам легко связывает свой материал, опираясь на вопросы. Интересно, что изменяя контекст ситуации: с прошлого неприятного опыта, на опыт «здесь и сейчас» – приятный и трогательный, клиентка меняется телесно, выглядит умиротворенной и расслабленной.
Терапевт следовал за клиенткой, за своим любопытством, что именно за опыт она вспоминает через карту и в чем схожесть с сегодняшним моментом (почему именно этот опыт вспоминается «здесь и сейчас»), в результате этой работы оказывается, что не всегда окружающие «носят камень за пазухой», а значит меняется картина мира с жесткой адаптационной: потихоньку размягчается и становится гибче. В следующий раз ожидания от окружающей толпы будут скорее всего не столь катастрофичными, а значит появится больше возможностей контакта с реальными людьми, а не с фантазиями о них.
Еще немного о структуре
В первый раздел я включила размышления о кризисах, травмах, ПТСР и их различных проявлениях: депрессивном, психосоматическом, невротическом, поведенческом. Что для меня является важной особенностью личностного кризиса? Это его аутичность. Человек решает задачу собственного развития. Для этого он может уходить от мира, людей самыми разными способами, прятаться за маски, замыкаться. Кризис и его успешное разрешение похож на беременность и роды, поэтому проявления кризиса в данном контексте выбора, способы работы с ним для меня вторичны. Первично то, что разрывается связь с миром внешним и происходит фиксация на мире внутреннем, уход в него.
На мой взгляд, вытягивать человека из кризиса – это проявлять насилие к нему, вызывать «преждевременные роды». Терапевтической задачей я считаю создание благоприятных условия для проживания кризиса.
Пишу о личностном кризисе и аутичном периоде терапии (в котором терапевт воспринимается, скорее, функцией, чем другим человеком) и понимаю, что остальные разделы тоже посвящены кризисам, но иного свойства: кризисам отношений и достижений. Иногда эти три кризиса соединяются в одной точке и получается такой огромный кризис, на первый взгляд необъятный, наполненный пустотой и отчаянием. И распутывать этот клубок, на мой взгляд, неплохо бы начинать с личностного. Знание и понимание себя очень помогают в разрешении кризисов более высокого порядка.
Терапевтический процесс часто повторяет онтогенез. Если человек приходит к нам в кризисе среднего возраста, то как матрешкой приносит в нем все непрожитые прежде кризисы – от младенческого до юношеского. В каком порядке будет происходить путешествие по ним – непонятно, но скорее всего они будут затронуты все.
Посему в длительной терапии мы коснемся тем существования, бытийности (младенческое обнаружение), тем отношений (обнаружение ребенка), тем навыка, профессии (обнаружение позднего детства), что, на мой взгляд, соответствует мета-потребностям в безопасности, привязанности и манипулировании. Разделы книги будут поочередно раскрывать мой взгляд на эти группы потребностей и способы их удовлетворения, которые возможно исследовать при помощи МАК. Безопасность в этом ключе я рассматриваю прежде всего, как знание человека о себе, своих особенностях для того, чтобы он мог использовать мир в качестве ресурса, а не предмета бесконечной ретравматизации (что в идеале дает ему «достаточно хорошая мать» в процессе развития). Чаще всего период «исследования безопасности» или «преконтакта» в терапии занимает около 2 лет, что соответствует возрасту появления новообразования Я. Этому периоду будет уделено больше всего внимания в книге, так как именно глубина понимания себя определяет простоту или сложность прохождения последующих периодов развития.
Депрессия, ПТСР, яркие сновидения, телесные и невротические симптомы рассматриваются в первом разделе, как проявления кризиса. Как в той притче про слона, которого осматривали разные люди и составляли по одной его части целостное представление, не имеющего ничего общего со слоном. Так и то, что приносят нам клиенты в кризисе – лишь верхушка айсберга кризиса. Айсберга, масштаб которого только предстоит увидеть. Мы, как терапевты, не работаем с темой, а работаем с личностью целиком. Темы, как дороги, по которым сейчас выбирает идти клиент через туман своего кризиса. И не столь важно почему он выбрал именно эту дорогу, важно, что сейчас она является опорой. Возможно, единственным видимом местом в этом тумане.
I Личностный кризис или аутичный период терапии
Чем могут быть полезны МАК
Степень ориентации во внешнем мире прямо пропорциональна степени ориентации в мире внутреннем. Мир младенца ребенка хаотичен, недиффиренцирован, мир ребенка идеализирован, в нем есть готовые, обычно цветные и красочные, но сказочные картинки, мир подростка полярен, черно-бел, ярко поделен на добро и зло.
Далее из него выделяются оттенки и потихоньку ахроматический мир раскрашивается, возвращаясь к детскому ресурсу, но усложняясь по наполнению.
Мир зрелого человека сложен, наполнен множеством разных сюжетов, но он хорошо видит эти внутренние картинки, они не покрыты туманом.
Я пытаюсь изображать сложный процесс взросления метафорами, из-за чего он упрощается, уплощается, но становится более понятным. Я жертвую многими деталями ради ясности, но обретая ясность, мне захочется наполнять ее новыми деталями. Усложнять простоту. Это похоже на приближение с помощью микроскопа. Сначала глазами мы видим кусочек луковичной шелухи. Увеличивая ее – клетки. Еще увеличивая – целую жизнь. Существует ли граница этого процесса? Не знаю, сейчас она обусловлена исключительно наличием техники, способной производить такое увеличение. Для исследования луковиц ее уже достаточно, а для исследования людей еще нет. С микроуровня мы возвращаемся к макроуровню, но взгляд на целую луковицу меняется. На способы обращения с ней тоже.
Естественно, внутренний мир в свою очередь создается из внешнего. Но внутренний мир – не отраженный в зеркале мир внешний, а нечто другое, созданное из материала внешнего мира. Процесс взаимодействия этих миров продолжается всю жизнь. Внешний попадает во внутренний и изменяет его, внутренний проецируется на внешний и сверяется с ним. Когда что-то не сходится, то внешний мир можно вновь впустить внутрь в себя и подкорректировать себя внутри, или менять внешний мир. Это адаптивные стратегии. Можно сопротивляться этому вновь открывшемуся знанию или несоответствию. Это избегающие стратегии.
Человек ориентируется в мире, учась предвосхищать результат своих действий. Это становится основой ответственности и, в свою очередь, основой внутренней свободы. «Я готов встречаться с последствиями своих действий и потому я свободен их совершать».
Таким образом, наличие внутреннего мира служит возможностью предвосхищения собственных действий в мире внешнем. И одновременно пространством в котором возможна компенсация социально неодобряемых действий, импульс на которые возникает. Например, убийства. Фантазирование может быть уходом от реальности, а может быть очень здоровым механизмом. Все зависит от степени и целесообразности фантазирования в данной конкретной ситуации.
Бывает так, что развитие внутреннего мира останавливается. Внешний мир оказывается слишком опасным, чтобы впускать его в себя, и тогда между человеком и миром появляется непреодолимая стена. Если это происходит в раннем детстве, иногда степень ориентации человека во внешнем мире оказывается настолько слабой, что вырастая (по паспорту) он не способен заботиться о себе сам. Если это случается в более позднем возрасте, то доступ во внутренний мир может оказаться закрыт временно.
В терапии возможны две линии: создание внутреннего мира и его усложнение. Это очень длительная работа. Или восстановление доступа к уже усложненному внутреннему миру, который был утрачен в результате травмы, и интеграция травматического события в этот мир.
В результате внутренний мир перестраивается и обогащается, и связь с внешним миром также восстанавливается и расширяется.
Например, с человеком случилось что-то, что, как он считал не происходит с хорошими людьми. «Если я буду достаточно хорош, то мир будет ко мне справедлив». В результате события у него появляется выбор, как обойтись с этой убежденностью:
– разрушить ее, признать себя «недостаточно хорошим», но сохранив эту установку или
– вытеснить событие из памяти и, тем самым, «убить двух зайцев»: сохранить установку и отношение к себе, как достаточно хорошему, но при следующем столкновении со знанием о том, что мир несправедлив защищаться придется еще интенсивнее до тех пор, пока доступ к внутреннему миру не окажется практически полностью утраченным. Это часто описывают метафорой тумана.
Я сейчас пишу об убеждениях, но исследовать убеждения через образы и интереснее, и удобнее: видна их противоречивость.
Работая с картами, мы можем исследовать, насколько богат внутренний мир (если беден, на карту очень сложно будет что-то проецировать вообще), сохранена ли с ним связь (если да, то без карты человек Вам расскажет про себя все ясно и понятно для Вас; если нет, то при помощи карты может открываться множество нового и для Вас, и для него самого) и насколько он в нем ориентируется, насколько он понятен. Может ли он переводить образы в знание о себе, о мире, о способах обращения с ним.
Одна карта на первой сессии дает огромный пласт материала для дальнейшей работы или для принятия решения о перенаправлении клиента другому специалисту.