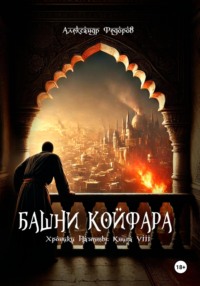полная версия
полная версияВеликий маг Каладиус. Хроники Паэтты. Книга IV
– Ах в покое? – лицо Крайза внезапно исказилось. – Да знаешь ли ты, щенок, что мать твоя всю ночь не спала, поизвелась вся оттого, что ты не пришёл ночевать? Если ты ещё раз подобное вычудишь – я тебя своим батогом так отделаю, что месяц ни сидеть, ни лежать на спине не сможешь! Пошли, я сказал!
– Сам иди! – Олни было дико страшно, но остановиться он уже не мог. – Проваливай, и больше не появляйся в нашем доме! Если ты останешься – однажды я убью тебя!..
– Ах ты, мелкий хорёк! – Крайза всего перекосило от злости, и он, более не сдерживаясь, влепил мальчику затрещину.
Пастух не был очень уж здоров или силён, но в удар он вложил всю свою ненависть и всё своё буйство. Олни показалось, что лопнула пополам старая ива – такой был звук от этого удара. И внезапно земля взвилась ввысь и с размаху врезала ему по лицу, а затем обрушилась ослепляющая боль одновременно и от отбитого затылка, и от расквашенного при падении носа. Мальчишка попытался встать, но руки и ноги словно не слушались, и к тому же он совершенно не мог понять, где верх, а где низ. Он лишь вздрогнул, и так и остался лежать.
– Давай, вставай, малой, – Крайз неуверенно тронул его за плечо, вероятно, струхнув, что мог убить парнишку. – Пойдём, мать собрала тебе немного пожрать, у меня в торбе завёрнуто. Поди обмойся, да пошли в поле…
Олни продолжал лежать недвижимо – в голове стоял такой звон, что он не слыхал ни одного слова, а пошевелиться пока не было ни сил, ни желания. Крайз нервно перевернул его на спину, долго вглядывался – вздымается ли грудная клетка, и, наконец, с облегчением удостоверившись, что мальчик, по крайней мере, ещё дышит, разогнулся.
– Ну и валяйся тут, – стараясь говорить невозмутимо, проговорил он, но хриплый срывающийся голос выдавал волнение. – Вечером дома поговорим. И попробуй только не вернуться!
И он отправился прочь развязным шагом, пытаясь вернуть себе былую уверенность.
Едва лишь он отошёл на достаточное расстояние, к Олни подбежала мама. Судя по всему, она украдкой проследила за Крайзом и наблюдала произошедшее, но не успела, или же побоялась вмешаться.
– Сынок! – рыдая, она бросилась на колени. – Как ты?
Олни уже понемногу приходил в себя, но всё ещё был оглушён. Он позволил поднять себя на ноги и, шатаясь, побрёл, то и дело повисая на материной руке, когда ноги в очередной раз подкашивались. Дома мама уложила его на свою (их с Крайзом) лежанку, дала попить, а затем стала осторожно смывать грязь и кровь ветошью, смоченной в воде. Ещё одну мокрую холодную тряпицу она, аккуратно сложив в несколько раз, подложила ему под гудящий затылок.
– Я убью его, – это были первые слова, которые сумел произнести Олни.
Дарфа Стайк лишь горько зарыдала в ответ на это.
***
На следующее утро Олни отправился в поле с Крайзом. Сам, молча, без пререканий. И с потаённой радостью отметил, что пастух всегда старается идти так, чтобы не оставлять парня за спиной. Значит, он не до конца списал со счетов брошенные сгоряча слова. Может, и мама передала то, что он сказал ей вчера. В любом случае, Крайз если и не опасался мальчишку, то уж по крайней мере принимал всерьёз, и Олни воспринял это как первую маленькую победу. Но мысль о том, что однажды он убьёт этого человека, так и не покинула его голову.
Пасти коров было несложно – большую часть дня эти ленивые скотины вяло бродили по пастбищу, жуя траву, либо лежали, подтянув под себя ноги, и лишь в самый разгар дня, когда невыносимыми становились жгучие укусы множества оводов и слепней, они начинали проявлять беспокойство и двигаться быстрее, так и норовя куда-нибудь уйти. Но хитрый Крайз к этому времени отгонял стадо к одной из излучин Шмыги, где течение было не таким сильным, и коровы блаженно забирались в прохладную воду так, что скрывалось вымя, спасаясь одновременно и от жары, и от множества кусачих насекомых.
За весь день пастух и его помощник не перекидывались и парой слов. Лишь изредка Крайз скупо давал какие-то указания, а чаще довольствовался жестами. Он по-прежнему держал Олни подальше от себя – с другого края пастбища, так что парнишка целый день нежился на солнце, разглядывая редкие облака, качающиеся травы, жужжащих насекомых. Ему всегда было интересно наблюдать за природой, и теперь он мог делать это совершенно свободно, на время забывая не только о ненавистном Крайзе, но и вообще обо всём на свете.
Наградой за помощь Олни служил лишний кусок вяленой телятины и лишний кусок сыра, которые Крайз теперь приносил в хижину Дарфы вечером. Он всегда после выпаса отправлял Олни домой, а сам на некоторое время отправлялся в свою хату, стоявшую на отшибе, и где, вероятно, хранил свои припасы.
О произошедшем больше не разговаривали. Олни вообще стал более молчалив и замкнут. Он не заговаривал первым даже с мамой, и отвечал чаще односложно, либо вовсе обходился жестами. Дарфа смотрела на него печальным затравленным взглядом, но даже не пыталась поговорить. На него же эта грусть действовала скорее озлобляюще, причём злился он не только на Крайза, но и на маму.
Так закончилось это лето, лето 962 года Руны Кветь6.
***
К месяцу дождей7 трава на лесистых равнинах южного Палатия пожухла настолько, что выпас скота стал делом совершенно бессмысленным. Крайз, как обычно, на это время нанимался батраком к местному сеньору – был скотником, мясником, и выполнял различную другую работу. Для Олни и его мамы это означало, что проклятый пастух стал появляться у них гораздо реже, иной раз пропадая на несколько дней.
Олни был счастлив, да и Дарфа не выглядела очень уж расстроенной – кажется, она больше боялась Крайза, чем испытывала к нему какие-то нежные чувства, тем более что пастух не слишком-то улучшил материальное положение семьи. Естественно, что довольно скоро слухи о том, что Безотказка вновь свободна, побежали по окрестностям, и в доме Дарфы вновь появились посетители.
Олни и сам был удивлён, насколько он обрадовался этим похотливым деревенщинам, хотя раньше всякий раз внутренне содрогался, когда слышал стук в дверь. Но теперь для него это означало прежде всего свободу от Крайза – тот хоть и захаживал к Дарфе, но уже не так часто, как раньше.
Но однажды случилось неизбежное. Ввалившись затемно в лачугу, которую он считал своей, Крайз наткнулся на весьма недвусмысленную сцену. Завязалась драка, разбудившая на сей раз честно спавшего Олни. Нельзя сказать, что Крайз вышел из неё однозначным победителем, однако же его соперник в какой-то момент предпочёл ретироваться, оставив часть одежды на поле брани.
Теперь Крайз, обозлённый до бешенства, с кровоточащей губой и разодранным рукавом куртки, мог выместить свою злость на Дарфе. Он страшно кричал, наблюдая, как она спешно натягивает одежду, а затем впервые за всё время перешёл от слов к делу. И до этого бывало несколько моментов, когда он в ярости замахивался на свою сожительницу, но обычно в последний момент успевал остановить руку. В этот же раз он не стал сдерживаться и наотмашь влепил Дарфе пощёчину.
Безотказка, как подкошенная, рухнула на размётанную лежанку, и тут же сзади к Крайзу подскочил Олни. С горестным криком, в который он вложил всю свою ненависть, мальчишка прыгнул на спину обидчика и зубами впился ему в плечо. Плотная куртка спасла Крайза от опасности лишиться части своей плоти, потому что парнишка сжал челюсти со всеми силами, что были ему доступны. Во всяком случае, Олни, кажется, удалось прокусить плечо до крови, хотя, быть может, это куртка пастуха столь пропиталась потом, что была солоноватой на вкус.
Разразившись проклятиями, Крайз стряхнул с себя Олни, который был слишком слаб, чтобы удержаться на спине взрослого человека. Словно кот, мальчик, едва коснувшись ногами пола, отпрыгнул в сторону, уходя от удара. Но теперь он оказался прижат к стене, убегать было больше некуда.
Подскочив к наглому мальчишке, Крайз как следует замахнулся – кажется, он решил повторить свою прошлую оплеуху. Поняв, что уйти от удара не получится, Олни как-то внутренне сжался, стараясь подготовить тело к грядущей боли. Он что-то ощутил – словно какие-то мурашки, пробежавшие по спине. А затем мозолистая грязная ладонь обрушилась не его голову.
Удивительно, но на сей раз боль была не такая оглушающая. Это скорее было похоже на те лёгкие хлопки, которые изредка позволяла себе мама. Олни даже распахнул глаза от удивления – он-то уже приготовился к тому, что снова сутки пролежит в постели после этого удара.
Крайз же, напротив, разразился криками боли и изумления. Он тряс ладонью так, словно только что изо всех сил ударил гранитную скалу. Кажется, он совершенно забыл на какое-то время о проклятом щенке. Олни не требовалось дополнительного приглашения – он мышью прошмыгнул мимо кричащего от боли пастуха и опрометью выскочил на улицу.
История эта окончилась для Олни вполне счастливо. Оскорблённый и порядком побитый Крайз в тот вечер ушёл от Дарфы к себе домой, а уже на следующий день несколько местных мужиков знатно отколотили его, чтобы наглец впредь не зарился на то, что принадлежит всем. И с тех пор ноги пастуха в доме Олни и его мамы не было. Было, правда, множество других ног, но мальчик понял, что до тех пор, пока они не претендуют на нечто большее чем полчаса в постели, всё это не так уж и страшно.
Глава 2. Дар
В последующие несколько лет Олни жил обычной жизнью простого деревенского мальчишки – подённичал по мере возможности, добывая хоть какое-то пропитание, трудился на небольшом клочке земли, что арендовали они с мамой у барина, и которая приносила больше проблем, нежели плодов, однако Дарфа никак не могла решиться отказаться от неё, потому что безземелье было бы равносильно нищете. Будучи единственным мужчиной в семье, Олни старался делать всё, что мог, лишь бы облегчить жизнь матери.
У неё, кстати, возникли довольно серьёзные проблемы – кто-то из посетителей одарил её нехорошей болезнью. Это доставляло ей массу неприятностей, а кроме того несколько уменьшило поток поклонников, так что Олни в очередной раз пришлось потуже затянуть пояс, а также более рьяно искать себе подённую работу в надежде однажды найти что-то постоянное. Он уже несколько раз ходил в именье, надеясь уговорить управляющего взять его в батраки, однако всякий раз возвращался ни с чем.
Хорошо было бы податься куда-нибудь в город – например, в находящийся милях в тридцати пяти отсюда городок Токкей. Возможно, там его руки пригодились бы больше. Однако он не мог оставить маму одну.
К пятнадцати годам Олни вытянулся, став на полторы головы выше матери, но при этом был таким тощим, что со стороны выглядел жердью, вытянутой из плетня. У него по-прежнему не было приятелей, но зато на него стали всё чаще заглядываться девчонки, находя весьма интересной его южную смуглость и точёность лица.
Деревенские нравы были довольно просты и непритязательны, так что в свои пятнадцать Олни позволял себе довольно много. Пока боги миловали юного ходока, но всё шло к тому, что рано или поздно в его дом вломится разъярённый папаша, таща за руку зарёванную дочку, и потребует сыграть свадьбу раньше, чем у дурёхи станет заметно округлившееся брюхо.
Может быть, случись всё именно так, мир никогда не узнал бы о великом и ужасном Каладиусе. Но, кажется, то ли у Белого Арионна, то ли у Чёрного Асса были свои планы на этого пока ещё тщедушного подростка.
Скорее всего, в этом был замешан именно Асс, потому что дорожка, по которой шёл Олни становилась всё более кривой. В какой-то момент, доведённый до отчаяния вечной нищетой и недолеченной болезнью матери, которая периодически давала о себе знать, парень взялся за воровство.
Поначалу это были мелочи вроде пары редек, тайком выдернутых с чужого огорода ночью, и в этом не было ничего страшного – подобным промышляли любые мальчишки в любом уголке мира, даже те, у которых всего в достатке было на собственном огороде, ведь чужое всегда слаще и вкуснее. Но потом он стал таскать яйца из курятников, вяленую рыбу, которую рыбаки подвешивали на солнце. Вскоре дошло до зерна. А затем он стал таскать кур.
Деревушка, в которой жил Олни, была совсем невелика – три десятка дворов, или чуть больше. В таком ограниченном пространстве долго не замечать факты многочисленных краж было попросту невозможно. Небогатые рачительные колоны чуть ли не поштучно знали, сколько морковок растёт на их грядах, не говоря уж о количестве кур.
В общем, Олни совсем недолго оставался непойманным. Точнее, на месте преступления его так и не поймали, но круг подозреваемых был не так широк, поэтому на следующий день после того, как он украл вторую в своей жизни курицу, к ним в дом пришли.
Надо сказать, мама не задавала лишних вопросов по поводу внезапно возникавших тощих несушек со свёрнутыми на бок головами – её вполне удовлетворяли невнятные объяснения о плате за подработку, хотя сложно было представить себе такую услугу, которая бы стоила курицы. Тем не менее, куриный бульон значительно обогащал меню, поэтому Дарфа старательно верила в не слишком ловкую ложь сына.
Когда к ним вломились разъярённые односельчане, Олни проявил недюжинный талант актёра. Он весьма правдоподобно изображал сперва изумление, затем – оскорблённую невинность и горячее желание помочь в поисках истинного воришки. Он великолепно отыгрывал за двоих – и за себя, и за беспомощно молчащую мать, озирающуюся каким-то виновато-испуганным взглядом.
Но все старания оказались тщетны – правдоподобность великолепных пантомим и искренних речей Олни разбилась о кучку красновато-коричневых перьев, которую ребятишки довольно быстро сыскали под лопухами в дальнем уголке их небольшого огородика. С таким аргументом не могла поспорить никакая актёрская игра.
К счастью, владельца безвременно погибшей курицы удалось утихомирить – он отвесил Олни лишь пару тумаков. Однако же теперь селяне с полной уверенностью в собственной правоте обвинили мальца во всех кражах, что случились за последнее время, и, как мы знаем, совершенно небезосновательно. Воришка стоял, потирая покрасневшее ухо, и ревел в два ручья, причём сложно сказать, сколько в этом было актёрской игры, а сколько – реального страха и боли.
Так или иначе, но слёзы долговязого дылды не произвели на односельчан должного впечатления. Было решено, что парень уже достаточно взрослый, чтобы отвечать за свои поступки. Хозяин курицы под общий ободрительный ропот объявил, что вора нужно судить по закону.
Законом так далеко от ближайшего города был, естественно, местный феодал. И это вполне устраивало всех – ведь попади Олни в настоящий суд, то, вероятнее всего, его отправили бы на пару лет дробить щебень в Анурских горах. А так, глядишь, пара десятков ударов розгами навсегда выбьют из него эту дурь. Так что ревущего воришку в сопровождении ревущей же Дарфы повели в имение, находившееся в трёх милях от деревни.
***
Имение местного сеньора не поражало воображение ни размерами, ни роскошью. В здешних местах не было особо зажиточных колонов, которые могли бы арендовать большие участки земли и тем самым обеспечивать феодалу стабильную ренту, да и земля была не из самых плодородных, так что тяжкий труд крепостных приносил довольно жалкие плоды. По местным меркам сеньор Шейнвил был вполне себе крупным феодалом, но, конечно, если не сравнивать его с помещиками, обитающими поближе к Шинтану.
Тем не менее, замашки у сеньора Шейнвила были поистине аристократические. Мы уже упоминали ту вольность, с какой он позволял себе использовать своих крепостных девушек в качестве наложниц. Жена его уже несколько лет лежала, не вставая – у неё было расслабление ног, так что передвигаться без посторонней помощи она не могла. А потому сеньор Шейнвил чувствовал себя в полном праве, поскольку мужчина он был ещё не старый – ему не исполнилось и сорока пяти, и он, как он сам выражался, «не был лишён определённых потребностей». Надо отметить, что он нисколько не стеснялся своих похождений, что лишний раз подтверждало, что ничего плохого он в этом не видел.
Но, кроме этого, сеньор Шейнвил весьма тяготился своим ярмом провинциального помещика. Одно время он стал устраивать регулярные выезды в Токкей, но вскоре заметил, что вызывает там скорее насмешки со стороны высшего общества, и решил, что сумеет придать аристократический лоск своей жизни и здесь, в своём имении. Представления об аристократизме у него, впрочем, были самые простецкие, поэтому, случись в его имении гость с более тонким столичным вкусом, он бы пришёл в ужас, или же подавился бы смехом от той аляповатости, которая, впрочем, в известной степени выглядела даже трогательно. Понятное дело, что для окрестных колонов и крепостных, не обладающих врождённой изысканностью, усадьба барина выглядела просто шикарно, хотя за всей этой дешёвой помпезностью и проглядывала некоторая скудость в достатке.
Именно в силу своих барских привычек сеньор Шейнвил находил особое удовольствие в той пародии на суд, которую он устраивал для местных селян. В такие минуты он чувствовал свою исключительную, ничем не разбавленную значимость для всех этих людей, собравшихся здесь, и это окрыляло мелкопоместного дворянчика, пробуждало в нём вкус к жизни.
Обычно в подобные дни на высокое крыльцо усадьбы выносили большое кресло, задрапированное помпезными покрывалами, а двери и стену завешивали багряным гобеленом с золотой вышивкой. Золотые нити, правда, давно поблекли, а саму ткань гобеленов порядком побили моль и время, но на собиравшихся поглазеть на «суд» селян всё это производило неизгладимое впечатление. В такие минуты им казалось, что перед ними восседает не их барин, и даже не грозный судия, а сам Увилл Великий8, а то и кто-то из императоров древней империи.
В ненастные дни, правда, приходилось проводить суд в одной из гостиных, которая не могла уже вместить всех желающих, но зато там каждая деталь убранства буквально вопила о благородстве и знатности своего хозяина.
На этот раз погода была вполне ясная, так что сеньор Шейнвил, узнав, для чего к нему пришли людишки, тут же распорядился покамест запереть обвиняемого в пустующем хлеву и начать подготовку к заседанию. Всё время, пока дворовая прислуга натягивала гобелен и выметала двор, Дарфа стояла, прислонившись лбом к неплотно сбитым дверям хлева, и тихонько подвывала в тон хнычущему внутри сыну.
Наконец всё было подготовлено. Олни вывели во двор, и он, щурясь от солнца и от соли, разъедающей веки, подошёл к восседавшему на возвышении сеньору. Дарфа пыталась было пройти за ним, но дворня довольно грубо оттолкала её к остальным селянам.
Неподалёку от самозваного судьи сидел, ухмыляясь, мужчина лет тридцати-тридцати пяти. Он с явным интересом наблюдал за происходящим, но интерес этот был не лишён язвительности и почти неприкрытой насмешки. Одет мужчина был небогато, но при всём этом в его скромной, явно поношенной одежде неуловимо угадывался определённый вкус, выдававший в её владельце горожанина, причём горожанина, когда-то ранее имевшего некоторый достаток.
Поговаривали, что это – кузен сеньора Шейнвила, приехавший к нему в усадьбу несколько месяцев назад. Якобы, раньше он жил едва ли не в самом Шинтане, но затем по какой-то причине заимел определённые проблемы с законом, и решил на время раствориться в затхлом и непроницаемом из столицы воздухе дальней провинции.
Так ли это было, или иначе – сказать сложно, но было видно, что кузен сеньора Шейнвила впервые попал на подобную экзекуцию и с огромным удовольствием наблюдает за происходящим. Даже не слишком внимательный наблюдатель сразу отметил бы, насколько этого горожанина смешит разыгрывающаяся сцена, и что он столь низкого мнения об умственных способностях присутствующих, что не слишком-то и скрывает свою сардоническую ухмылку. Ну и кроме того он, должно быть, отчаянно скучал здесь, в этих глухих местах, поэтому был крайне рад неожиданному развлечению.
Сеньор Шейнвил же, раздуваясь от собственной важности перед лицом родственника, на сей раз превзошёл сам себя. Он говорил медленно и веско, пытаясь вплетать в речь те немногие юридические термины, которые когда-либо слышал и попытался запомнить, но по внезапным гримасам, то и дело искажавшим лицо его кузена, словно бы тот изо всех сил сдерживал подступающий смех, становилось понятно, что чаще всего эти термины вставлялись совершенно не к месту.
Судья дал высказаться сперва потерпевшей стороне – владельцам двух пропавших кур, а также прочего того, что успел украсть Олни. Он важно кивал и даже словно что-то помечал на листе пергамента линялым пером. Он, накренившись вперёд, выслушал свидетелей о найденных уликах в виде кучки перьев и даже изучил на свет одно из таких пёрышек, которое было заботливо принесено сюда в качестве доказательства. Неясно, что он мог разглядеть в этом жалком пере – разве что, подобно мифическим оракулам он мог вопрошать неживые предметы, но было видно, что старательно давящий улыбку кузен считает это предположение маловероятным. Тем не менее, сеньор Шейнвил положил поданное пёрышко рядом со своим листом бумаги и кивнул с самым проницательным видом.
Затем была милостиво дана возможность высказаться самому Олни, но он только и мог, что размазывать сопли по щекам, да бормотать какие-то бессвязные извинения. Он уже не пытался разыгрывать из себя святую невинность, уже не отпирался от тех обвинений, что предъявлялись ему. Он был раздавлен творящимся вокруг и, вероятно, уже прощался с жизнью.
Весь процесс занял не более трёх четвертей часа, но если бы выжать из него все выспренние и нелепые речи сеньора Шейнвила, всё бессвязное мычание колонов, не умеющих связать двух слов, все всхлипывания Олни – едва ли сухой остаток занял бы больше десяти минут. В конце концов, Шейнвил, приняв в своём кресле позу, достойную самого короля Келлетта9, огласил свой вердикт.
Обвиняемый был полностью признан виновным в совершенных им преступлениях. Поскольку Шейнвил, даже изображая из себя судью, понимал, что, зайди он слишком далеко, у него могут быть неприятности за самосуд, по всем вопросам выносил один и тот же вердикт – порка. То, что он не имел права приказывать пороть свободных людей, никому из колонов никогда даже в голову не приходило – они видели в этом человечке воплощение власти. Так что оспорить приговор было некому – даже кузен сеньора продолжал наблюдать за происходящим лишь с усмешкой, видимо, предвкушая, как он позже станет рассказывать этот анекдот своим приятелям.
Судья Шейнвил присудил всыпать нарушителю двадцать пять розог – по десятку за каждую украденную курицу, и ещё пять «за прочий причинённый ущерб». Тут же расторопная дворня вытащила лавку, не раз уже служившую для подобных целей. Двое холопов, исполнявших при дворе Шейнвила роль палачей, подступили, держа каждый по хорошей ореховой розге.
Лишь тот, кто ни разу не испытывал спиной, что такое розги, мог бы счесть наказание мягким. В умелых руках розга рассекала кожу не хуже плети, тем более если речь шла о таком тщедушном объекте экзекуции, каковым был наш будущий великий маг Каладиус. Не нагуляв достаточной прослойки спасительного жира, он был так тощ и имел так мало мяса на спине, что, пожелай того порщики, они легко могли бы посечь его до самых костей.
С рачительностью, свойственной всем простолюдинам, с Олни стянули рубаху, а также, уже положив на лавку, приспустили штаны. Порка – поркой, но зачем портить одежду? Более того, по жесту барина молодая дворовая девка подбежала с ушатом горячей воды и, окатив ей лежащего парня, слегка обтёрла его ветошью, дабы грязь, скапливающаяся на неделями немытой коже, не попала в рану и не заставила её гноиться сверх меры. Во всех этих приготовлениях было столько провинциального колорита, что кузен Шейнвила, не усидев, поднялся со своего кресла и подошёл ближе, чтобы не упустить чего-то ненароком.
Олни же, распластавшись на плохо ошкуренной лавке, понял, что сейчас будет очень больно. И, как тогда, несколько лет назад, когда его хотел ударить Крайз, он внутренне сжался, пытаясь поймать то самое ощущение мурашек между лопатками. И ему это удалось!
Первых несколько ударов он даже не почувствовал. Парень с некоторым удивлением, извернув голову, заглянул себе на поясницу – вдруг порщикам дали указание бить еле-еле? Но нет – вспухшие багровые полосы на спине, а также капельки крови, кое-где уже просочившиеся из-под лопнувшей кожи, красноречиво свидетельствовали о том, что палачи не филонили и добросовестно выполняли свою задачу.
Олни не видел, каким изумлением исказилось лицо городского хлыща, стоявшего неподалёку. С него разом соскочила и саркастическая ухмылка, и презрительная спесь, уступив место неподдельному удивлению и некоторой растерянности. Очевидно, он что-то ощутил, недоступное всем прочим, и теперь не мог поверить в происходящее. Тем не менее, он не сделали ни движения, чтобы помешать экзекуции. С искренним интересом и очень серьёзно он теперь наблюдал за лежащим на скамье мальчишкой, отмечая любые изменения в мимике.