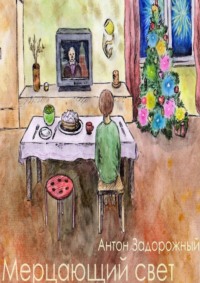Полная версия
Мы никогда не умрем
«Одной ногой в могиле, и сидит довольный. Не понимаю!»
– Как же так, дурачок? Я же сейчас в тебя выстрелю, тормозок, – недоумевал он, рискуя потерять самообладание.
– А так… – Костя согнул ноги в коленях, как подросток, устраивающийся поудобнее. Приговоренный к смерти оперся о пыльную стену, от которой несло сыростью. – Иногда признать поражение – это уже победа, Кеша. А деньги забирай… Нахрен мне твои деньги. – Костя выдохнул, спокойно закрыв глаза.
– Аа-а-а-а-а-а-р! – сорвавшись на крик, Аркадий выпустил всю обойму в лоб того, с кем когда-то давно выпускался из школы, пил на брудершафт и даже делил девчонок.
Между тем умывшийся ребенок уже прибежал в кухню и охотно сел за стол, навострив ушки. Пахло разогретыми блинчиками.
– На, поешь, – с фальшивой улыбкой сказала Ванечке мама, обдумывая, каким образом оставить усыновленного одного дома. Честно говоря, она видела в этом отпрыске конкурента себе, любимой. Аркадий его любил, и узнай он, что Наташа вытворяет с мальчиком, ей бы не поздоровилось.
И пока ребенок уплетал полуфабрикаты, а его отец мучился внезапным приступом головной боли, от которой терял последние остатки разума, до Наташи дошло, как она может уделать маленького засранца. Ведь лучшая защита – это, как водится, нападение:
– Мы сейчас пойдем гулять с папой, а ты давай посиди за книжками. Раскраску я тебе еще вчера приготовила, можешь порисовать.
– Что, какое порисовать? – запротестовал Ванечка. – А планшет?
– Ты как себя вел на днях, на площадке, помнишь? Какие тебе после этого игры, а?
– Я хочу пойти с вами. Меня в садике хвалят.
– Ну и что, что хвалят! Что ты опять клянчишь? Не видишь, папе плохо? А ну ешь давай молча.
– Так, хватит. Дети не должны страдать, – защитил сына Аркадий, выключив телевизор.
– Как будто я должна, – воинственно приподняла правую бровь Наташа. Этот мимический жест обычно означал: «Еще чуть-чуть, и секса тебе сегодня не видать».
– Все должны страдать, мам, – произнес Ваня, откусив блинчик. – Такова жизнь.
Устами ребенка глаголет истина, тем более Ваня хотел поскорее вырасти, чтобы начать решать за себя самому, куда ему идти и что делать.
Услышав это, Наташа… нет, не рассмеялась, не похвалила ребенка за философское прозрение и даже не посерьезнела. Она закатила глаза, что не укрылось от мужа, внимательно наблюдавшего за происходящим в тот момент. Обладая огромными деньгами, тот мог запросто избавиться от Наташи. Но ребенку нужна хоть какая-то мать, а не гувернантка или шлюха, прости Господи. Не сворачивать же ему сейчас бизнес, правда?
Ответив на немое недовольство супруги взглядом, красноречиво говорящим ей: «настанет день, и я тебя брошу, подожди», Аркадий смягчился и добавил:
– Извини. – Прощенья он просил не у сына. Отношения с женой сейчас дороже, ибо их ссоры непременно отразятся на ребенке. К мальчику он обратился со словами:
– Ванюш, у меня сегодня болит голова, надо пройтись с мамой.
На что мальчик вскричал:
– Раз болит голова, раз тебе плохо, почему ты не останешься?! – Не найдя ничего лучше, чем можно было бы ответить сыну на его справедливый, но несуразный выпад, Аркадий процитировал Константина, наконец-то поняв глубину его предсмертной мысли:
– Послушай, признать поражение – иногда это уже победа. Потерпи. Я скоро вернусь.
– Хорошо, – обронил Ванечка, успокаиваясь. Ни слова не говоря матери, он вышел из кухни и направился в комнату.
Наташа засияла от радости, как, быть может, сияют злорадные мачехи, заставляя золушек выполнять грязную работу. Ее собственнические глаза наслаждались болью ребенка. «Аркадий только мой», – светили они нездоровым пламенем ревности.
– Ну что, дорогой? Пойдем собираться?
– Да, пожалуй, – вздохнул предприниматель, едва заметно улыбнувшись. Как же не улыбаться, если эта баба в свои тридцать лет так ничего и не поняла в жизни? Курица. Он вспомнил, как бы невзначай, что семь лет назад прибрал ее, больную сифилисом молоденькую проститутку, к рукам, выкупив у местных кавказцев. «Дурочка, где бы ты была сейчас, если бы не я?» – думал он. Как же тут не радоваться?
– Наконец-то ты снова улыбаешься! Давно я не видела, – радостно прощебетала жена. – Куда пойдем?
– Скоро узнаешь, – загадочно ответил Аркадий, представив, как же будет хорошо, если однажды Наташа составит Константину компанию…
– Как же мне с тобой повезло, любимый! – подытожила Наташа, поцеловав супруга.
Ясное дело, он не стал ее переубеждать.
2
Кто говорит, что жизнь – простая штука, тот ошибается. Не более прав и тот, кто уверен, что она обязательно сложна. Путь к золотой середине между одним и другим у каждого человека свой, и в признании его неповторимости, наверное, и состоит секрет сохранения духовной свободы.
Анька была сексуальной студенткой медицинского колледжа. Учась на медсестру, она нашла в себе силы подрабатывать сутки через трое в хосписе, за чертой города, в котором родилась и жила вот уже двадцать лет.
Девушка считала, что нет более циничных людей, чем психологи, врачи и педагоги, но она знала и то, что без доли цинизма в работе таких людей никак нельзя. Также она знала, что работа медсестры или санитарки сродни служению любящей матери – своему ребенку, солдата – своей стране, волонтера – нуждающемуся.
Обучение сестринскому делу залечивало ее эмоциональные раны, которые она получала в первые месяцы ухода за умирающими детьми. В учебе она набиралась новых знаний и сил, позволяющих ей помогать пациентам выиграть их персональную борьбу – с жизнью или смертью – в те часы одиночества, когда психолог не мог оказаться у постели терминального больного, а родители отказывались переживать печальный финал вместе с осознающим приближающийся конец ребенком.
К примеру, – узнала она из работ известного психиатра Д. Н. Исаева, – лишь в середине прошлого столетия специалисты начали замечать, что переживание ребенком собственной смертности и факта собственного умирания значительно отличается от переживаний взрослого человека – в зависимости от возраста, опыта, воспитания, мировоззрения и прочее. До этого считалось, что дети умирали, и все. Они же – маленькие, не сформировавшиеся, какие тогда могут быть особенные волнения? Что смерть? Пшик. Тьфу! Со всеми случается.
Но это было тогда, а в наши дни Аньку разбирала злость на чиновников, по представлениям которых, маленькому ребенку не нужны наркотики в целях облегчения их боли. Эти вообще считают, что дети в РФ не умирают. Иначе не понять, почему педиатр не имеет права выписать родителям угасающего ребенка необходимые обезболивающие препараты. Больница и хоспис разделены как функционально, так и законодательно, ведь в первых умирать не положено – разрешено только лишь идти на поправку.
Ей не хотелось отводить глаза в сторону в случае некорректного обращения с пациентами хосписа, которым обеспечивают уход из жизни в подобающих для такого события условиях. Какой смысл в облегчении страданий, если ты будешь относиться к умирающему как к дровам, которые скоро отправятся в печку?
Дабы не перегореть, Анька выбрала для себя вариант трудиться хорошо настолько, насколько это возможно в хосписе, не пытаясь переживать за всех и каждого.
Умение отстраниться от эмоций и вместе с тем признать смерть как данность, которую придется встретить каждому, помогло девушке не зачерстветь. Очень скоро она прочувствовала, что столкновение со смертью – это испытание, не выдержав которое, можно разочароваться в жизни. В среднем за одну календарную неделю в отделении хосписа отправлялись на тот свет десять человек. Ведя подобную статистику, можно было бы легко сойти с ума, ведь в сравнении с покойными легко ощутить себя если не бессмертной, то хотя бы – долгожительницей. Со временем для Ани стало привычным уходить домой после смены, держа в памяти одних людей, а возвращаясь, встречать на их месте совершенно других.
Немало сил потребовалось ей на то, чтобы научиться забывать об ушедших. Чтобы не послать все к черту, девушка напоминала себе, что существует жизнь за стенами этого учреждения, из которого она всегда может уволиться. Поэтому она часто отвлекалась от чужих трагедий общением с друзьями, походами в кино или театр, поездками на окраины их городка, который заезжие москвичи часто называли поселком. И вот несколько месяцев назад Анечка, девушка с русыми волосами и глазами зеленого цвета, встретила свою любовь. Она надеялась, что этот мужчина в ее жизни не Очередной, а Последний.
Хотя некоторые знания в области нормальной физиологии и биохимии убавляли очарование нахлынувших на нее чувств. Аня была довольна отношениями со своим бойфрендом: была бы она кассиром в торговом зале, ей было бы невдомек, что переживание высшего момента сладострастия становится возможным вследствие продуцирования гормона окситоцина.
Однако позднее девушка пришла к пониманию: жизнь пластичнее, чем любые политические режимы или сухая наука, пытающиеся заточить человека в неволе рамок закона и строгих фактов, лишив возможности выбирать для себя самого, что делать и зачем, а главное, нужно ли вообще делать что-то?
Этим утром Анечка проснулась от приятного сна, в котором она занималась любовью со своим молодым человеком. Ощущения были настолько живые и настоящие, что можно было бы запросто перепутать эту субъективную реальность с действительностью внешнего мира.
Он взял ее на кухне, проникнув в ее горячее и уютное лоно (температура внутри которого всегда несколько выше, чем в остальных частях тела), а затем они продолжили свой сексуальный марафон в его комнате. «О боже, даже ножки подкашиваются», – мурлыкала она, облекая свое приятное признание в сладостный вопль желанного оргазма, разливающегося пульсирующим теплом из ее паховой области по рукам и ногам. Внутри нее, казалось, светило солнце, расправляющее свои лучи во все стороны Вселенной.
Во сне, спустя некоторое количество времени, он начал ласкать ее между ног. Девушка ответила ему взаимностью, обхватив ставший крепким, выросшим в размерах и устойчивым половой член. И вот уже Анька чувствует нежное удовольствие, которое она получает не только от своего партнера, но то, которое доставляет ему своими ритмичными движениями нежной руки.
Но почему в следующую секунду в ее голове зазвенела паника от фразы, высказанной ею самой: «Ты же понимаешь, что это – измена»? Ответа Анька не знала. Или, быть может, он выскользнул из власти сознания в момент ее пробуждения.
Проснувшись, Анька с улыбкой ощутила, что сон и правда подошел к логичной для происходящего в жизни развязке. Мысленно она назвала себя «мокрощелкой» – поразительно, как метки могут быть словечки, которые вылавливает память, обращаясь к воспоминаниям из средней школы, – и затем пошла мыться. Принимая душ, Анька восхищалась своим стройным и подтянутым женственным телом – вожделенным не только для Виталика, но и, как она порой замечала, для пациентов. Выпрямив свои чистые и ароматные волосы утюжком, она выпила на кухне кефира и съела, будто мышка, кусочек сыра, а затем стала собираться на учебу.
Выйдя из дома на автобусную остановку, в ожидании транспорта девушка написала своему парню: «Витя, я люблю тебя и уже скучаю. Доброе утро, дорогуля ты мой!» Аня еще раз прокрутила в голове приятные ночные картинки, словно слайды из диафильма, которые любила смотреть в детстве – до появления всех этих «яблокофонов» и прочих вещей, дробящих бриллиантовый мир на постиндустриальные осколки, которые каждый человек вынужден шлифовать по собственному разумению или даже без оного.
– Нет, все же наяву с тобой лучше всего, – прошептала она сама себе, думая о Виталике: о его сильных загорелых плечах, рельефном прессе и даже – шрамике, оставшемся после удаления аппендикса. Сама того не заметив, девушка заскочила в подкативший автобус, прежде чем двери средней площадки салона затворились.
Из колледжа Анька решила пройтись пешком. Распрощавшись по дороге к Виталику со своими одногруппницами, которым было с ней не по пути, Анька набрала номер своего парня. Он не брал телефон. «Спит, наверное, соня», – подумала она почти что беззаботно. Эта мысль позволила девушке не волноваться, почему ее молодой человек не ответил на утреннюю эсэмэску.
«Впрочем, мы вместе вот уже четыре месяца, и вполне логично, что конфетно-букетный период подходит к концу», – размышляла она, предполагая дальнейшее совместное будущее с парнем, не зная, что в это самое время он изменял ей со старой знакомой из другого города, куда более крупного, приехавшей в гости «на чай».
Тем временем Анька проходила мимо жилого дома, на стене которого было написано размытыми черными буквами: «Рудик – сука!», и, чуть ближе к углу трехэтажки: «Сука я, а не Рудик».
Конечно, студентка множество раз замечала эти надписи, но рассмешили они ее только сегодня. Не повезло Рудику, кем бы этот парень ни был. Хотя кто знает, может, Рудику, наоборот, в кайф такая дворовая популярность?
Проходя среди солнечных зайчиков и пляшущих перед ее кедами комочков тополиного пуха, девушка захотела слопать какую-нибудь вафельку, печенинку, шоколадку – хоть что-то. Оставалось совсем недолго до цели, но на кефирчике с сыром вприкуску долго не продержишься.
Решение насущной проблемы было очевидным – купить шоколадный батончик, скушав его по дороге к любимому. Стоя перед кассиршей, девушка со стыдом подумала о несдержанном мужике, зашедшем внутрь поскандалить, что ему она помогать бы не стала. Радуясь, что «мужчина в самом расцвете сил» оказался выдворен на улицу и укоряя себя за желание нарушить в отношении него непреложные правила профессионального долга и этики, девушка посочувствовала кассирше и выпорхнула из киоска в уличную жару – хотелось поскорее увидеть своего парня.
Полчаса спустя она уже выползла вон из его душной парадной. Она стремилась теперь выскочить на свежий воздух, подальше от липких рук человека, который ее так легко и незамысловато предал – переспав с какой-то питерской шалашовкой! Аня спотыкалась обо всех и все, что попадалось ей навстречу – эти препятствия были для нее невидимыми, ведь она не могла прекратить плакать, а все новые и новые слезы только лишь размывали прежде такую яркую и целостную картину происходящего в ее жизни.
Прошло немало времени, прежде чем письмо Рудику на стене дома вновь стало вызывать на лице девушки улыбку. В тот трагический день Анька осознала для себя, что ставки, которые люди делают, играя в азартные игры с жизнью, не всегда оправдываются.
Испытав чувство глубокой сопричастности к Рудику, больным и умирающим созданиям всего мира, она вдруг сообразила, что неудачи похожи на скальпель, которым можно убить или поспособствовать выздоровлению пациента.
Подобный хирургический инструмент держит в руках каждый. И во власти каждого решить, как им воспользоваться.
3
Петр Петрович был пятидесятипятилетним мужчиной, который время от времени чувствовал себя стариком, «на все сто». Он жил один, занимаясь тем, что ругал мир вокруг себя. Добровольно изолировавшись, насколько можно, от окружающих его людей, он жил по привычке.
Привычка перед сном выпить кефира, дабы не случилось прободения язвы (которой у Петра Петровича никогда не было). Привычка перед сном отметить в программе телепередач интересные фильмы и ток-шоу следующего дня (это обязательно нужно было сделать фломастером розового цвета, ведь у каждого предмета в трехкомнатной квартире была строго определенная функция). Привычка в полпервого ночи проверить оба дверных замка на их работоспособность, равно как и убедиться в отсутствии жвачки, которую могла бы налепить шпана на дверной глазок, чтобы ограбить его пристанище. Для Петра Петровича налаженный им порядок имел самое первостепенное значение – такая структурированность быта служила подушкой безопасности в любое время года. И вообще, его дом – его крепость.
День его был расписан с самого раннего утра и до позднего вечера. Писатель мог бы сравнить жизнь Петра Петровича с жизнью глубоководных рыб, которые лишь изредка, скорее по привычке, выплывают на поверхность, чтобы заглотить немного кислорода. Философ мог бы назвать жизнь этого человека безвкусным существованием, и так далее.
Петр Петрович был ретроград. Человек старой школы, он жил в тени и был вполне доволен своим «уровнем активности». Если же его упрекали в косности, он с готовностью ветерана, который соскучился по борьбе, возражал: «Я жесток в своих принципах, но гибок в их проведении. Принципы – это скелет, костяк. Все остальное нарастет, если основа крепка».
Затворник, он считал себя консерватором и любил действовать по инструкции, соблюдать регламент и не отходить от графика – действовал по плану и только тогда чувствовал себя в безопасности. Почти пятнадцать лет (а если точнее, 14 лет, 356 дней, 7 часов и 8 минут) Петр Петрович вел размеренную жизнь, не впуская в свой душный мир – музей Советского Союза времен его молодости – женщин, и был доволен таким положением вещей. Что до вещей в буквальном смысле, то большую часть свободного времени он тратил на то, чтобы «давать им новую жизнь», – реставрируя ветхие стулья, которые находил на помойке внутри своего зловонного двора.
Психолог, попади Петр Петрович под его наблюдение, мог бы заключить, что подобным невротическим образом он борется с неосознаваемым чувством одиночества и страхом смерти, убивая время за счет ремонта никому не нужной мебели. Например, реанимация чешского стула тридцатилетней давности занимала у него не менее недели работы. Нужно все зашкурить, почистить, сделать обивку, покрыть лаком, подклеить, закрепить скобами строительного степлера. В его квартире практически всегда в светлое время суток работал телевизор, верный друг этого одинокого трудяги, представителя технической интеллигенции СССР, живущего во времена, когда бандиты и троечники встали у власти. По крайней мере, он так считал.
Из-за скверного характера педантичного Петра Петровича от него ушла супруга. Они развелись примерно пятнадцать лет назад, супруга его не навещала, и ее отсутствие Петра Петровича устраивало. Лишь иногда, по большим праздникам, трое его детей с внуками заполняли просторную квартиру, нарушая заведенный порядок, после чего все становилось на свои места.
Изредка Петр Петрович сдавал одну из трех своих комнат жильцу и существовал на арендную плату. Помимо этого, он получал пенсию, пытаясь прожить на которую, уходил в ноль. Опять же, приходилось планировать, выхватывая каждый рубль: считать, сколько сигарет он выкурит за день (выкладывал суточную норму на подоконник, дабы не раскурить лишнее), держать в уме, на сколько порций супа хватит трех килограммов картошки (и столько же говядины) и так далее. Петр Петрович мог показаться скупердяем, а для него в этом не было ничего странного: то, что приходит на сберкнижку, – это кошкины слезы.
Вскоре жилец съезжал, благодаря Бога за приобретенный экстремальный опыт, и вновь Петрович оставался один, а квартира опять пряталась от своего хозяина под слой пыли, которого мужчина чаще всего просто не замечал в силу возраста.
Недовольство делами в стране и тупостью дикарей, которые попадались Петру каждый день, стоило ему лишь выйти на улицу, клещами сдавливало сердце, превращаясь в гнев, приводящий пожилого дядю к вегетативным кризам. Петрович был доволен лишь самим собой – он, как никто другой, деятельный и рукастый – не то что сегодняшняя молодежь. Он, сын учительницы русского языка, грамотный интеллектуал, знающий ответ на все возможные вопросы. Если бы не проживание на ничтожную пенсию, выход на которую стал для него преждевременным по состоянию здоровья, он смог бы добиться многого в экспериментальной физике.
Но судьба распорядилась иначе, и он, словно капризный ребенок в теле зрелого мужчины, обижался на нее за такой расклад. Не на Бога же обижаться, в самом деле. Ведь никакого Бога не существует, а всех верующих расстреляли еще в советские времена. Остальные – это всего лишь лицемеры, пытающиеся купить себе бессмертие походом в церковь.
Где-то внутри этого бедного человека звучал бодрый голос прежнего Петра Петровича – увлеченного ученого, занимавшегося научными разработками в Дубне, а затем, когда наука, как и Союз, посыпалась, менеджера по продажам в крупной фирме, главы семьи, отца детей (которые его иногда навещали) и главное – деда пять раз! – прежний Петрович отголосками все ослабевающего эха говорил нынешнему: «Петруха, твою ж мать! Раньше тебя не нужно было возить лицом по стиральной доске. Ты чего? Ты еще можешь устроиться на работу охранником, тем же менеджером, а одно время ты продавал мебель в магазине, и ничего. Вставай, хватит ныть».
И Петрович, сначала с энтузиазмом, а потом больше для очистки совести обновлял резюме, искал вакансии в интернете, а когда его приглашали на собеседование, удовлетворенно отказывал – работать с дебилами он не хотел.
Зачем, когда можно сдавать в наем лишний угол? Жил он в «трешке», и двух других комнат ему вполне хватало.
Считая себя несколько выше остальных людей, он не осознавал, что мир такой, каким человеку хочется его видеть. Идя по тротуару, направляясь в магазин, ему нравилось производить на других благоприятное впечатление. Одевался Петр Петрович с неизменным вкусом. Вне зависимости от времени года предпочитая «классику» – рубашку, пиджак и брюки на кожаном ремне. Джинсы он не любил еще со студенческой скамьи, считая, что ношение подобных тряпок превращает взрослого человека в ребенка.
Петру Петровичу было невдомек, что в двадцатипятиградусную летнюю жару города N он выглядел для остальных как дурак, идущий домой с пакетом продуктов, словно на работу в офис.
Однажды, забежав в магазинчик за углом купить свежей прессы, Петр Петрович оказался вне себя от негодования:
– Дамочка! Это почему у вас такая очередь, а? Я вас спрашиваю! Работать не умеете, да?
– Мужчина, не шумите, пожалуйста. Тут и так места мало, не портите покупателям настроение.
– Ты у меня поговори! Я жалобу напишу! Фамилия ваша? – спросил неудачливый любитель утренних газет, ловко достав заранее приготовленные ручку и блокнотик. – Ваша фамилия, я сказал! – вскипел Петр Петрович, не желающий стоять в длинной очереди из трех человек в ожидании приобретения свежего номера «АиФ».
В следующую секунду гость из Средней Азии, не вытерпев подобного хамства, вышвырнул скандалиста на улицу. Такого с Петром Петровичем еще не бывало. «Вот это да!» – думал он, вставая с колен.
– За что?! – спросил он у своего обидчика, вновь попав внутрь. Жалобу писать расхотелось.
В ответ азиат лишь улыбнулся, расплатившись за взятую из холодильника бутылку минералки, и был таков.
– Не повезло, – шепнула студентка кассирше, слегка кивнув в сторону неудавшегося скандалиста. Мол, сколько же идиотов!
– Он часто сюда заходит, и вечно его что-то да не устраивает.
– Терпите, – улыбнулась продавщице девушка, расплатившись за купленный шоколадный батончик.
– Работа такая, – вздохнула женщина, нехотя обратившись к мужчине, оставшемуся с ней один на один:
– Вам что, «Аргументы и Факты» опять, верно?
– Да, будьте добры, – согласился Петр Петрович, отряхиваясь и краснея от стыда и злости. – А впрочем, знаете что, обойдусь! – ответил он и с вызовом вышел на улицу, отправившись домой.
В голове его мелькали стулья и табуретки. Шкафы и тумбочки, которые он обновит, начистив до блеска. Будут как новенькие. «И хрен бы с ними со всеми. Главное прийти домой, а там примусь за работу», – думал он про себя, не замечая никого вокруг. Он не знал, сколько времени прошло, прежде чем увидел знакомые очертания своей пятиэтажки. Зато он словно чувствовал запах морилки, которым вот-вот покроет ножки очередного стула.
Входя в родной подъезд, он столкнулся с девушкой, которая об него споткнулась, – на лестничной площадке перегорела лампочка.
Петр Петрович был не промах, и заприметил, что неловкая тупица, которая даже не извинилась перед ним за доставленные неудобства, оказалась той самой девушкой, купившей шоколадку перед ним в очереди.
«Время троечников», – подумал он устало, после чего поднялся на четвертый этаж, зашел в квартиру и, разувшись, по обыкновению поставил кипятиться воду в чайнике. Затем он расположил продукты в холодильнике – каждый на своем месте – и пошел снять с себя костюм. Далее по плану было выкурить сигаретку и, выпив чая с лимоном, приняться за долгожданную реставрацию.
Чиркнув спичкой и поднося огонек к вожделенной сигаретке из пачки пахучего «Беломора», Петр Петрович внезапно умер – изношенное сердце отказалось жить по правилам: ловить здесь нечего, значит, отбой.
Последним, что он видел, стали языки пламени, ползущие по скатерти, и ее горящие куски, планирующие на пол, будто бы парашютисты.
– Не повезло, – засмеялся откуда-то взявшийся азиат – тот самый, из магазина. Затем все стихло и затянулось пеленой белого света…