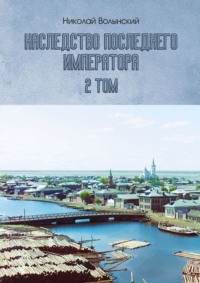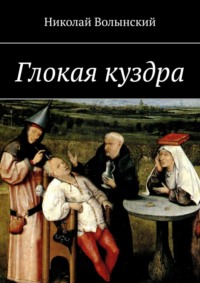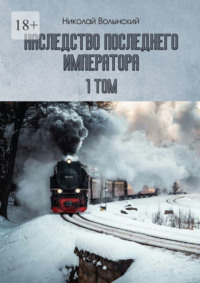Полная версия
Год беспощадного солнца. Роман-триллер
Тут Дмитрий Евграфович вспомнил, как три месяца назад его вызывал начмед профессор Крачков. У него сидела седая, расплывшаяся старуха, на лице которой Мышкин сразу определил все признаки facies Hippocratica13. Он не сразу узнал ее.
Старуха что-то говорила с жаром, необычным для онкологической больной. Когда вошел Мышкин, она резко осеклась и с ненавистью посмотрела на него.
– Ничего-ничего, – успокоил ее Крачков. – Доктор Мышкин нам нисколько не помешает, даже совсем наоборот. Это один из лучших наших специалистов. Можете ему доверять. Все пациенты ему доверяют, когда попадают к нему.
Мышкин скромно кивнул.
Тем не менее, старуха долго собиралась со словами, мяла мокрый носовой платок, прикладывала к носу и громко фыркала в него, словно лошадь в намордную торбу с овсом. В конце концов, Крачкову надоело.
– Поймите, Марина Евгеньевна, еще раз, – заговорил он. – Конечно, курс лечения необходимый вам, может показаться несколько… э-э-э… дороговатым, всего двести пятьдесят тысяч долларов. Но разве ваша жизнь, как и жизнь любого другого человека, не дороже стоит? Особенно ваша, – с уважительным значением добавил он.
Салье горько усмехнулась:
– Не нужно демагогии, Борис Михайлович, я ее наслышалась. И еще лучше умею. Жизнь вообще любого человека бесценна. Но где ему взять четверть миллиона долларов? Мне Чубайс не подарил нефтяную скважину, как Абрамовичу. Где взять нормальному человеку эти двести пятьдесят тысяч, скажите мне, где?!
– Пусть ищет, – дипломатично посоветовал Крачков.
– Где?! – взревела старуха совсем по-мужски. – Где это место, скажите мне? Под каким фонарем? В каком сундуке? Где может найти такие деньги простой школьный учитель? Или даже я – доктор геолого-минералогических наук?
Крачков равнодушно пожал плечами.
– Пусть ищет, где ему хочется. У нас теперь свобода. Никто ему не будет мешать.
Салье сникла, некоторое время оторопело смотрела на начмеда, на его щеки нежно-ветчинного оттенка, и заговорила – тихо и робко, словно решилась в первый раз в жизни просить милостыню:
– Но ведь существует страховка. У меня их даже две. Это такие огромные деньги! Все граждане России застрахованы, все предприятия платят огромные взносы на обязательное медицинское страхование, а на больных, при любом, самом затратном, раскладе уходит жалкий процент от всех сборов, не больше! Остальное – в карман страховщикам. Я специально интересовалась и все подсчитала. Почему я не могу лечиться у вас по страховому полису – даже по двум полисам сразу? Ведь это еще больше! Вот!..
Она тыкала в нос Крачкову две бумажки с водяными знаками – желтую и синюю. Он осторожно, но решительно обе бумажки от носа отвел и сообщил с подчеркнутым пренебрежением:
– Страховых денег, госпожа Салье, по вашим двум полисам не хватит даже на зарплату нашей уборщицы.
Салье отшатнулась, как от удара, и глухо замычала:
– Ну почему-у-у? По-че-му-у-у? – слезы хлынули ручьем и закапали на ковер. – Ведь у них, у страховщиков, такие огромные деньги!..
Крачков стал терять терпение.
– Да потому, дорогая моя, – хамски-игривым тоном ответил он, – что на таких клиентов, как вы, у страхователей денег никогда не хватает! Вы для них нерентабельный субъект.
– Ну что же это за государство? – еле слышно простонала старуха. – Теперь идти и помирать? Всё?
Крачков очень удивился.
– Государство? Это вы меня спрашиваете? Не я строил это государство. Вы строили. Со своими коллегами. Помнится, вы очень жарко требовали именно платной медицины. Вот и сбылись ваши мечты.
Салье встала, отшвырнула кресло в сторону и ушла, громко стуча пятками.
Крачков перевел дух.
– Видал? – спросил он. – В печенках у меня сидит! Загрызла: представить себе не можешь, Дмитрий Евграфович!
– Ну почему же, – возразил Мышкин. – Представить-то я могу. Что же ей, в самом деле… Откуда взять?
– Найдет! – весело заверил Крачков. – Знаю, что говорю. У нее трехкомнатная на Васильевском острове, на берегу залива – красота! Воздух, солнце, шум волны… Миллиончиков на пять потянет. Я бы сам у нее купил. Для дочки, без посредников, – он задумался на несколько секунд. – Да! Так и надо сделать. Очень хорошая идея.
– Там, наверное, дороже, – усомнился Мышкин. – Там очень дорогое жилье. Трехкомнатная да у залива – восемь лимонов, не меньше.
– Отсталый ты человек, Дмитрий Евграфович! Восемь было вчера! А сегодня там строят порт, пассажирский, никому не нужный: рядом один уже есть. Теперь собираются превратить его в грузовой. Вместо морского фасада Северной Пальмиры будет обычная промзона. И никаких просторов Финского залива, потому что его уже до половины засыпали. Так что цены уже сейчас упали. Но все равно дорого.
– Продаст квартиру, а потом ей куда? – спросил Мышкин.
– А зачем ей квартира на том свете? – резонно возразил Крачков.
«Значит, продала. И без толку, – подумал Мышкин. – Интересно, кто купил? Крачков ни за что не признается. Так ведь и обвинить его можно… в вымогаловке, например».
Он бегло перелистал историю еще раз и отложил.
– Ладно, – сказал он, обращаясь то ли к Большой Берте, то ли к самому себе. – Не вскрывать – нам же лучше, меньше работы. Только в башку я ей все же загляну.
Ему нужны были срезы головного мозга для докторской диссертации.
– Успеете, пока никого? – огляделась по сторонам Клементьева.
– А долго ли нам умеючи! – бодро заявил Мышкин.
– Так ведь все равно получится вскрытие.
– Все равно, но не совсем! – отрубил Дмитрий Евграфович. – Нужны мне срезы? Или ждать эпидемии флорентийской чумы? Так никогда докторскую не закончу. Все-то дела на пару минут!
Сделав круговой надрез на голове покойницы, Мышкин ловко завернул скальп в сторону. Потом провел электрофрезой вокруг верхней части черепа и снял аккуратную круглую крышку теменной кости.
– Вот она, родимая! – пробормотал он, сразу увидев опухоль, похожую на сливу – продолговатую и необычного темно-фиолетового цвета. – Что-то новенькое! Вот видишь? – обратился он к Большой Берте. – Тут, может, научный клад, золотые россыпи, Клондайк, а ты: «Вскрытие, да чтоб никто не видел»…
Мышкин отхватил скальпелем кусок опухоли головного мозга бывшей бабушки русской демократии, в считанные секунды заморозил в криотоме, быстро сделал пять тончайших срезов, капнул на каждый фиолетовый краситель. Положил срезы между чистыми прямоугольниками предметных стекол – препараты готовы. Можно под микроскоп. Остаток опухоли швырнул в помойное ведро под столом.
– Приведи нашу любимую старушку в порядок, Танюша, все-таки она только что внесла свой вклад в развитие медицины, – ласково приказал он. – Ты это умеешь. Чтоб никто не заметил и ей обидно не было.
Клементьева аккуратно положила круглую крышку на место, накрыла скальпом и быстро крошечными стежками пришила. Накрыла шов седыми волосами покойницы, привела их в легкий естественный беспорядок и отступила на шаг, оценивая работу. Получилось: никаких следов.
Вошел Литвак.
– Шеф, – загудел он. – Превентивно докладываю: уже половина третьего… – и остановился, увидел в руках Большой Берты иглодержатель. – Вышивала? – подозрительно спросил он.
Клементьева покраснела. Но отвечать не понадобилось, потому что снова загремела входная дверь.
На пороге стоял пивной бочонок лет тридцати на кривых ногах и в замызганном, когда-то белом, халате. К верхней крышке бочонка была пришлепнута круглая, совершенно лысая голова. Прямо из ноздрей головы росли усы в коричневых пятнах от никотина.
– Эй, людоеды-потрошители, понимаешь! – заорал бочонок. – Большой привет, да?
Это явился санитар Бабкин с командой за очередным невостребованным или безымянным трупом для отправки на спецкладбище, где бульдозером их закапывали в братскую могилу. Памятником ставили простой деревянный столб с номерами покойников.
– Еще раз ударишь ногой в дверь, – холодно ответил Мышкин, – ею же и получишь по башке.
– Да брось, Полиграфыч! – Бабкин показал крупные желтоватые зубы. На правом верхнем резце он носил золотую фиксу, которую вывез из Адыгеи, где он родился от черкешенки и русского и прожил балбесом до тридцати лет, даже среднюю школу не закончил. Ассимилировался в Питере Бабкин быстро, только от северокавказского акцента до конца не избавился. – Боишься, постояльцев твоих разбужу, да?
– Еще раз услышу «Полиграфыча» – вообще башку оторву, – совсем ледяным тоном пообещал Мышкин. – И отправлю ее по почте малой скоростью в славный город Майкоп. Наложенным платежом. Без задатка.
– Сердитый, да? Большой руководитель стал? – обиделся Бабкин. – Что делается? – обратился он ко всем сразу. – Стоит только хорошему человеку начальником стать, как он…
– Ты, Бабка, лучше расскажи, как твоя прописка? – перебил его Клюкин.
– Что прописка? Прописка хорошо. Все по закону. В России гуманные законы.
– Слова-то какие выучил! – с уважением отметил Клюкин. – А хозяйка квартиры? Все по судам бегает?
– Ой, нет, не бегает уже! Такое горе… Такое горе! Такое большое!.. Старушка успокоилась, значит, скончалась, – несчастным голосом поведал Бабкин.
– Сама? Добровольно скончалась? По собственному желанию? – насмешливо прищурился Клюкин, и его очки полыхнули фиолетовым цейсовским огнем.
– Сама, сама! – закивал Бабкин. – Даже записку оставила по собственному желанию. «Прошу не винить арендатора», пишет. Бедная, да? Очень бедная!
– Вот оно что, – посочувствовал Клюкин. – Даже записку… Повесилась?
– Какой повесилась! От сердца умерла – никто не ждал, совсем не ждал, понимаешь, да? Вдруг взяла и померла.
– Вдруг? Внезапно? – удивился Клюкин.
– Ой, так внезапно, понимаешь, – снова запричитал Бабкин, словно наёмный плакальщик над свежей могилой. – Совсем никто не ждал.
– Ты ж сказал, что она записку перед смертью написала! Чтоб никого не винили! А тебя первого! – закричал Клюкин.
– Не винили, да, совсем не винили… – подтвердил Бабкин, однако, уже не так уверенно. Он не понял, что так поразило Клюкина, но почувствовал, что ляпнул что-то не то.
– Так где тут твоя внезапность? Откуда?! – завопил Клюкин.
Бабкин не ответил и растерянно переводил взгляд с Клюкина на Мышкина, а с него на Литвака.
Мышкин и Клюкин переглянулись и молча кивнули друг другу.
Бабкин появился в Питере два года назад. К тому времени правительство упростило процедуру регистрации приезжих из Средней Азии и Северного Кавказа. Теперь каждому гастарбайтеру достаточно послать в миграционную службу по почте заявление, указать любые данные и любой адрес своей прописки в Питере, чтобы получить вид на жительство. Согласия хозяев жилья, где прописывается мигрант, теперь не спрашивали. Предполагается, что они сами каким-то чудесным образом должны знать, что стали кандидатами в покойники.
Вся трудность для мигранта была теперь лишь в том, чтобы отыскать хороший адрес, в идеале – квартиру с одиноким пенсионером. Таких в Питере много, всем мигрантам хватит. К тому же появилась масса посредников, у которых нужный адрес можно купить сразу всего 1—2 тысячу долларов.
Пенсионерка, «прописавшая» к себе Бабкина, узнала, что у нее есть жилец, только когда получила двойной счет на квартплату. Старуха в ужасе побежала по прокурорам и судам. Ей показали текст нового закона. И заодно еще один, совсем свежий нормативный акт, гарантирующий права кавказских и азиатских приезжих. Теперь арендатора просто так не выселить – нужна долгая судебная волокита.
Новые арендаторы не дремали. Вселялись они в чужие квартиры с помощью полиции. Для этого достаточно показать удостоверение от миграционной службы и с указанной там временной пропиской и слегка приплатить. Полиция попросту взламывала двери квартир несчастных «арендодателей» и вселяла «арендаторов», которые немедленно приступали следующему этапу натурализации – отъему жилья.
Бабкина тоже вселила в квартиру полиция. За пятнадцать тысяч долларов. Хозяйка боролась за свою квартиру полтора года.
– И где же ты теперь живешь? – спросил Клюкин.
– Да там же, понимаешь, куда мне еще деваться? Совсем пропаду. Я скромно-тихо – на улице Зеленина, понимаешь. На Петроградской стороне.
– Аристократ! – значительно заявил Литвак. – Куда нам, плебеям.
– Ты чего, Бабка, снова приперся? – спросил Мышкин. – Вчера уже был.
– Счас… – тот вытащил из кармана бумажку в целлофановом конверте. – Давай-ка мне сюда… невостребованного господина… Вот: Салье Мария Евгеньевна.
– Мария? – переспросил Мышкин. – Может, Марина?
Бабкин еще раз глянул в бумажку.
– Да, ты правильно, говоришь начальник: Салье Марина Евгеньевна! Семьдесят семь лет. Какая счастливая – сразу две семерки!
– С чего ты решил, что она не востребована?
– Я ничего не решал, понимаешь, да? – обиделся Бабкин. – Вместо меня есть кому решать.
– Покажи бумажку! – протянул руку Мышкин.
Странно. В накладной числилась бабушка русской демократии.
– Вали отсюда, – великодушно разрешил Мышкин. – Она будет востребована.
Бабкин сонно захлопал голыми, как у черепахи, веками.
– Ты её востребуешь? – спросил он. – Ты, ее родственник, да?
– Рома, – с печалью сказал Мышкин, вспомнив Демидова. – Не сокращай мою и свою жизнь идиотскими вопросами. Я здесь хозяин. И я тебе говорю: она будет востребована. У нее есть родственники. Если откажутся – приходи и забирай.
– Нет у нее родственников! – с неожиданным упрямством заявил Бабкин. – Не я выдумал. А ты, наверное, умнее всех, да?
– Вот это ты правильно сказал! – похвалил Мышкин. – Умнее. Так что иди гуляй.
– А я говорю: нет родственников! Вот читай еще раз. Сам смотри. Плохо читал.
Мышкин посмотрел требование внимательнее. «Основание: близких родственников нет, тело не востребовано». Подпись Крачкова.
– Дурдом, а не клиника!.. – Мышкин растерянно возвратил бумажку и снова взял историю болезни. Да, в самом деле. Вот на первой странице, он не обратил внимания сразу: «Одинока. Близких родственников не имеет». Подумал и сказал решительно. – Нет, Бабка, не отдам. Скандал будет. Может, родственников и нет, но есть коллеги-демократы, что в сто раз хуже. Сейчас узнают, что померла, – толпой сюда нагрянут. По телевизору покажут. Такая реклама! Кто откажется? Нас тут сожрут, если труп пропадет.
– Ну все! Некогда мне ругаться! Сами начальники – сами решайте! – заявил Бабкин, взял носилки подмышку и ушел, загремев дверью.
– Литвак! – крикнул Мышкин.
– Я здесь, чего орешь? Не глухой, как некоторые! – недовольно отозвался от секционного стола Литвак. Он как раз взвешивал печень азиата.
Мышкин бросил на него косой взгляд: Дмитрий Евграфович был глух на правое ухо.
– Брось ливер, подойди на секунду, пожалуйста, – вежливо сказал он.
Литвак со шлепком швырнул окровавленную печень обратно в брюшную полость трупа и нехотя подошел. Дмитрий Евграфович отметил, что струя алкогольного выхлопа у Литвака достигла полутора метров длины.
– Слишком ушел ты в работу, – проговорил Мышкин. – Не надорвись, драгоценный…
– Я всегда предпочитал полезный производительный труд, – пояснил Литвак. – Не заметил? А еще руководителем считаешься. На хрена нам такие руководители…
– Повтори мне, какие родственники запретили вскрывать Салье?
– Какую такую Салье? – коровьи глаза Литвака стали округляться и слегка выступили из глазниц.
– Вон ту! – указал Мышкин. – Бабушку русской революции.
– Бабушку демократии! – поправил Литвак.
– Видишь ее?
– Ну и что?
Мышкин глубоко вздохнул, задержал воздух ровно на двадцать секунд, медленно обвел взглядом прозекторскую, останавливаясь на каждом предмете, и когда почувствовал, что успокоился, медленно выдохнул. Литвак наблюдал за ним с нескрываемым интересом.
– Женя, – ласково спросил Мышкин. – Ты только что мне сказал, что вскрывать Салье запретили родственники.
– Я такое сказал? – удивился Литвак. – Ты сам слышал?
– И я слышала, – подала голос Клементьева.
– Я сказал? – ошеломленно повторил Литвак. – Именно я такое сказал?
– Ты, Женя, ты.
– Что-то не врубаюсь.
– Так врубись поскорее, потому что сейчас только три часа дня! – рявкнул Мышкин.
Глаза Литвака уже вываливались наружу, он тряс бородой и только мычал.
– Зенки придержи! – заорал Мышкин.
– Полиграфыч, – наконец заговорил Литвак. – Ты лучше прямо скажи, что ты от меня хочешь?
– Попробуем еще раз… – медленно произнес Мышкин. – Ты мне сообщил, – он чеканил каждое слово, – что вскрывать Салье нельзя. Ты орал это на всю клинику, даже покойницу перепугал. Ты вопил, что вскрывать нельзя, потому что родственники покойной не дают согласия. Так?
– Может, и так, – неожиданно согласился Литвак. – А может, и нет.
– Что значит «нет»? Откуда ты взял родственников? Нет у нее родственников!
– А я-то здесь причем? – удивился Литвак. – Я виноват, что ли, что у нее никого нет?
– Да при том, скотина, алкоголик чертов, что именно ты – да, именно ты визжал, что родственники против вскрытия! Где ты их видел? В белой горячке?
– Ты, Дима, думай, что говоришь. Я все ж твой заместитель, а ты со своим языком… – с обидой произнес Литвак. И добавил решительно: – Нигде я твоих родственников не видел. Это Клюкин мне сказал, что вскрывать нельзя.
– Клюкин!!! – заорал Мышкин. – Ко мне!!!
– Готов выполнить любое задание Родины и начальника ПАО! – подбежал Клюкин.
– Толь… – устало заговорил Мышкин. – Ну хоть ты поведай нам что-нибудь человеческое. Зачем ты сказал Литваку, что Салье запретили вскрывать родственники?
– Родственники? – удивился Клюкин. – Про родственников ничего не знаю. Позвонил Сукин и сказал… – он замолчал.
– Ну? Что сказал Сукин? – обреченно напомнил Мышкин.
Клюкин задумался.
– Что сказал? Что он сказал?.. – он яростно зачесал в затылке. – Сейчас вспомню. Вот! Сукин сказал, что Салье сама себя вскрывать не разрешает.
С воплем Мышкин вскочил, отшвырнул в сторону кресло, схватил большой секционный нож и метнул его в сторону канцелярского шкафа со стеклянными дверями. Нож впился точно в узкую деревянную раму и задрожал.
– Сговорились? – кричал Мышкин. – До «скворечника»14 решили меня довести? Смерти моей хотите? Как она могла сказать Сукину? Как распорядилась? С того света телеграмму прислала? Или электронной почтой?
Клементьева поймала Мышкина за локоть, нежно прижала к себе и стала гладить по плечу.
– А ты позвони Сукину, – спокойно посоветовал Клюкин. – Он тебе скажет, откуда была телеграмма.
Заведующий вторым хирургическим отделением Сукин снял трубку сразу.
– Да, – сказал он. – Не вскрывать. Такова воля покойной. Есть завещание. Она при мне диктовала нотариусу, и я скреплял как свидетель.
– Хм… А почему ей так захотелось? – спросил угрюмо Мышкин.
– А черт ее знает! Нам-то какое дело… Сказала, по религиозным соображениям. Баптистской стала. Или адвентисткой. Не знаю. Я в них не разбираюсь.
– Что-то новое! – удивился Мышкин. – Какая может быть религия? Она же доктор наук!
– Так и что – доктор! – отозвался Сукин. – Что там доктора наук! У нас подполковники КГБ и президенты страны с юности стали православными – сразу, как в ленинский комсомол вступили. Им можно, а ей нельзя?
– Да можно! Можно, – раздраженно согласился Мышкин. – Все, спасибо.
Постучали в дверь.
– Открыто! – крикнул Клюкин.
Снова Бабкин.
– Так я забираю? Или еще нет? – спросил он.
– Забираешь… – устало произнес Мышкин. – Танюша, – попросил он. – Кофейку. И вот еще попрошу: сделай мне пару срезов из мозгов киргиза, его Литвак вскрывает как раз…
Однако выпить кофе ему не удалось. Позвонила секретарь главврача и потребовала Мышкина к начальству.
6. Во всем виновато солнце
У входа в приемную главврача стоял автоматический бахилонадеватель. Посетитель миновать его не мог так же, как пассажир в аэропорту – металлодетектор. Без бахил к главврачу лучше не входить: может и выгнать – по настроению.
Мышкин поставил на панель бахилонадевателя правую ногу, нажал кнопку, выждал семь секунд. Автомат с чавканьем плотно облепил его кроссовку синим прозрачным лаптем. Поставил другую ногу – получил второй лапоть. Пропуск имеется, можно входить.
Он отворил дверь, в лицо ударил подвальный промозглый холод. Мышкин поежился, виновато улыбнулся секретарше, шестидесятипятилетней Эсмеральде Тихоновне Фанатюк, и взялся за ручку двери кабинета Демидова.
– Дмитрий Евграфович! – остановила его Эсмеральда с мягким упреком в голосе. – Вы ражве не жаметили, што ждесь шекретарь, которого надо шпрошить, прежде чем двери начальника открывать?
– Но вы же сами меня вызвали!
Она глянула на его обувь – бахилы на месте; с полминуты рассматривала скрепки на его голове.
– Ижвините, там Швейчария на проводе. Из фонда жвонят. И доктор Шуки́н там.
Так она облагораживала фамилию доктора Сукина, но не подозревала, что лишний раз напоминает, на какую букву на самом деле падает ударение. Точно так психотерапевт приказывает параноику ни минуты не думать об обезьяне с красным задом, и тот старается, не выпускает красный зад из зоны своего внимания ни на минуту.
– Или вы шпешите куда?
– Вот уж нет! Я никогда никуда не спешу, – заявил Дмитрий Евграфович. – Мой modus vivendi15 – не бежать за трамваем и за вчерашним днем. Посижу у вас, помечтаю.
Ледяная струя из кондиционера ударила сверху, как поток из душа, заломило нос. Мышкин ухватился двумя пальцами за переносицу, сжал покрепче, чтоб не чихнуть, но опоздал. В приемной раздался грохот.
Эсмеральда вздрогнула.
– Напугали вы меня, дружок. Предупреждать надо.
В ее взгляде Мышкин увидел хорошо сбалансированные строгость и сочувствие.
Он вытащил из кармана грязноватый платок, теперь уже от души высморкался и виновато сказал:
– Простите, Эсмеральда Тихоновна. Обидно, знаете ли, простудиться в таком пекле.
Эсмеральда подняла правую бровь и одновременно опустила левую – максимальный уровень сочувствия.
– Нишево, нишево, друг мой, чихайте, сколько нравится, – величественно кивнула она. С ее подбородка оторвался и медленно опустился на стол белый лепесток пудры.
«И где она ее берет? – подумал Мышкин. – На прилавках уже сто лет не увидишь порошка – ни зубного, ни пудры. Мел, наверное, по вечерам толчет в ступке…» Ему вдруг вспомнилось прутковское «Древнегреческой старухе, как если бы она домогалась любви моей»:
Отстань, беззубая!., твои противны ласки!Со щек твоих искусственные краски,Как известь, сыплются и падают на грудь.Припомни близкий Стикс и страсти позабудь!..И закусил губу, чтоб не рассмеяться. Потом отметил, что сегодня Эсмеральда шамкает больше обычного, но непонятно, почему: все три ее желтых зуба на месте.
– А Су́кин… извините, Суки́н давно там?
Фанатюк открыла крышку своего кулона на золотой цепочке:
– По хронометру, ангел мой, доктор Шуки́н жанят у Сергея Сергеевича девятнадцать минут и тридцать две секунды.
– Мерси! Даже не представляете, как я рад за доктора Сукина́! – тоскливо сообщил Мышкин. «Окоченею здесь до смерти!..»
Тем временем Эсмеральда поставила на стол перед собой картонную коробку из-под женских сапог фирмы «Ленвест» двадцатилетней давности и принялась загружать ее женской мелочью. В картонку медленно легли пудреница, черный кошелек типа «ридикюль», зеркальце квадратное, потом зеркальце круглое, потом зеркальце овальное с ручкой; пустой флакон из-под духов «Чио-чио-сан», флакон с лаком для ногтей, лак-спрей для волос, тюбик из-под старинной польской губной помады. Дальше Эсмеральда взвесила на ладони пачку открыток – поздравительных, издалека понял Мышкин. Поколебалась и ее отправила в коробку. Поймав, взгляд Дмитрия Евграфовича, вздохнула:
– Ухожу, дорогой мой. Покидаю родную обитель. А ведь двадцать три года жа этим штолом!..
– Не может быть! Шутите?
– Какие тут могут быть шутки? – обиделась Эсмеральда.
– А мы? – закричал Мышкин. – Как же мы? Клиника? Больные? Врачи? Медсестры? Кошка Машка?
Взгляд Эсмеральды затуманился.
– На пеншию отправляют – а я не просила. Могу работать еще што лет. Ну, не што, – спохватилась секретарша, – а лет дешять-пятнадцать – шево же? Могу.
Мышкин согласился, что запенсионный возраст – не повод для увольнения. Он и в самом деле думал: работает человек, хорошо работает. Какая разница, сколько ему лет? Вот только челюсти давно надо было вставить.
Эсмеральда была такой же неотделимой принадлежностью клиники, как секционный стол или электронный микроскоп в морге. До клиники она была мелким партийным работником, но освоилась здесь очень быстро. И пережила всех начальников еще с тех времен, когда клиника была простой советской больницей. Она знала все: кто действительно хороший врач, а кто так себе, пусть он трижды доктор наук; прекрасно была осведомлена, у кого из врачей какая жена и какая любовница. И даже почитывала медицинскую литературу. Бывали моменты, когда Мышкину казалось, что не профессор Демидов, а секретарша Эсмеральда Тихоновна в клинике настоящий хозяин.