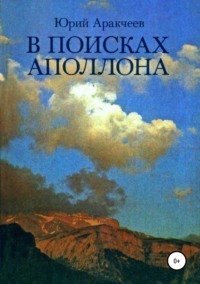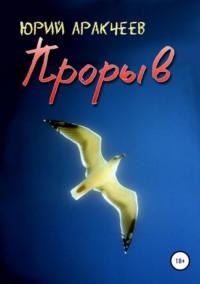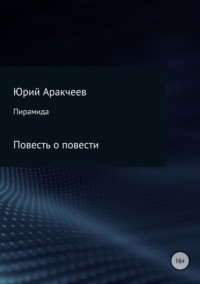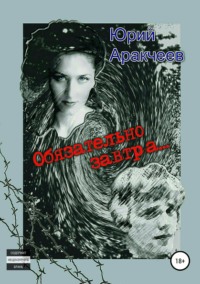Полная версия
Поиски Афродиты
– Скажи что-нибудь, – говорю зачем-то.
– Я жду, когда ты отдышишься.
Все взрывается во мне. Странно: как мгновенно может все измениться. Я ненавижу ее активно. Мы рядом, но мы чужие. Абсолютно. Ничего общего! В ее словах презрение и безжалостность. Неужели я мог испытывать нежность к ней? Ненавижу!
Наконец, засыпаем оба.
Это было в ночь с 19-го на 20-е. А 21-го вечером сижу дома и жду ее звонка. Все-таки жду. Ну не может же быть такой лжи, не может. Мы ведь так близки были… Я сам виноват, наверное. Делал что-то не так… Она обещала позвонить в семь, но не звонит. Я в отчаянье, у меня наворачиваются слезы, это уж совсем не к чему. Ни черта не понимаю. Ненавижу себя.
Позвонила в половине десятого:
– Как ты себя чувствуешь?
Издевается? Но тон хороший. Нет, шутка просто… И ведь позвонила все-таки…
И – опять суббота, 25-го… Такая же. Арон пришел на этот раз только утром, дружище. Но ночью опять ничего не получилось у нас – те же финты, та же дурь. Я не выдержал, разрядился прямо в трусы. Стыд-то какой… А потом мы оба уснули.
При Ароне умывались, отправились завтракать в забегаловку. Потом я провожал ее до метро. Какая-то тихая истерика у меня началась. Я вдруг вздумал позвонить Пашке Васильеву в общежитие Университета, сам не знаю, зачем.
– На, вызови, – сказал ей, набрав номер и давая трубку. – Скажи: 24-я, правая.
Она вызвала. Пашка подошел. Она не отдавала мне трубку. Она сказала, что говорит, якобы, Лена, так я ей подсказал. Зачем? Потом все-таки взял у нее трубку. Но потом, по просьбе Пашки, опять передал ей. Она начала кокетничать, а Пашка, естественно, дал ей свой телефон и просил обязательно позвонить сегодня же, в пять вечера, обязательно. Чтобы подразнить меня, как сказал потом. А еще он думал, что я ее ему по-дружески уступаю.
Стояли в метро, наверное, не меньше часа. Я опять был в чаду – несмотря ни на что, – а она опять не хотела меня отпускать.
– Мне хочется поцеловать тебя прямо сейчас, при всех, прямо в губы… – пылко говорила она и так смотрела!
Хотя за всю прошедшую ночь был только один поцелуй, и до конца мы так и не раздевались. После разрядки трусы были мокрые, липкие, они так и высохли на мне – я чувствовал себя ужасно. Мне показалось, что она была рада моей безобразной разрядке, странное удовлетворение я почувствовал в ней. Теперь, в метро смотрела в мои глаза, не отрываясь, и прижималась ко мне. И конечно же, чувствовала, что брюки и трусы стали мне тесны… По-моему, она хотела, чтобы я прямо тут, в метро разрядился.
– Ты мне очень нравишься, даже больше, – с придыханием говорила она. – Откуда ты взялся такой хороший? Я ни на кого тебя не променяю: твои глаза, твои губы, твой волос…
Она всегда говорила не волосы, а волос, и это меня раздражало. Многое уже раздражало в ней. Я сказал, что если будет продолжаться так, как сейчас у нас, то я найду себе другую. И скоро!
– Ты всегда усталый в субботу, – не слушая, продолжала она, напряженно и часто дыша, чувственно глядя. – За неделю, наверное, устаешь от разных?
Дура, подумал я, или садистка просто. Издевается, что ли…
– Знаешь, в следующую субботу я буду твоей, совсем-совсем твоей. Совсем-совсем. И чтобы через девять месяцев у нас был ребенок. Ты согласен? Ты хочешь? У нас с тобой будет два мальчика, да?
– Нет, двадцать.
– Ты только ни с кем не встречайся до субботы, ладно?
И все прислонялась ко мне, все смотрела – так, что даже неудобно было перед людьми в метро.
Расстались наконец. Дома я не знал, чем заняться, не находил себе места. А вечером, что-нибудь в начале шестого – Пашкин звонок.
– Чего делаешь? Слушай, давай посидим в парке, в ресторане. Давай? Поболтаем, пива попьем. Если хочешь, возьми с собой девушку какую-нибудь. У меня есть, я договорился. Не хочешь? Ну, приходи один. Денег нет? Это хуже. Но все равно приезжай, немного у меня есть.
И вот парк, ресторан. Смотрю сквозь стеклянную стену и сначала не вижу Пашки. Но все равно вхожу – и вижу, наконец. Иду направо, подхожу к столику. Она. Сидит рядом с ним – праздничная, напомаженная, в элегантном плащике, которого раньше я у нее не видел. И явно из парикмахерской только-только – такой прически тоже не было у нее. И маникюр свежий. Для меня она ни разу так не прихорашивалась.
Перед ней и Пашкой пустые кружки от пива, закуска. Она вся трепещет от возбуждения, глазки блестят.
Первая мысль – уйти. Но перед Пашкой все-таки неудобно. Пришел, чего ж. Можно и посмотреть.
Пиво было очень холодным. Пашка даже на коньяк разорился. Но был он, друг мой давний, все же скучный какой-то. Я сделал бы все куда веселее. Что-то не заладилось у них, явно. Сволочь. Какая же она сволочь.
Посидели, попили пива. Потом холодные аллеи. Вот тут-то можно было уйти. Но я не уходил. Я наращивал шкуру. Наивный мальчик двадцати двух лет, воспринимающий жизнь как сказку, верящий всем подряд. Ей-богу, мне жалко его сейчас. Но, возвращаясь, по ленте времени в прошлое, ощущаю все то же самое. И теперь чувствовал бы и поступал так же. Или как следует, или никак. Я не хочу плавать в дерьме.
Наконец, направились к выходу из парка.
Пашка:
– Слушай, у тебя Арон дома? Я бы поехал с ней к тебе, а ты бы у меня в общежитии переночевал. Я тебе пропуск дам. Годится?
– Арон дома.
– Только поэтому? – внимательно, испытующе смотрит. Ни в одном глазу!
– Считай, что только.
Простился сдержанно, отошел от них. Сел в троллейбус. В ней появилось чуть-чуть растерянности, но за мной не пошла.
Приехал домой. Арон действительно дома. Рисует.
– Ты что грустный такой? – вопрос мне. – Случилось что-нибудь?
– Да нет, ничего, все как и должно быть. Что рисуешь? Опять своих рыбаков?
Он был недавно в Сибири, в творческой командировке, и теперь рисует тружеников моря и села.
Я изо всех сил стараюсь казаться обычным. Раскрывать душу Арону не хочется. Грустная музыка по радио – как специально. Стал слушать. Арон закончил этюд, кисти моет, ложится. Одиннадцать уже – ночь. Тоже раздеваюсь, ложусь.
«Знаешь, для меня это на последнем месте, лучше вообще не надо, ты не расстраивайся, – так говорила она ночью, когда стыдная разрядка у меня состоялась. – Я тебя и так люблю, без этого, понимаешь. Ну, не получается у нас пока, ну и ладно. Разве мы только из-за этого встречаемся? Ведь нет же? Ведь нет? Тебе ведь не только это надо, правда ведь? Ведь так даже лучше, без этого. Конечно, если бы ты захотел… Чтобы мы стали с тобой вместе совсем. Совсем-совсем… Все бы и здесь наладилось, я уверена. Все будет у нас хорошо, я тебя вылечу…» При последних словах она хихикнула чуть-чуть, но так, почти незаметно… Это было сегодняшней ночью – Арон не ночевал, и можно было поговорить. Но говорила она, я молчал. Я просто не знал, что сказать, как выразить, чтобы она поняла. Разве так не понятно? Это ужасно – то, что она говорила, это дикая ложь, но как объяснить ей это, я не знал. И вот инцидент с Пашкой. Дальше просто некуда. Куда я попал, что за мир? Неужели и тут так же, как с «Купальщицей», «Нимфой»? Они – прекрасны, но они – это всего лишь фантазия гениальных художников, а в реальной действительности – пляж: толстые, некрасивые, вонючие тела на грязном песке…
Телефонный звонок раздался в коридоре внезапно. Я вздрогнул. Поздно, ведь все спят в квартире, так поздно нам никто не звонит. Встаю, иду. Она.
– Прости. Мне нужно с тобой поговорить немедленно, сейчас же. Ну, пожалуйста. Арон дома?
– Дома.
– Жалко… Я хотела бы приехать. Очень. Может, можно, а?
– Откуда звонишь?
– С Киевской.
– Почему с Киевской?
– Я тебе все объясню…
– Приезжай.
Я ждал в парадном, на лестнице, чтобы дверным звонком не разбудила соседей. Приехала, торопящаяся появилась из темноты внизу. Прошли потихоньку по коридору, тихо вошли в комнату, чтобы не разбудить Арона. Сняла с шорохом платье. Только платье, отметил я. Легла рядом со мной – в белье залезла под одеяло. Шепотом, волнуясь, рассказывала, как ехала с Пашкой до Университета, как он уговаривал зайти к нему, а она устояла геройски. «Что ты в нем нашла?» – якобы говорил он про меня, какие-то гадости нес, карикатурно описывал мою внешность…
Она была очень возбуждена, никак не могла успокоиться, все рассказывала – как с трудом отбилась от него и на автобусе добралась до Киевской. От нее пахло и коньяком, и пивом. И не только…
– Он не друг тебе, зря ты считаешь его другом, – продолжала она о Пашке. – Он подлый…
Перевела дух и добавила, как резюме:
– У нас ничего не было, правда. Мы не целовались даже по-настоящему. Я тебя люблю, только тебя…
Это «по-настоящему» резануло меня, но я сдержался.
– Неужели так ничего и не было, неужели ты устояла? Ах, какая ты молодец. Героиня просто!
– Прости. Я ведь не знала, что так получится, что ты так скоро уйдешь. Мне просто хотелось тебя разыграть. Ну правда же. Пожалуйста прости! – горячо шептала она под храп Арона и прижималась ко мне. Почти одетая. И ничего снимать, похоже, не собиралась.
И эта ночь прошла так же, как все. Я ждал от нее чего-нибудь, мне унизительным казалось сейчас «действовать» самому. Но не дождался.
Рано утром она ушла. На работу.
В те дни я стал замечать, что со мною что-то неладно. Может быть причина – жара? Весь июль было под тридцать. А может быть моя работа в лаборатории с хлорфенолами? Или ртутные пары, может быть: мы находили лужицы ртути под столами, за шкафами… Внешне, правда, все казалось нормальным, однако я чувствовал себя, как арбуз, блестящий и крепкий снаружи, но иссохший внутри. Порой ловил себя на мысли, что голос, мой собственный голос кажется мне чужим, и я со странным интересом прислушиваюсь к тому, что говорю. Ночами снились кошмары, я просыпался внезапно, и сердце мучительно колотилось. С горечью наблюдал за собой. Наконец, решился: выпросил два дня за свой счет в лаборатории и уехал на Истринское водохранилище.
Дремал под солнцем на берегу или в лодке, купался каждые полчаса. Вода сильно спала по сравнению с тем, что было в прошлую поездку. И мой любимый остров теперь весь показался из воды. Один заливчик среди высоких кустов с чуть вогнутым песчаным берегом, прозрачной водой и камешками на дне напомнил даже Гавайские острова, описанные Хейердалом – розовая мечта юности. В этом заливчике я и купался. Один раз заплыл довольно далеко, а возвращаясь, сбился с дыхания и от минутной паники наглотался воды. Дремал, купался, опять дремал – словно кто-то укачивал меня в лодке, как в люльке. Потом принялся бегать голышом вдоль острова, продираясь сквозь заросли. Листья ласково гладили мое тело, солнце целовало его…
Увидел парочку на той стороне пролива. Они приехали на мотоцикле, который стоял в тени деревьев, склоненный на один бок. Мужчина в очках сосредоточенно сидел над своими удочками, а молоденькая она, с интересом оглядываясь по сторонам, неуверенно плескалась у берега. Я поглядывал на нее и чувствовал, что выздоравливаю. Купальник ее был тоненький, узенький, она была отлично сложена и красива…
Ночевал в избушке у доброй старушки, пил отличное молоко. На другой день рано утром плыл на лодке в сторону пролива с романтическим названием Дарданеллы и на берегу вдруг увидел обнаженную женщину. Она стояла, глубоко дыша полной высокой грудью, слегка потягиваясь. На песке пласталось небрежно брошенное полотенце. Солнце только-только всходило. Картина, вполне сравнимая с теми… Может быть, это галлюцинация?
В тот же день вечером я уже был в Москве.
Она позвонила на другой день, утром.
– Если ты можешь, то… Давай в субботу?
– Хорошо. Ладно, – сказал я холодно.
Встречаться с ней не хотелось, но надо ведь что-то решить наконец. Встретились и ходили по улицам. Я предложил зайти ко мне…
– Нет, ты знаешь, – ответила она на мое приглашение. – Сегодня я не могу. Я обещала бабушке, что…
– Хорошо, – сказал я спокойно. – Можешь мне больше не звонить. Ты играешь со мной. Ты пользуешься тем, что я… Это не честно. Ты лжешь. Ну, в общем будь здорова. Пока. Не звони больше.
Она растерялась и ничего не успела ответить: привыкла к моей послушности, не ожидала! Я ушел.
Она не звонила, но вскоре я получил письмо. Она писала, что любит меня. И что «верит», что я, мол, с ней встречался «с полезной для нас обоих целью». Я на всю жизнь запомнил знаменательные эти слова: «с полезной для нас обоих целью». Вот, оказывается, что такое любовь. «Полезная цель»! А я-то…
В конце письма она умоляла ответить «как можно скорее». «Наверное, бабушка отказала в квартире», – подумал я. Ответил через неделю. Написал то, что думал. То есть, что не понимаю, как можно считать целью то, что должно быть лишь следствием. И что хватит с меня всей этой дури и издевательства.
Ее второе письмо было совсем не такое, как первое. Что я и ожидал впрочем. Запомнилась фраза: «Если и ты такого пошиба…» «Пошиба»… Это в ее духе. И еще запомнилось, что мне, по ее мнению, нужно, оказывается, «только это». «Только»!
Я еще не знал тогда – Арон рассказал чуть позже, – что, оказывается, она была знакома с его приятелем, москвичом, у которого шикарная мастерская – кстати, совсем не так далеко от моего дома. Он, Арон, увидел ее там однажды, но мне не говорил нарочно, чтобы не огорчать. Оказывается, в один из вечеров, когда она ждала меня у метро и приехала чуть раньше, а я опаздывал, этот художник познакомился с ней и дал ей свой телефон. Она звонила ему, а потом и бывала в его мастерской.
– Ну… И что же? – спросил я, с трудом проглатывая ком в горле.
– Честно?
– Разумеется, честно. Не бойся меня огорчить. Даже наоборот.
– Ну, в общем, он сказал, что она неплохая девушка, но слишком развращена. Что-то ему не понравилось в ней, он пару раз был с ней в близости, а потом не стал. И это было в то время, когда она бывала у тебя, вот в чем фокус. Как у тебя-то с ней?
– Нормально, – сказал я с трудом. – У меня нормально.
– Хочешь, познакомлю тебя с ним, сходим в его мастерскую? Может, он ее рисовал?
– Не надо.
Но это после, позже. В период переписки нашей я еще об этом не знал.
Тогда, в то лето поехал в Медвежью-Пустынь, когда получил отпуск. Старался не вспоминать о ней – как когда-то об Алле, – продолжал пытаться писать рассказы. Один как бы даже и получился: я назвал его «Запах берез», он потом – через много лет – был опубликован в «толстом» журнале, а потом вошел и в самую первую книгу. Это описание той самой поездки на Истринское водохранилище – правда, без упоминания Тони. Ходил по лесу, ловил рыбу. Вспоминал о романтической – сказочной! – встрече с девушкой Раей в то счастливое лето перед началом учебы в Университете: она ведь как-то звонила, и встречи с ней в Москве были, там тоже есть о чем вспомнить, но это чуть позже… В Пустыни был недолго – нужно было фотографировать детей в детских садах, зарабатывать деньги: я ведь собирался уходить из лаборатории, всерьез заняться писательством. Как Мартин Иден. Эта книга, кстати, меня потрясла, прочитал ее как раз приблизительно в это время.
Отпуск кончился. Я пока ходил в лабораторию. Слава Богу, уехал Арон. Совсем. Наконец-то я остался один в своей комнате.
Однажды случайно прочел ее первое письмо. И вспомнил, как все начиналось. Эта скамейка под дождем, первые встречи, первое купанье в жару… Может быть, виноват все-таки я? Не сумел ведь. Да, финты, да игра, но я-то что же… И ведь молчал все больше, не говорил толком даже. Не умею ведь. В том и дело.
И – написал ей. Как бы так, между прочим.
Она немедленно позвонила. Мы встретились.
Она опять нравилась мне, и я был скован. Сели на водный трамвайчик, доплыли до Ленинских гор, потом обратно. Уже были поздние сумерки. Дул ветер – в свете береговых фонарей сверкали неспокойные волны. Только на обратном пути я обнял ее, податливую. От ее ногтей пахло свежим лаком. Она молчала, я тоже.
Медленно и молча шли с пристани. Наконец, все же предложил зайти ко мне.
– Арон уехал, – сказал я. – Совсем. Я теперь, наконец-то, один в комнате.
Но она покачала головой. Отрицательно. И сказала, что обещала своей хозяйке быть дома в половине двенадцатого. У нее теперь другая хозяйка, очень строгая, старенькая, нельзя ее волновать.
– Ну, что ж, – сказал я. – Как знаешь…
У метро мы холодно простились.
Однако она позвонила на другой же день, утром. И очень просила о встрече.
Сразу пошли ко мне. Все началось, как раньше.
– В таком случае уходи, – сказал я. – Или, может быть мне уйти? Ночевать на вокзале? Зачем же ты ложишься со мной, если так ведешь себя? Это издевательство, ты не находишь?
– Не надо…
Под утро она не выдержала.
Великое, историческое событие в моей жизни произошло как-то буднично и почти незаметно. Я сначала даже не понял, не осознал, что это именно ТО. Просто, у меня опять неуместная разрядка – мы были без всякой одежды оба, – и она, очевидно, решила, что все, я иссяк. И расслабилась. Я действительно иссяк, но, как оказалось, не совсем, кое-что у меня еще топорщилось напоследок – оно-то вдруг и проникло. В нежность и теплоту. И вдруг я понял: это – ТО САМОЕ. Свершилось! Я чуть не заплакал. От обиды, досады, от безнадежной печали. Ведь так просто оказывается! Так просто! А она столько мучила. Почему?! Зачем?! Кому от этого лучше? Господи, делов-то… Они что, все ненормальные? Господи, делов-то… Зачем же она так мучила? Зачем Ленка, Мира, другие… О, Господи, что же это за мир…
И она, думаю, поняла. Расслабилась тотчас. Но не от удовольствия, нет. Не от нежности вовсе. А от усталости. Но главное – главное все же другое. С холодным ужасом я вдруг осознал: она поняла, что ПРОИГРАЛА! Потому что противник – противник, а не друг – противник!! – занял неожиданно и коварно давно осаждаемую неприступную крепость. Занял, конечно, не полностью, не так, чтобы победно и основательно, но все же – проник. Раскрыта страшная тайна! Дальнейшее сопротивление бессмысленно, ворота распахнуты. Конец войне.
Я лежал в полном трансе. Не крепость разочаровала меня – другое. Конечно, это таинственный, волшебный цветок, подаренный ей Природой, конечно. Но он ведь предан ею, унижен. Горечь, отчаяние, жалость просто затопили меня. Мне хотелось рыдать, как ребенку. Это теплое, ласковое, нежное чудо, этот родник Жизни и Радости, был оболган и оскорблен. Она прятала от меня теплые недра, она относилась к ним как к товару и хотела продать подороже. Потому и ускользала упорно. Какая любовь?! Торговля, схватка, военные действия и борьба! Бесстыдно она отдавалась другим – тем, кого завоевать было трудно, но с которыми зато можно побаловать тело – физиология ведь, для здоровья! О, я слышал о подобных историях: за деньги, за блага, за карьеру – пожалуйста (но, конечно, так, чтобы никто не знал)! А вот по любви… Это надо еще заслужить, заработать! И каким трудом!… «Я не такая». «Вам лишь бы одно»…
Проигрыш, поражение просто вопили в ней. Безвольное, усталое тело, печальные глаза. Вместо великого праздника у нас получились поминки.
Расстались, естественно, как чужие. Как будто я украл у нее что-то. А она проворонила.
Она долго не звонила. А я все свободное время опять писал и переписывал свои рассказы. Этакие зарисовки о природе получались пока – о рыбной ловле, об Алексее Козыреве, о Рыбинском море… По фразам, по словам разбирал рассказы Бунина, Чехова, Хемингуэя. Разумеется, я не собирался им подражать. Просто интересно было, на чем держится конструкция, как «работают» слова, почему такая музыка в рассказах Бунина, мерный, многозначительный ритм у Хемингуэя, глубокая, таинственная печаль у Чехова. Как избавиться от повторов, неясностей, нарушения ритма, занудства. Появился и второй рассказ у меня, «Зимняя сказка» – просто о том, как мы с Гаврилычем ходили на рыбную ловлю, один только день: волшебство зимней природы, леса, восхода солнца, подледной ловли… Он тоже потом, через много лет, был напечатан в «толстом» журнале, его хвалили… Но это потом. А пока был труд, мучительный труд, потому что очень нелегко увидеть себя со стороны – и вообще себя, и то, что ты пишешь.
Я тоже не звонил ей.
Прошло после нашей встречи месяца полтора. Она позвонила. И сказала, что у нее «большое несчастье».
– Что случилось? – спросил я.
– Не по телефону. Давай увидимся.
– Приходи, конечно.
Пришла. Я сидел на кровати, она на стуле, далеко от меня. Показала справку – направление на аборт. Боже мой, я-то причем? Конечно, проникновение было, могло, наверное, попасть что-то, но вероятность настолько мала… Ведь я едва-едва проник… Ничего нельзя гарантировать, верно, но я опять упорно чувствовал ложь. И сейчас думаю: неужели? А тогда тотчас вспомнилось, что мне рассказала Рита, сестра. Тоня видела ее как-то, знала, кем она мне приходится, и однажды подошла к ней на улице.
– Юре давно пора создать семью, подскажите ему, ведь это ему только поможет, – попросила она.
Ничего себе! Рита удивилась и, естественно, отказалась:
– Это его личное дело, он взрослый человек, пусть сам и решает.
Пообещала, что не скажет мне, но недавно, когда я признался, что мы фактически с Тоней расстались, сказала. Теперь это и вспомнилось. Я подумал, что теперь новый шантаж. И сейчас думаю: так, пожалуй, и было. Тем более, если вспомнить, что мне перед отъездом сказал Арон.
Тем не менее, с несчастным, траурным видом первая в моей жизни женщина говорила, что все последние дни думала о смерти. Почему?! – думал я. Ребенок от любимого человека, пусть даже вне брака, пусть даже без собственной квартиры, пусть даже у не очень богатой девушки… Трудно – да! Но причем же тут смерть?
Может быть я и не прав, понимаю, но я чувствовал махровую ложь. Мне стыдно было смотреть ей в глаза не из-за себя – из-за нее. Все-таки я вздыхал, соглашался, что да, это ужасно, но что же делать, раз так получилось. Причем же тут смерть?
– Ну, ладно, хватит об этом, – вдруг сказала она и придвинулась ко мне боком.
Я обнял ее – жалко ведь все-таки. Теперь она вела себя по-другому. Любви-нежности не было, но она по крайней мере сразу разделась и не делала никаких финтов. Совсем по-другому, я изумился.
Но я изумился не только этому. Стыдно об этом писать, но слишком большой отпечаток это наложило на всю мою последующую жизнь. Раньше санитарное состояние ее тела было как-то на уровне, во всяком случае отвращения на этой почве у меня не возникало. Но в этот раз… Я не чаял, как все закончить быстрее. Меня начало тошнить. Только из уважения к ее человеческому, женскому достоинству (несмотря ни на что!) я все-таки продолжал. Это было ужасно. Она что, нарочно решила мне так отомстить?
Когда она ушла, я согрел чайник, принес таз и тщательно отмывался. Я чувствовал себя униженным и оплеванным. Господи, за что это? Какая «Нимфа», какая «Купальщица»… Уже чувствовал, что долго не захочу ни с кем иметь дело.
Вскоре она позвонила и сказала, что «все в порядке» и опять попросила о встрече. Встретились. В последний раз. Наконец-то честно сказала, что не хочет «так», а хочет замуж, что ей «вообще надоело так», а меня она любит и очень хотела бы, чтобы… Разумеется, я сказал, что это исключено.
И теперь она уже точно ушла. Из моей жизни совсем, слава Богу. Первая моя женщина – после романтики с Лорой, с Аллой, после снов и фантазий… Увы.
Единственная из всех, к которой я не испытываю благодарности.
Рая
А теперь пора вспомнить…
Август. Тихий погожий вечер. Мне – восемнадцать. Мы с моим новым знакомым охотником, «старшим товарищем» Владимир-Иванычем идем по тропинке вдоль речки Сестра (приток Яхромы). Впереди – деревня Медвежья-Пустынь. Переходим мост… Пахнет сеном, цветами, чуть-чуть тиной, болотом. Навстречу – девчонка лет семнадцати. Улыбается почему-то и мимо проходит… А у меня сердце так и замерло.
– Студенты здесь на уборке, – бурчит Владимир Иваныч. – Такую моду развели – студентов в деревню посылать на уборку. Из институтов, даже из техникумов…
Оборачиваюсь, смотрю ей вслед. Она тоже обернулась, смеется. Боже, как хороша!
Владимир Иваныч в другой избе останавливается, у него тут давние знакомые. А я у тети Нюши. Тоже как всегда. Пришел, тетя Нюша хорошо приняла, сидим за самоваром при свете керосиновой лампы – с ней и ее сыном, Борисом. И вдруг открывается дверь избы, и входит… Чудеса: входит та самая девушка, что встретилась нам по дороге! Да еще и с подругой. Мистика да и только…
Да, студенты техникума, да, на уборке пшеницы. Рая. Волосы у нее недлинные, но очень густые, шапкой – русые, вьются чуть-чуть. Глаза то ли голубые, то ли серые, при керосиновой лампе не разглядишь. Обе с нами за стол садятся, вместе пьем чай, из Москвы я конфеты да пряники привез.
И замечаю вдруг, что все словно изменилось в избе с их приходом – лампа, что ли, ярче разгорелась? Уютнее стало, теплее, радость, спокойствие овладели всеми. С милого ее лица улыбка не сходит, ямочки на щеках, а носик просто загляденье – чуть вздернутый, но прямой, аккуратненький, задорный такой. Ну, вот же она, настоящая жизнь, думаю я тотчас, вот же она! Ну просто ток какой-то исходит от девочек, а особенно от нее, от Раи – не смотришь, а все равно ощущаешь. Каждая клеточка в ней трепещет даже когда просто сидит и молчит. И ни нервозности, ни выпендривания никакого, одна радость жизни переполняет ее, кажется, хотя и сдерживается она, даже как бы и стесняется этой своей радости – говорит мало, а только улыбается, смотрит весело, а глаза так и лучатся.