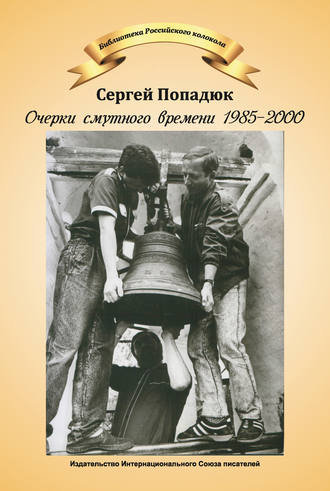
Полная версия
Очерки смутного времени 1985–2000

Сергей Попадюк
Очерки смутного времени 1985–2000
© Сергей Попадюк, 2019
© Интернациональный Союз писателей, 2019
* * *
Попадюк Сергей Семенович
Старший научный сотрудник Государственного института искусствознания. Кандидат искусствоведения, член Союза московских архитекторов, советник Российской Академии архитектуры и строительных наук.
Автор ок. 70-ти научных публикаций, в т. ч. монографий Теория неклассических архитектурных форм. М., «Эдиториал УРСС», 1998. (14 а.л.) и Неизвестная провинция: Историко-архитектурные исследования. М., «Едиториал УРСС», 2004. (40,5 а.л.), а также книг Черновик и комментарий: Записки искусстволога. М., Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. Кн. 1–3 (80 а.л.) и Без начала и конца. М., «БИБЛИО-ГЛОБУС», 2014 (56 а.л.) и Кивни, и изумишься. М., «ВРЕМЯ», 2019. Кн. 1–2.
Предисловие
«Объективный» взгляд на историю – иллюзия научного историзма. На историю вообще нельзя «смотреть», нельзя изучать ее как некий внеположный нам объект: мы внутри, мы занимаем в ней определенное место и, следовательно, неотделимы от нее.
Мы стоим в этой истории не как в безразличном пространстве, где можно было бы произвольно вставать на точки зрения и позиции. Эта история – сама образ и способ, каким мы стоим и идем, каким мы суть.
Хайдеггер. Европейский нигилизм.Изучать историю – значит изучать себя в ней, а изучать себя можно только действуя.
Всякая история – современная история… она – осознание собственной деятельности в тот момент, когда она осуществляется. История, таким образом, – самопознание действующего сознания.
Коллингвуд. Идея истории.Поэтому представление об истории как о застывшем, окаменевшем, раз и навсегда данном чередовании экзотических «эпох», «стилей», «типического» должно быть заменено представлением о динамическом единстве духовного опыта.
Опыт прошлого мы познаем лишь постольку, поскольку осознаем его как наш опыт, и в этом смысле прошлое, вопреки Гегелю, преподает нам определенные «уроки» (или, вернее, мы сами извлекаем из него эти уроки), равно как и само не остается неизменным, постоянно равным себе, но изменяется, тяжелеет смыслом, актуализируется по мере того, как мы накапливаем опыт. Углубляясь в прошлое, мы создаем нечто новое, изменяющее нас и нашу действительность. История не «изучается», она конструируется. Мы только и делаем, что создаем свое прошлое.
Ну, а если живешь в настоящем (которое когда-нибудь станет прошлым) и, весь во власти сегодняшних событий, тревоги, проблематичности неизвестного будущего, стараешься уже сегодня предвосхитить завтрашнее воссоздание, переосмысление этого настоящего? Может быть, это удастся, а может, и нет. Но сама попытка совсем не бесплодна. Во всяком случае, она так или иначе останется достоянием нашего духовного опыта.
* * *30.11.1985. Взялись «перестраивать» советское общество. Шабаш торжествующей справедливости в газетах. Да не верю я вам! Сажают и расстреливают мелких воришек, а их хозяева – государственные преступники почище нюрнбергских – спокойно уходят на пенсию.
Ничему я не поверю, пока такие, как Гришин, не предстанут перед открытым судом. А они не предстанут. Просто – одна мафия сменяет другую.
Перестройка
Больной, страдающий пляской святого Витта, на минуту приходит в себя, обводит окружающих взглядом и заявляет: «Товарищи, товарищи, мы ошибались…» Как будто окружающие сами не видят, что он даже коробка спичек не в состоянии взять в руки. Но они-то тут при чем? Почему, собственно, «мы»?
Мы тебе не товарищи, сволочь!
Не беспокойтесь, мы не снимем с себя ответственность, не станем открещиваться от своей истории, которую вы таки вытоптали под себя, но и вы, будьте добры, скажите прямо, что именно вы, вы первые, отвечаете за все: за неисчислимые бесполезно загубленные жизни, развал экономики, тотальное воровство, коррупцию, алкоголизм, бескультурье, апатию. Ведь это вы, засирая людям мозги, затыкая рты, не допуская никакой критики в свой адрес, затащили страну в этот тупик, из которого, несмотря на все ваши заверения, нет выхода.
…Влачась вслед за болотными огнями, умели-таки добраться до пропасти, чтобы потом с ужасом спросить друг друга: где выход, где дорога?
Гоголь. Мертвые души. I.10.«Перестройка начинается с каждого!» Ишь ты, оказывается, только за нами дело стало. Да мне-то, например, некуда и незачем «перестраиваться», я-то всегда выкладывался полностью, на совесть, почти ничего не получая взамен. Это вы, дармоеды, вредоносная бестолочь, перестраивайтесь… куда-нибудь подальше.
И эта ваша «гласность», милостиво разрешенная сверху!.. Глаза нам позволили открыть? Привлечь к «серьезному обсуждению наболевших проблем»? Да мы эти проблемы давно между собой обсудили. А вот попробуй кто-нибудь, выскажи самую простую и очевидную для всех истину, известную в нашей стране последнему забулдыге: что дело-то, собственно, не в «забвении ленинских норм», не в «уклонении от ленинского курса», а в самих этих нормах и в самом этом курсе, – попробуй, и узнаешь настоящую цену этой «гласности».
Сколько бы объективной правды ни было в их словах, мы-то знаем, к чему они клонят и каков их подлинный умысел; в этих мнимых апостолах правды и добра мы с полной, абсолютной явственностью видим бесстыдных или в лучшем случае соблазненных служителей сатаны, духа насилий и убийств, лжи и нравственного разложения, дикого произвола и животной тупости.
С.Л. Франк. Крушение кумиров.А между тем без серьезного всеобщего гласного признания этой истины вся ваша «перестройка» останется пустым звуком. Это – единственный шанс. Нет другого способа выбраться из тупика, как только вернуться к его началу.
Эскапада
28.05.1987. Восхищаюсь Матиасом Рустом. Ей-богу, это поступок века! Одной озорной, легкомысленной выходкой мальчишка вдребезги разнес важнейший гранитный устой нашей государственности. Все то, на чем держалось наше представление о непобедимой мощи советских вооруженных сил, о неприкосновенности границ и святынь, наше почтение к великим тайнам укрепления обороны, сжирающего до трети валового национального продукта, необходимость содержать огромную дармоедку-армию, существование бесчисленных учреждений военного ведомства, всевозможных секретных «ящиков», целой привилегированной касты людей с лампасами, никому не подвластных и никем не контролируемых, увешанных орденами за выслугу, надутых генеральской спесью и непререкаемым самодовольством, пропаганда, парады, атмосфера официальной серьезности, нагнетание страха, глухие угрозы, рекламные фильмы про ракетчиков и десантников, – все то, чему постоянно приносятся в жертву наши жизненные интересы, – все было разоблачено, все оказалось вдруг тем, чем и было в действительности, – блефом, туфтой.
* * *Армия, в сущности, мало чем отличается от «гражданки». Она – естественное продолжение создавшего ее общества или, вернее, его модель, в которой характерные для данного общества отношения предстают в упрощенном, огрубленном, выпукло-наглядном виде. «Из всех соединений, – говорит Толстой, – в которые складываются люди для совершения совокупных действий, одно из самых резких и определенных есть войско». Поэтому границу, отделяющую армию от «гражданки», очень даже ощущаешь, когда пересекаешь ее туда, но совсем не замечаешь, пересекая ее обратно. Это потому, что возвращаешься оттуда уже ученым, уже знающим подлинную цену всему, что видишь вокруг себя.
Мне запомнилось напутствие, которым командование проводило нас из армии: «Вы не увольняетесь, вы уходите в долгосрочный отпуск…» Тогда, помнится, я похолодел, а теперь понимаю, что это было еще мягко сказано. Потому что вокруг – та же армия.
Личность человека у нас везде принесена в жертву без малейшей пощады, без всякого вознаграждения.
Герцен. Былое и думы. II.11.С другой стороны, когда я смотрю теперь фильмы и телевизионные передачи, в которых рекламируется наша армия – какая, мол, она мощная, технически оснащенная, обученная (и как-то уж слишком усиленно рекламируется в последнее время), – меня смех разбирает. Потому что я знаю, что в армии такой же бардак, как и здесь, такие же воровство, показуха, шкурничество… нет, не такие же – удесятеренные (модель!). В стране, где все делается через жопу, странно было бы ожидать от армии чего-то другого. И меня не удивляет, что, например, на Даманском «грады» били по своей пехоте (рассказал Валерка Симонян, угодивший в самую передрягу), что при захвате шахского дворца в Кабуле наш спецназ вступил в бой с нашим же, внедренным в охрану Амина «мусульманским батальоном», а подоспевшая артиллерия, чтобы ускорить дело, начала гвоздить по тем и по другим (рассказал очевидец штурма)… Я ведь не стремлюсь очернить армию как таковую. Я только говорю, что нечего смотреть на нее как на что-то иное, особое, отличающееся от нашей жизни в целом.
* * *1.08.1987. Говорили о «перестройке». Сошлись на том, что вся она – только в печати и по телевидению, т. е. на словах; в самой жизни почти ничего не меняется. Да и глупо надеяться. Все это могло бы получиться лет сто назад – объединение «доброго царя» с народом против чиновничества, – но теперь, когда в «доброго царя» никто не верит, чиновники задушат.
До чего же это по-русски – стремление сразу, махом, все изменить, одним прыжком перескочить из рабства в «царство свободы»! Откуда взяться, например, оппозиции, если вся наша культура, все наше воспитание, мышление, привычки, традиции проникнуты тоталитаризмом. Тоталитаризм у нас в крови. А традиции создаются долго, веками.
Я верю Горбачеву, верю, что он хочет «как лучше». Но в нашей стране любые действия, начатые с самыми благими намерениями, всегда приводили к неожиданным уродливым и страшным результатам.
Кошмарней лютых чужеземцевпрошлись по русскому дворуубийцы с душами младенцеви страстью к свету и добру.Губерман. Гарики.В нашей стране, если действительно хочешь добра людям, просто нельзя ничего предпринимать. «Мы же уповаем на милость божию, – говорил Иван Грозный, – и, кроме божия милости и пречистыя Богородицы и всех святых, от человек учения не требуем…» Он тоже, помнится, начинал с обещания «смирить всех в любовь» и с призыва ко всеобщему покаянию…
* * *Вот старый анекдот, перепетый на злобу дня. Горбачев в очередной раз беседует на улице с народом. Какая-то старуха из толпы пытается к нему пробиться, но охрана не подпускает. Заметив ее усилия, Горбачев делает знак своим амбалам, чтобы пропустили женщину.
– Ну, в чем дело, мамаша?
– Да вот, Михаил Сергеич, покудова продиралась через твоих молодцов, и забыла, чего спросить хотела.
– Насчет квартиры небось?
– Что квартира! Квартира хорошая, 16 метров, грех жаловаться. Правда, живем там впятером, так когда все на работу уходят, в ней хоть в футбол играй.
– Ну тогда, значит, о пенсии?
– Да нет, пенсия у меня тоже хорошая: 60 рублей. В магазинах-то все равно купить нечего, так я еще на сберкнижку откладываю. Нет, пенсии мне хватает… А, вспомнила! Ты мне вот что, сынок, скажи: перестройку эту самую – кто придумал? Коммунисты или ученые?
– Коммунисты, мамаша.
– Вот и я думаю, что коммунисты. Ученые – те сперва на мышах да на собаках пробуют, а потом уже – на людях…
* * *4.08.1987. Спиртное стало проблемой. На днях я обегал пол-Москвы и ничего не достал: магазины либо закрыты, либо торгуют ерундой, либо (в редких случаях) стоит такая очередь, что и подступиться страшно. У нас, на улице Строителей, я стал было в очередь, еще не разобравшись, что́ дают, гляжу: мужики выносят из магазина, прижимая к груди по пять бутылок сразу, «Гурджаани», сухое кисленькое винцо, на которое они раньше и смотреть не хотели (теперь 3 рубля бутылка); рожи у всех были растерянные. Я плюнул и ушел.
И к чему привела эта пресловутая борьба с пьянством? Теперь человек, отстоявший два часа в очереди за водкой, покупает не бутылку, как раньше, а столько, сколько может унести, – чтобы в следующий раз не стоять. Ну и поскольку купленные бутылки уже при нем, он и выпивает их все за один раз. Русский же человек: пока все не выпьет, не остановится… А если нет ни водки, ни крепленого, пьет что попало. Да, вытрезвители, может, и опустели, зато морги переполнились. Борьба с пьянством, как и всякое лечение симптомов вместо болезни, привела к обратным результатам.
Реванш
16.11.1987. Сняли первого секретаря МГК Ельцина – провинциального дурачка, всерьез поверившего в эту муру, «перестройку». Ходят слухи, что он покончил с собой. Говорят о каких-то демонстрациях в его защиту. «Голоса» пока не подтверждают. Все, с «перестройкой» покончено. Выйти-то из нее, конечно, что-нибудь выйдет, да только совсем не то, чего мы ожидали. Теперь это совершенно ясно.
«Нет, – говорит Достоевский, – наше любопытство какое-то дикое, нервное, крепко-жаждущее, а про себя заранее убежденное, что ничего никогда не будет и ничего не случится, разумеется до первой мухи; пролетела муха, – значит, опять сейчас начинается…»
Мне самому противна моя удобная и беспроигрышная позиция скептика, сочувственно посмеивающегося над теми, кто хоть что-то пытается сделать. Но что же делать, если я действительно не верю.
…Я знаю пока лишь одно: я не могу жить ни для какого политического, социального, общественного порядка. Я не верю больше, что в нем можно найти абсолютное добро и абсолютную правду. Я вижу и знаю, наоборот, что все, кто искали этой правды на путях внешнего, государственного, политического, общественного устроения жизни… все они, желая добра, творили зло и, ища правды, находили неправду. Я должен прежде всего трезво и безбоязненно подвести этот отрицательный итог.
С.Л. Франк. Крушение кумиров.Когда меня, лично меня, жизнь поставит перед конкретным выбором, я буду знать, что́ мне делать, и пойду до конца. Но до тех пор…
А какой вой подняла вся эта шобла на пленуме! Впервые вместо привычных жеваных, безлично-официальных речей, мы с удивлением услышали искренние слова и интонации. И подумать только, что весь этот взрыв непритворного возмущения, эта поистине трогательная обида – только оттого, что кто-то попытался посягнуть на их кормушку. Не отнял, нет, а только прикоснулся к ней.
Ох, и смутно сегодня в отчизне:сыро, грязь, темнота, кривотолки;и вспухают удавами слизни,и по-лисьи к ним ластятся волки.Губерман. Гарики.* * *13.01.1988. Сейчас только и слышно: «хозрасчет!», «самофинансирование!», «бригадный подряд!», «кооперация!». Экономическими лозунгами пытаются заклясть совдеповскую бессмыслицу. Как будто наша история не демонстрирует нам на каждом шагу, как политика отвертывает голову экономике. Лозунг нужен только один, вольтеровский: раздавите гадину!
Ни слава, купленная кровью…
9.05.1988. На трассе Москва – Ленинград, как и на всех наших западных трассах, можно без всякого ущерба убрать километровые столбики – их вполне заменяют братские могилы. Мама говорит, что и на Колымской трассе то же самое.
Проклятая родина! Она пожирает своих детей почище всякого Кроноса. И в первую очередь лучших – честных, смелых, самоотверженных… Гигантский урод, Молох, который шагу не может ступить, не залив землю кровью жертвоприношений. И еще находятся дураки, патриотствующие мещане, которые восхищаются стойкостью и терпением русского солдата, которые с гордостью калякают о русских штыковых атаках! Будто не понимают, что русскому солдату просто не оставалось ничего другого, как быть стойким, миллионами жизней расплачиваясь за катастрофические промахи тупого кремлевского самодура, возомнившего себя великим полководцем, стратегом[1]. Они забывают (т. е. попросту не хотят помнить, да и знать не хотят), что в пресловутых штыковых атаках, в которые бросало солдат на пулеметы безмозглое и безответственное командование, погибали, не дойдя до окопов противника, целые дивизии[2]. Можно и больше отдать – в стране, где никто не спросит о потерях. Не беда: нас – много! «Солдат не жалеть», – как говаривал великий Жуков. И не жалели! В полной мере использовали способность русского человека к самопожертвованию, его пренебрежение собой ради общего дела, ради товарищества, да даже и ради форса[3]. «Бездарно “выигранная” война, в которой врага завалили трупами, утопили в русской крови», – подытожил Виктор Астафьев, на себе в полной мере перенесший беспримерные тяготы и жертвы этой войны и, в отличие от очень многих, не позволивший заморочить свою память официальными славословиями[4].
А мы, свалив убитых в яму, ставим над ними типовой памятник в виде скорбящего воина, сработанный шустрым делягой. Воздвигаем гигантскую ложнопатетическую Валькирию (совершенно в духе 3-го Рейха) на пропитанном нашей кровью Мамаевом кургане. Романтизируем бессмысленную, преступную трату людей: «От Курска и Орла война нас довела… мы за ценой не постоим». (Да уж конечно – не постоим! Как будто у нас есть выбор. Бравада бросаемых в топку дров.) А для меня память о войне запечатлелась в простенькой горестной песне на слова сталинского лауреата, которую, тем не менее, народ сразу же опознал как свою: «Хмелел солдат, слеза катилась, слеза несбывшихся надежд, и на груди его светилась медаль за город Будапешт».
Не гордость, а только нестерпимую боль испытываю я за нашу Победу.
* * *Когда я пытаюсь представить себе душевное состояние русского человека, сидевшего в окопе перед нагло прущей на него и мимо него – его презирая – чужеземной техникой, вооруженного лишь бутылкой с керосином и приказом «Ни шагу назад!» – я испытываю чувство невыносимого унижения. Что может быть нестерпимее для мужского и национального самолюбия, чем невозможность ответить ударом на удар, оказаться в положении уничтожаемого стада, лишенного всякой возможности к сопротивлению.
Не перестаю удивляться, как этому усатому упырю и всей его банде удалось в те дни удержаться у власти. Ведь не нужно же было иметь семь пядей во лбу, чтобы понять, что тебя обманули и предали самым подлейшим образом. А впрочем, от многих очевидцев я слышал, что в первые месяцы войны в наших городах и особенно в деревнях немцев ждали. Настолько нестерпим был для народа режим большевистской диктатуры! Добровольцами на фронт рвались в основном замордованные интеллигенты, зомбированные школьники и комсомольцы[5]. Миллионы военнопленных, массовое дезертирство, брошенные в огромных количествах оружие и техника объясняются не столько военными успехами немцев, сколько нежеланием защищать этот людоедский режим. Настоящая война началась только осенью 41-го, когда убедились, что гитлеровский «порядок» ничем не лучше сталинской давиловки, а Родина – это все-таки Родина. (Защищая Родину, врага победили, но победой своей только упрочили власть собственных кровососов. Какая страшная вещь – диалектика истории!)
Да, с началом войны народ разделился (вернее, скрытое разделение сделалось явным): одни упорно, не жалея себя, дрались и погибали в окружении и на рубежах пятившейся обороны, другие «голосовали ногами», – фактически это означало новую фазу гражданской междоусобицы, спровоцированную сталинским «усилением классовой борьбы в условиях побеждающего социализма». Я уж не говорю об истреблении «социально чуждых» и инакомыслящих, об ужасах раскулачивания и бесчисленных загубленных ГУЛАГом жизнях; но одного только погрома, обезглавившего армию накануне надвигающейся войны и обеспечившего Гитлеру возможность успешного нападения на нашу страну, достаточно для того, чтобы заклеймить Сталина (а с ним и всю правящую партию) как величайшего государственного преступника.
Но я начинаю понимать мотивы этого погрома. Война была неизбежна. Уж кто-кто, а люди, которые стояли во главе армии, полководцы Гражданской войны, знали цену Сталину как «великому стратегу», сорвавшему, в частности, наступление на Варшаву в 20-м – из одной только завистливой ненависти к полководческому таланту Тухачевского[6]. Начало военных действий сразу выдвинуло бы их на первый план, они просто смахнули бы этого «вождя» с тела страны, как насосавшегося крови клопа[7]. Вместо них нужны были люди, всецело Сталину преданные – послушные, запуганные, безынициативные, безразличные, как и он, к человеческим жертвам; ко всему безразличные, кроме собственной карьеры. Перед ними-то он мог себе позволить, просрав начало войны (а перед этим – всю Финскую кампанию), величаво прохаживаться по кабинету и, попыхивая трубкой, изрекать веские, непререкаемо-мудрые указания. При Фрунзе, при Тухачевском такое было бы попросту невозможно[8]. И стоит ли удивляться, что фронтовики – настоящие фронтовики, окопники, такие, как Виктор Астафьев, Ион Деген, Николай Никулин, – не иначе, как с омерзением вспоминают всех этих новоявленных полковников и генералов, гнавших солдат на убой, попивая коньячок в десяти километрах от фронта в окружении прикормленной тыловой сволочи. «Если бы немцы заполнили наши штабы шпионами… если бы было массовое предательство и враги разработали бы детальный план развала нашей армии, они не достигли бы такого эффекта, который был результатом идиотизма, тупости, безответственности начальства и беспомощной покорности солдат», – пишет Никулин и добавляет: «На войне особенно отчетливо проявилась подлость большевистского строя»[9]. А «патриотические» небылицы о войне сочиняли те же штабные прихвостни. Они же и наград больше других нахватали.
Сейчас все гладко, как поверхность хляби.Равны в пределах нынешней моралиИ те, кто блядовали в дальнем штабе,И те, кто в танках заживо сгорали.Ион ДегенНадо только поражаться, что и в этой подобранной генерации военачальников нашлись такие, которые оказались способны в конце концов – ценой неисчислимых солдатских жертв – перехватить у противника стратегическую инициативу. И мне понятной становится лояльность Жукова, Василевского, Рокоссовского в их мемуарах: мужское и солдатское достоинство, вкупе с «чуткой цензурой», не позволяло им высказать задним числом полную правду о властолюбивом интригане, которому они вынуждены были подчиняться.
* * *6.02.1989. Перед уходом с работы я, уже в куртке, застрял в комнате у Ефима. Он только что вернулся из Австралии. С грустью он поведал мне, что нашему брату – там – делать нечего. Таня Доронина, которая слышала наш разговор, возмущенно заявила, что использовала бы любую возможность для отъезда. Еще год назад, по ее словам, она была совдеповской патриоткой, презирала Запад и ненавидела отъезжающих, а сегодня сама готова все бросить и бежать отсюда без оглядки.
– Ты пойми, Танечка, – втолковывал Ефим, – мы там никому не нужны. Ты представляешь себе это одиночество, в котором окажешься?
– Все равно, – не сдавалась Таня. – Жить здесь стало страшно. Понимаешь? Просто страшно!
* * *Действительно, жить стало страшно. И не потому, что жизнь с каждым днем дорожает, что из магазинов исчезло мыло (в Ярославле по талонам продают по 400 грамм на человека в квартал) и впереди маячит самая настоящая разруха, такая же, как в 21-м. А потому, что «гласность» и «демократия» убили последние иллюзии. Раньше еще можно было на что-то надеяться. Теперь – нет.
* * *По дороге в Ярославль, когда мы ехали защищать наш проект по Карабихе в облисполкоме, в общем вагоне архангельского поезда я наблюдал за группой демобилизованных солдат.
Их было десятка полтора. В расстегнутых мундирах, а некоторые уже в штатском, они веселились вовсю: пили, хохотали, бродили по вагону, знакомились с девушками, возбужденно пересаживались с места на место. Долгожданная и непривычная свобода ударила мальчишкам в голову. Смотрел-смотрел я на них (а мы тоже пили: начали еще на вокзале, вместе с Подъяпольским, который нас провожал), потом подошел к ним и говорю:
– Э, – говорю, – кто из вас выйдет со мной в тамбур?
Поднялись сразу трое – решили, видно, что я драться их вызываю. Вместе со мной вышел в тамбур и Кеслер (подстраховать меня на всякий случай). В тамбуре мы закурили и разговорились. Выяснилось, что все они архангелосы, отслужив в Белоруссии, возвращаются домой. Охотно, наперебой, они рассказывали про теперешнюю армию. Потом я задал главный вопрос:
– Хорошо, в Белоруссии. А если бы в Афган вас послали?
– Ну, что ж, служили бы в Афгане…
– Как! – возмутился я (а я был в том блаженном состоянии, когда все понимаешь и все можешь объяснить). – Как! Участвовать в войне, развязанной кучкой тупых негодяев! Воевать против народа, которому мы, «освободители», «интернационалисты», на хрен не нужны! Быть оккупантами, карателями!..





