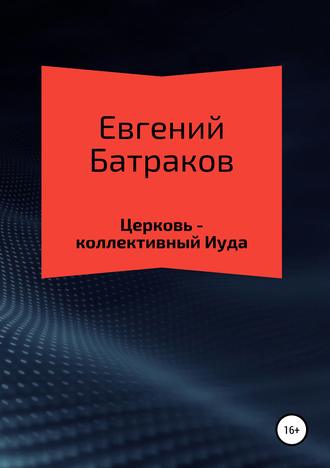 полная версия
полная версияЦерковь – коллективный Иуда
Об этом, кстати, хотелось бы напомнить тем, ныне живущим современникам – безответственным лирикам, которые настырно призывают нас вернуться к образу жизни наших предков, и для пущей убедительности в игровой манере в июльские ласковые ночи реконструкции ради и пропагандистских целей для разжигают буйные кострища и, реконструируя, норовят реанимировать дух тысячелетней давности… Той самой давности, когда без суда и следствия отрезали языки, ослепляли и оскопляли, насиловали и убивали, а человеческие жертвоприношения были не в диковинку, и у соседа походя по праву сильного и без совести живущего отнимали нажитое, обрекая на нищету и голодную смерть… Именно об этом мне хотелось бы напомнить тем, кто нынче млеет от умиления, разглядывая живописные картины художника В.Б. Иванова, представляющего Древнюю Русь в жанре фэнтези, используя при этом фабулу даже не «альтернативной истории», а наспех выдуманного прошлого.
И князь Владимир, конечно же, был веку своему под стать. Веку, где дичайшие животные желания безгранично властвовали над умами живущих. Даже убийство детей, братьев, и родителей – все было делом повсеместным и обычным. Многих князь обидел, многих искалечил, убил. Множество поселений разорил, оставил людей без хлеба и без крова, когда хаживал в свои «героические» разбойные походы. Да только ли это!? Как повествует летопись – «Повесть временных лет», имея нескольких жен, и триста наложниц в Вышгороде, триста в Белгороде и двести на Берестове, будучи ненасытным в блуде, приводил он к себе еще и замужних женщин, и растлял девиц [131]. А у многих девиц, наверно были отцы и братья, а у замужних женщин – мужья… И не все из них, надо полагать, с княжеским произволом были в полном согласии.
Конечно, при таком распутно-разбойном житии не могла за спиной у будущего святого, а на тот момент прожжённого злодея не ошиваться лютая Смерть, неотлучно ждущая своего благоприятного момента, и не мог князь-лиходей Владимир не ощущать своей шкурой ее присутствие. Не потому ли и забрела ему в голову однажды красивая и спасительная идея – и объединить племена, и умаслить всех оптом: и ограбленных, и оскорбленных, и униженных, соорудив в Киеве аж целый пантеон языческих богов! И он – в 980 году – соорудил: на одной площадке – шесть идолов. И тех, что с севера, и тех, что с юга. Но замысел – увы! – с треском провалился, и, возможно, потому что племена, верующие на особицу и в свое, никак не хотели унифицироваться – признавать главенство над своими божками Перуна, бога грома и молнии, которого пытался им навязать младореформатор Владимир. Вот тогда-то Владимир, по всей видимости, и занялся, наконец-то, делом, самым настоящим – государствообразующим. В частности, он не только продолжал традиционно похаживать на напрасно рыпающихся соседей, инициирующих центробежные процессы, не только принудил вновь выплачивать дань тех, кто после гибели Святослава заартачился и отпал от нужды, выпрягся из киевского хомута.
Князь Владимир, и вот это – главное, на тех территориях, куда только дотянулись его руки, рассадил наместников, и из числа своих детей тоже. Более того, он упразднил институт племенных князьков и ликвидировал самостоятельность земель, т. е. аннексировал их. Вот с этого-то момента мы и можем говорить уже о возникновении совершенно реальных предпосылок для превращения Русской земли в государство Киевская Русь. Но… до этого статуса – государство – было еще очень и очень далеко. Ведь это об этих временах писал К. Маркс: «Владимир, олицетворяющий собой вершину готической России…» [132].
Готической, т. е. варварской [133]. Варварство же по классификации Ф. Энгельса – период первобытной истории, находящийся между дикостью и цивилизацией, представляющий собой процесс разложения родовой общины, дробления общины на патриархальные семьи. Соответственно, в этот период еще и нет феодалов, как господствующего класса. Весьма странно, но даже Б.Д. Греков (1882–1953), один из первых из числа историков, кто пытался доказать существование феодальной формации в Киевской Руси, анализируя размышления К. Маркса, специально акцентировал эту мысль: «Рассматривая историю «готической» России, Маркс не называл ее феодальной» [134]?!
Соответственно, коль нет феодалов, как господствующего класса, то нет и тех, кто нуждается в защите своих частнособственнических интересов, а значит нет и государственного аппарата насилия. В обществе отсутствует такая масса соплеменников, чьи интересы нужно защищать от посягательств со стороны рядом живущих. Нечего защищать. И мы с вами, уважаемый читатель, в данном вопросе не одиноки. В настоящее время в отечественной медиевистике на позициях отрицания феодальных отношений в Киевской Руси в период – конец X – первая четверть XI века – стоит целое направление, которое основал и возглавил выдающийся петербургский историк Игорь Яковлевич Фроянов.
В таком случае возникает вопрос: какого ж резона ради князь Владимир в 988 году сподобился на столь экстравагантный проект: христианизация Русской земли и на сопутствующее ей – ликвидацию язычества, веры своих предков? Конечно, там, где брат убивал брата, отец – своих детей, дети – своих отцов, попрать веру предков – вообще, как два раза чихнуть против ветра. Поэтому у нас вопрос иного плана: зачем ему лично, князю Владимиру понадобилось, чтобы христианская религия заняла в обществе господствующее положение? Государства – главного, как мы приучены думать, заказчика на религиозную технологию – еще нет, соплеменники в особом пристрастии к иноверию замечены еще не были, и челом не били, а князь, поди ж ты! – затеял радикальную реконструкцию духовного мира всея и всех?! Волюнтаризм, да и только!
Так-то оно так, но… Такого органа власти, как государство, еще не было, но властью, т. е. правом, пусть очень ограниченным правом использовать насилие, князь все же обладал. Кроме того, быть князем означало быть освобожденным от надобности заниматься физическим трудом, и при этом жить в материальном достатке, т. к. князь кормился за счет грабежа и полюдья. Быть князем означало иметь иммунитет, т. е. быть в значительно большей безопасности, чем простой общинник. Быть князем опасно, но чертовски удобно и выгодно. И, конечно же, столь привилегированное положение было надобно сохранить.
Вот он – так называемый субъективный фактор, т. е. сугубо личный интерес, который, очевидно, и надиктовывал князю программу соответствующих действий. В частности, осуществление акции – крещение киевлян, как надежный, проверенный временем способ сбора овец в единое стадо, над которым общие пастыри – церковники, проповедующие: «нет власти не от Бога». И всякий, кто против князя, тот и против Бога.
Между тем, уважаемый читатель, не будем упускать из виду то, что утверждение – «нет власти не от Бога» (Рим. 13:1) – всего лишь личное мнение «апостола» Павла. Иисус же говорил совершенно иное: «Иисус же, подозвав их, сказал: вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими; но между вами да не будет так: а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою; и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом» (Мф. 20:25–27). То есть, между нами – христианами, не должно быть так, как у нехристиан. Не должно быть иерархии и неравенства. И никто не должен над христианином господствовать и властвовать.
Вот и выходит, что Иисус был первым за Земле Анархистом (анархизм – от греч. аνοφχία – безвластие), проповедующим равенство, братство и свободу от принуждения. Об этом очень хорошо сказал в свое время православный христианский философ Н.А. Бердяев (1874–1948): «В анархизме есть религиозная правда. <…> Религиозная правда анархизма заключается в том, что власть над человеком связана с грехом и злом, что совершенное состояние есть состояние безвластия, т. е. анархии. Царство Божье есть безвластие и свобода, на него не переносятся никакие категории властвования, царство Божие есть анархия» [135].
Итак, князь Владимир, имея преимущественно личные на то причины, и сам крестился, и соплеменников к тому энергично склонял. Но не более того, ибо князь понимал, что смена веры – дело добровольное. И тут даже при самом большом желании – насильно мил не будешь. Тем более, что, как говорят на Востоке: можно привести коня к водопою, но невозможно заставить его пить.
Но вот сыскалось же опосля множество бойких людишек, которые владимирскому деянию придали исключительно насильственный характер. То, что в этом усердствовали проигравшие свое язычники – понятно, но почему в эту же дуду дули почитающие себя за христиан – ума не приложу. В частности, при всяком удобном случае и первые, и вторые заявляли: «Князь Владимир крестил Русь насильно – огнем и мечом. И при этом было убито великое множество язычников». Совести не имеющее, и страха Божьего не ведающее Ведическое Информационное Агентство Мидгард-ИНФО своему обалдевшему читателю прямо так и бьет промеж глаз: «Рось (Русь) – в период с 988 г. по 1000 г., когда происходило насильное крещение из 12 млн человек осталось 3 млн» [136].
Во-первых, обратите внимание на то, как «по-русски» грамотеи из Агентства выстроили свое утверждение, а во-вторых, ссылку на источник своей фантастической цифири дать-то и не подумали?!
Под стать современным мифотворцам, к сожалению, и заслуженный, как сказано на титульном листе его книги, ординарный профессор Московской Духовной Академии» Е.Е. Голубинский (1834–1912). В своем весьма солидном исследовании «История Русской церкви» он утверждал: «Когда мы говорим, что при Владимире крещена была вся собственно русская Русь, то этого никак не должно понимать в том смысле, будто крещены были все до одного человека. Не желавших креститься, нет сомненья, было весьма много как в Киеве, так и вообще во всей Руси. В самом Киеве, т. е. именно в самом городе Киеве, полицейский надзор, как нужно предполагать, был настолько силен и действителен, что эти не желавшие не могли укрыться и должны были – или креститься неволей, илы спасаться бегством, или же, может быть, подвергнуться казням» [137].
Господи, да о каком же «полицейском надзоре» уважаемый Евгений Евсигнеевич вел речь, и почему он вдруг решил, что непременно «нужно предполагать» (?), что за отказ от крещения человек был бы подвергнут казни?! И, опять же, ни ссылок на летописи, ни вообще ссылок на что-нибудь. Голимые собственные «предположения».
Ну, а если не только выдумывать всяческие предположения, а еще и хорошенько самостоятельно поразмышлять? С какими выводами в своей голове мы можем встретиться? Например, могло ли в принципе крещение киевлян осуществляться насильственно? Что нам об этом рассказывает Повесть временных лет? Читаем. Князь Владимир, приняв за кордоном крещение, прибыл в Киев и «повелел опрокинуть идолы – одних изрубить, а других сжечь. Перуна же приказал привязать к хвосту коня и волочить его с горы по Боричеву взвозу к Ручью и приставил двенадцать мужей колотить его жезлами. Делалось это не потому, что дерево что-нибудь чувствует, но для поругания беса, который обманывал людей в этом образе, – чтобы принял он возмездие от людей» [138].
И что? Идолы – его личная собственность. Сам он их близ своего жилища поставил, сам же и разбомбил свой собственный пантеон. Имел, между прочим, полное на то право. Хозяин – барин. Он же не покусился на чужие капища?
«Затем послал Владимир по всему городу сказать: «Если не придет кто завтра на реку – будь то богатый, или бедный, или нищий, или раб, – будет мне врагом». Услышав это, с радостью пошли люди, ликуя и говоря: «Если бы не было это хорошим, не приняли бы этого князь наш и бояре». На следующий же день вышел Владимир с попами царицыными и корсунскими на Днепр, и сошлось там людей без числа. Вошли в воду и стояли там одни до шеи, другие по грудь, молодые же у берега по грудь, некоторые держали младенцев, а уже взрослые бродили, попы же совершали молитвы, стоя на месте. И была видна радость на Небе и на земле по поводу стольких спасаемых душ…» [139].
Конечно, картинка приторно-лубочная, хуже того – нарисована не по горячим следам происходящего, а аж в XII веке, да еще и по заказу Владимира Мономаха, но, с другой-то стороны, она – картинка летописная. И если у нас в нашей полемике нет возможности противовесить оную иным историческим документом с иным содержанием, то мы уже только поэтому проиграли, и остается лишь смиренно помалкивать, в досаде и огорчении пребывая.
Далее, как мы это себе представляем – насильно крестить население целого Киева? Как утверждал археолог П.П. Толочко, согласно расчетам, которые были получены на основании анализа археологических источников, в Киеве в XII–XIII вв. проживало около 50 тысяч человек [140]. Сколько же жителей проживало в Киеве в X веке? Ну, предположим, что их было 10 тысяч и все они, как один, порешили креститься. А чтобы креститься, нужно сначала – и это неотъемлемое условие того, чтобы Крещение было принято достойным образом, во спасение души – покаяться. Не на жену глядя, а на икону, и в свидетели взять не соседа, но – отца церковного. И только затем, призывая имя Святой Троицы, троекратно погрузить тело свое в воду, отмываясь от первородного греха, и от всех грехов, совершенных до Крещения, духовно умерев для жизни плотской и греховной и, вновь родиться, уже облаченным в благодать Божию для жизни по Евангелию. Я уж молчу о том, что входящий в воду, должен ясно осознавать: главное – не плотские нечистоты в Днепре смыть, главное – «обещание Богу доброй совести» (1 Петр. 3:21). А иначе ж все это не Крещение, а – профанация, если не святотатство. Да, чуть не запамятовал – еще одним наиважнейшим этапом священнодействия является наречение крещаемому имени, благодаря которому он получает своего Святого, выступающего в роли небесного покровителя. И все это надобно совершить. Без суеты. И не оптом, но персонально.
Итак, с одной стороны десятитысячная масса, с другой – горстка из нескольких священников, почти не говорящих по-русски?!.. Так кто ж там насильничал – жители Киева или попы? Конечно, никакого массового крещения киевлян, а тем более всей Руси в 988 году не было, да и быть просто не могло.
А мог ли насильничать над многотысячной массой своих соплеменников сам князь Владимир, имеющий в своем распоряжении всего лишь сотню дружинников? Вот это, на мой взгляд, и есть самый наиважнецкий вопрос. Что князь мог, и если мог, то в каких пределах?
Исчерпывающий ответ на вопрос – могло ли происходить массовое крещение с использованием насилия, осуществляемого князем, дает выдающийся историк современности И.Я. Фроянов: «Эта умозрительная концепция не соответствовала политическому строю Киевской Руси, где княжеская власть еще не стала суверенной, поскольку рядом с ней существовала олицетворяемая вечем (народным собранием) общинная власть. Да и сам князь в некотором роде являлся носителем общинной власти. Князь и тяготевшая к нему дружинная знать не располагали средствами для массовых насилий в обществе, где управляли. Они подчинялись вечу, в распоряжении которого была мощная военная организация – народное ополчение, превосходившее по силе княжескую дружину. Вероятно, при крещении в Киеве имели место и отдельные факты принуждения, но вылиться в систему они не могли» [141].
Конечно, «отдельные факты принуждения» имели место. Где-то от непонимания, где-то именно от понимания и поэтому для дискредитации совершаемого… Очевидно, самый известный случай – крещение новгородцев, когда два дуролома, два носорога в посудной лавке – тысяцкий Путята да воевода Добрыня, действующие нагло, тупо, грубо и бесцеремонно, учинили грандиозное побоище с последующими погромами, грабежами и поджогами домов. Вместе с тем, тут нет повода, чтоб костенеть от удивления: христианство в том, антихристианском виде, в каком оно как черная духовная зараза, как идеология духовного насилия, обслуживающая интересы власть имущих, расползалась по Европе, а затем и по русским княжествам, изначально растоптало без остатка святую проповедь любви, милосердия и смирения, изначально отвергло идеи равенства и братства. Припомним еще раз слова священника РПЦ, сытого, самодовольного В.А. Чаплина: «В церкви равенства нет. Равенство – это лозунг, придуманный обезбоженным обществом. <…> Равенство – это не церковная категория» [142].
В церкви равенства нет, значит, нет и братства, и любви тоже нет. Иерархия, насаждающая рабскую психологию, совершенно не нуждается в любви, братстве, равенстве. Эти категории Христа для нее чужды, идейно опасны, а шкурно-практически – бесполезны. И поэтому Чаплины, коих легион, и нынешние, и из прошлых времен, они родом из той же бесноватой массы, что некогда в Иудее настойчиво и вразнобой взывала: «Распни, распни Его!»
Однако ж вернемся к нашему Крещению.
Читая некоторые книжки и просматривая иные фильмы, складывается впечатление, что князь – это некий пахан, который держит в кулаке всех своих соплеменников, и оными помыкает как ему вздумается. И все на него горбатятся, и ублажают его кто как может, а он только выкобенивается да вытворяет, что ни попадя. Ни дать, ни взять – эдакий ухарь-купец в пьяном кабаке. Между тем, как совершенно верно установил историк И.Я. Фроянов, князь являлся носителем общинной власти и его деятельность была ограничена волей общины. Община через вече и приглашала князя на княжение, и отказывала соискателю должности.
Вот, только несколько иллюстраций к сказанному.
В 1068 году, когда половцы вторглись в Южную Русь, киевляне обратились к своему князю, Изяславу Ярославовичу – потребовали лошадей и оружия, чтобы идти против половцев. Изяслав отказал. И тогда 15 сентября 1068 года вспыхнуло восстание, в ходе которого киевляне изгнали Изяслава, как плохого военачальника, выпустили из поруба князя Всеслав Брячиславича, и возвели его на княжеский престол. Князь Изяслав бежал в Польшу.
В 1102 году, когда великий князь киевский Святополк захотел отправить на княжение в Новгород своего сына Ярослава, новгородцы заявили ему отказ и настояли на своей кандидатуре – Мстислава, сына Владимира Мономаха.
1136 год. Политика новгородского князя Всеволода Мстиславича, направленная на дальнейшее усиление феодального гнета, встретила сильнейшее сопротивление среди смердов и «черных людей», что и привело к восстанию. Итог: князь по решению вече был арестован вместе с женой, детьми и тещей, и после полуторамесячного заключения, изгнан из города.
1147 год. Великий Киевский князь Игорь Ольгович, представитель ветви Рюриковичей, за то, что не исполнил обещанное – сменить тиунов – смещен со своего поста, посажен в сруб, а затем и убит.
Да, что там князья племенные! Ведь даже Государь и Великий князь всея Руси Иван Грозный, когда уже существовала отчужденная от народа власть, власть над народом стоящая, не смел и не мог вытворять все, что ни вздумается. Столкнувшись с мощным противодействием со стороны оппозиции, а это не только церковная, но и светская, состоящая из представителей рода Рюриковичей, независимые, богатые, знатные бояре – Шуйские, Годуновы, Милославские, Морозовы, Курбские, Воротынские и прочие, Иван Грозный при всей свой власти, видимо, опасаясь утратить поддержку народа, так и не решился на насильственное устранение своих политических оппонентов. И убыл из Москвы, и затворился в Александровской слободе – «умыл руки». И народ, «осиротевший» и оставшийся один на один с «волками», взбурлил, и послал в слободу множество своих делегатов, и обратился к митрополиту всея Руси Афанасию, чтобы митрополит с архиепископами и епископами, и с освященным собором их плачь и вопль утолил, и благочестивого государя и царя на милость умолил, чтоб государь царь и великий князь государства своего не отставлял и своим государством владел и правил, якоже годно ему [143].
И это, заметьте, не X век, а – январь 1565 года!
Итак, христианство на Русь пришло, и даже благодаря деятельной поддержке, оказанной князем, получило статус религии официальной. А далее, как утверждает летопись, в 989 году князь Владимир «…задумал создать церковь пресвятой Богородице, и послал привести мастеров из Греческой земли. И начал ее строить, и когда кончил строить, украсил ее иконами, и поручил ее Анастасу Корсунянину, и поставил служить в ней корсунских священников, дав ей все, что взял перед этим в Корсуни: иконы, сосуды и кресты» [144].
В общем, князь-реформатор, как мы видим, с первого же абцуга определил свою собственную прерогативу и на поприще строительства культовых зданий, пригодных для богослужения, и в сфере проведения кадровой политики, и в вопросах материального обеспечения. О последнем летопись повествует конкретно и точно: «Увидел Владимир, что церковь построена, вошел в нее и помолился Богу, говоря так: «Господи Боже! Взгляни с Неба, и воззри. <…> Взгляни на церковь Твою, которую создал я. <…> И помолившись Богу, сказал он так: «Даю церкви этой Святой Богородицы десятую часть от богатств моих и моих городов». <…> И дал десятую часть Анастасу Корсунянину» [145].
Князь создал церковь, князь украсил ее иконами, дал сосуды и кресты, князь поставил служить священников, князь подрядился священников кормить, отчисляя в пользу церкви десятую часть из своих доходов… Так духовенству на Руси было жестко и четко указано на «евоное» место в княжеской номенклатуре, а затем и определено функциональное назначение – утверждать и подтверждать: право на власть князю даровал Господь – не община.
И княжеский проект, похоже, оказался весьма успешным. На это, в частности, указывает то, что вскоре – конец X—начало XI века – был принят «Устав князя Владимира», который не только юридический закрепил десятину – форму обеспечения церковной организации в виде доли княжеских доходов, судебных и торговых пошлин, – но и разграничил подведомственность дел между церковными и светскими судами. А это означало, если сказать по-иному, что церковники получили возможность перейти на самофинансирование, открыть и свой собственный духовно-юридический бизнес. Конечно, в настоящий бизнес и по-настоящему церковники включились значительно позже, когда произошел распад общества на два антагонистических класса: класс землевладельцев-феодалов и класс феодально зависимых крестьян, что случилось, как полагает историк Фроянов И.Я., никак не ранее XII века [146]. К подобному же выводу, хотя и не сразу, но пришел в свое время и историк Покровский М.Н.: «Русь X–XI вв. еще не знала общественных классов» [147].
Таким образом, Русь X–XI вв. не знала феодалов, а значит, не знала и частной собственности, и, соответственно, еще не нуждалась в государстве – в аппарате насилия для защиты этой самой феодальной собственности от малоимущих соплеменников.
Когда же и как в Киевском княжестве и в сопредельных княжествах возникли частная собственность и феодалы, т. е. крупные землевладельцы? Самую убедительную, на наш взгляд, ретроспекцию событий и их интерпретацию создал в своей работе «Начало единодержавия в Древней Руси» великий русский историк Н.И. Костомаров (1817–1885): «Вскоре после завоевания уцелевшие от бойни князья стали ездить к хану на поклон, и хан отдавал им их княжения в вотчину. <…> Здесь-то начался великий переворот в русской истории. Прежде князь не считал и не мог считать своего княжения вотчиною, т. е. собственностью; политический склад Руси был таков, что ему и в голову не могло прийти подобного стремления; он правил Землею, как правитель: если подчас, пользуясь своим положением, он дозволял себе и произвол, и насилие, то это все-таки делалось в качестве правителя Земли, а не в значении государя, не собственника. Земля ему не принадлежала, Земля была сама себе государь, a князь – господин, которому она сама себя доверяла и отдавала на ряд и управу. <…> Теперь Земля перестала быть самостоятельною единицею: место ее заступил князь; она спустилась до значения вещественной принадлежности. <…>
Монголы застали на Руси – Земли и князей. С Землями им нельзя было входить в непосредственные сношения и сделки: нельзя же было вечам являться к хану для принятия от них милостей и закона. То было физически невозможно. Ханы могли иметь дело только с отдельными личностями, которые бы отвечали за Земли, а такими личностями были князья. Для удержания господства над страной ханам не представлялось иного средства, как возложить на этих князей ответственность за покорность, а это возможно было только при расширении власти князей, при отдаче им в собственность земель, которыми они управляли. <…>
До татар у нас не было феодализма, если только не отыскивать некоторого далекого с ним подобия в отношениях старших и младших городов между собою, – но с татар он действительно начинается. <…> Татарские ханы сделали князей из правителей Земель вотчинниками Земель» [148].



