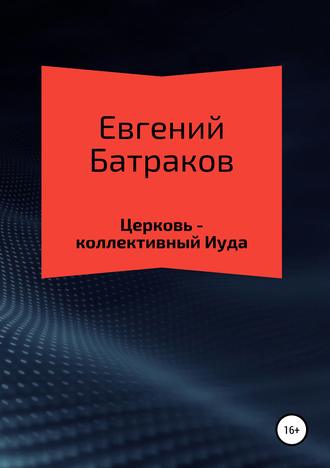 полная версия
полная версияЦерковь – коллективный Иуда
Так на платформе экономических и административно-политических взаимовыгод произошло сращение сонма священнослужителей с государственным аппаратом господствующего эксплуататорского класса.
Об этом да еще в подобном тоне крайне неприятно размышлять. Тем более что историческую и духовно-практическую ценность составляют совсем не те, кто расточал свою жизнь на земную суету, но те, кто, пренебрегая шкурной выгодой и даже собственной физической безопасностью, не впадая в различные религиозные спекуляции, утверждал всем своим существом и всем существованием своим простые постулаты учения Иисуса Христа. Но, как читатель понимает, моя задача состоит не в том, чтобы раскрыть положительную сторону практического воплощения христианства, но чтобы показать, как определенные отцы церкви, нечаянно впавшие в губительное заблуждение или же вполне сознательно выдающие ложь за истину, используя нюансы – оттенки и мелочи, до полнейшей неузнаваемости извратили основы и суть. Именно это происходило, например, в Римской Галлии, где отрицание христианского равенства, выражающееся в утверждении господства власти епископов, и стремление к материальному довольству привели к тому, что представители клира стали вербоваться из богатых членов общин, а сама должность епископа буквально покупалась светскими деятелями, в том числе, виноделами и виноторговцами. Соответственно, последние выступали еще и лоббистами своего бизнеса, внедряющими в жизнь представление о винопитии, как о нормальном и естественном образе жизни… И, конечно, сами же пропагандисты винопития становились, как обычно, и первыми жертвами своего порока. И вскоре пьянство среди духовных лиц распространилось столь широко, что Агдский собор 506 г. был вынужден запретить священникам, дьяконам и поддьяконам даже присутствовать на брачных пирах. Кроме того, собор записал в своих решениях: «Прежде всего, клирики должны избегать пьянства, которое есть искра и рассадник все пороков. Поэтому того, кто обнаружится пьяным, мы постановляем, чтобы научился порядку, пусть или будет отлучен от причастия в течении тридцати дней, или подвергнется телесному наказанию» [114].
Конечно, при настроенности церкви на борьбу только с пьянством, а не за трезвость, и при положительном в целом отношении церкви к винопитию, никакие запреты и ограничения ожидаемых результатов дать просто не могли. Потому-то и Маконский собор 585 года был вынужден уже традиционно взывать все о том же: «Ни один пьяный или уже наевшийся священник да не осмеливается совершать жертвоприношения» [115]. То, что священник пьет во внеслужебное время – это ничуть не порицаемо. Личная жизнь вне внимания общества и церкви. Главное, чтоб во время службы на ногах стоял уверенно да чтоб язык не заплетался.
И подобная толерантность, конечно же, не могла не выступать прямым пособником бесовщины, господствующей в христианском мире, замешанной на спиртосодержащей отраве и животных страстях. И нередко эта бесовщина доводила до крайностей. Позорных и преступных. Так, в частности, произошло во Франкской Галлии с епископом Амбренским – Салонием и епископом Гапским – Сагиттарием, которые будучи в пьяном виде систематически доходили до блуда, грабежей, захвата заложников, до буйных драк и даже до убийств. В результате, собор Лионский (567 г.) нашел нужным низложить иерархов, лишить их священного сана. Но – не поразительно ли это? – папа Иоанн III с дозволения известного своей жестокостью короля франков Гунтрамна, причисленного впоследствии за постоянное покровительство церкви к лику святых, отменил решение собора Лионского и восстановил злодеев в сане?!..
…Весьма эффективным подспорьем для насаждения в умах людей идеи винопития и, соответственно, интенсификации процесса всеобщей алкоголизации вскоре стали служить и монахи Римской империи. Монашество, – как утверждал французский историк Франсуа Гизо (1787–1874), – обязано своим происхождением не какой-то специальной затее духовных лиц, но порокам, коими было поражено общество: бездеятельность, развращенность и нищета [116]. Больное общество породило бродяг, бродяги же, одухотворенные христианской идеей, превратились и в странствующих, и в затворе пребывающих монахов, обретших высший смысл своего бренного существования и осознание своей миссии – хранить в чистоте учение Христа.
С другой же стороны, как о том пишет известный российский учёный И.К. Языкова, движение монашества явилось ответом на то, что церковные иерархи увлеклись обретением привилегий, материальных благ, погрязли в коммерции, дошли до продажи и покупки церковных должностей… «…Наиболее духовно чуткие люди, – пишет Ирина Константиновна, – воспринимали внешний триумф Церкви как духовную катастрофу, провидя за пышным фасадом ее внутреннее ослабление. Распространилось даже мнение, что в миру спастись невозможно, что необходимо бежать из мира. Раннее монашество и пустынножительство было своего рода духовным диссидентством, и разбросанные по пустыне монашеские поселения ощущали себя как бы «Церковью внутри Церкви» [117].
Монахи – воплощенное в одиночестве неприятие индивидуальным сознанием мирской суеты и произвола священников, извративших христианскую идею – по подобию своих судеб, а также из потребности во взаимопомощи неизбежно сбивались не только в группы беседующих друг с другом и соборно молящихся, но и совместно проживающих. Так движение одиночек привело к образованию монастырей. Одним из первых, а, возможно, и первым был монастырь, который основал в 318 году на правом берегу реки Нил в Верхнем Египте монах Пахомий.
Конечно, монастыри – места совместного проживания людей, производящих все, в чем они нуждались, – имели и собственную церковь, и трапезную, и пекарню, и помещения для провизии, и скотный двор, и огороды, и виноградники… И конечно же, такое большое хозяйство, при котором были сотни иноков, не могло обойтись без планирования, контроля, вертикальной и горизонтальной координации. И все эти, и многие этому сопутствующие функции на первых порах исполнял настоятель, которому помогали смотрители домов и экономы. На первых порах. В дальнейшем же, поскольку монастыри представляли собой живой, духовный и социально-экономический организм, не могли образовавшись, тотчас же самозаконсервироваться. Монастыри развивались. Получила свое развитие и система управления. Но поскольку монахи были продуктом своего времени, той культуры, в которой жили, мира, в основе которого – принцип конкуренции, соперничества, ежедневной борьбы за кусок хлеба и за место под солнцем, то как могли постичь смысл совершенно бессмысленного, изреченного Иисусом: «кто хочет между вами быть бо́льшим да будет вам слугою; и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом»?
Между тем, сказанное Иисусом было не столь уж и абсурдным. Более того принцип ненасилия, отказа от принуждения был уже воплощен в практику. В частности, выдающийся путешественник, этнограф С.П. Крашенинников (1711–1755) обнаружил, что «Камчатский народ» до покорения Российскому государству, как, надо полагать, и две тысячи лет тому назад «жил в совершенной вольности; не имел никаких над собою начальников, не подвержен был никаким законам, и дани никому не плачивал. Старые и удалые люди имели в каждом острожке преимущество, которое, однако ж, только в том состояло, что их советы предпочитались; впрочем, было между ними равенство, никто никем повелевать не мог, и никто сам собою не смел другого наказывать» [118].
Подобное же через сто лет после С.П. Крашенинникова обнаружил и русский этнограф, антрополог, путешественник Н.Н. Миклухо-Маклай (1846–1888) в Новой Гвинее: «У папуасов Берега Маклая и большинства других районов Новой Гвинеи не было ни наследственных, ни выборных вождей. В то же время из среды соплеменников стихийно выделялись благодаря своему воинскому искусству, успехам в хозяйственной деятельности или знанию магии «большие люди» (тамо боро), которые пользовались особым авторитетом. Важные решения обычно принимались сообща всеми взрослыми мужчинами деревни» [119].
Так вот, идею всеобщего равенства, мирного сосуществования без личной гегемонии и без насилия, осуществляемого властью, принять и усвоить иноки так и не смогли. Потому-то и побрели они по тому же пути, по которому уже триста лет шла Церковь. Путь иерархизации. Путь, где влияние осуществлялось не на основе харизматичности личности, а рангом должностных лиц.
С другой же стороны христианская Церковь, стоящая на службе у государства, достигла к тому моменту такого могущества, что вопросы существования тех или иных религиозных образований и лиц, имеющих к ним отношение, зависел уже только от ее благосклонности. В частности, Агдский собор 506 г. в своих решениях записал: «Пусть никто не дерзает начинать или основывать новый монастырь без позволения или одобрения епископа. <…> Если монах без позволения или воли своего настоятеля пришел в другой монастырь, то никакой аббат пусть не осмеливается его принять или держать [у себя], но где бы он ни был, этот монах должен быть возвращен к своему настоятелю» [120].
Соответственно, и сама автономия монастырей очень скоро превратились в чистую фикцию: в V веке епископы распространили, а к концу VI века окончательно распространили свою юрисдикцию на монахов, сделались блюстителями исполнения правил внутри самих монастырей, т. е. присвоили себе право надзирать и порицать. Более того, вскоре в церквях, существующих при монастырях, богослужение стало дозволяться либо тем священникам, которые присылались епископом со стороны, либо тем, которых он в священники рукоположил из числа монахов. Только так и никак иначе. Однако одновременно с теми уступками, на которые вынужденно шли настоятели монастырей, настоятели взамен обретали дарованные им дополнительные права и властные полномочия. А власть – не константа. Дарованной возможностью повелевать другими – рестимулируется дремлющая потребность доминировать, господствовать и держать всех и все под своим контролем, и стремительно влиять на то, что норовит шевельнуться по собственному произволу… Потребность жаждет удовлетворения, но каждый акт ее удовлетворения вместе с тем есть и процесс ее неизбежного роста…
И как остановиться от попирания чужой воли, если всякий отказ от насилия над кем-то тут же оборачивается насилием над собой и, соответственно, вхождением в состояние эмоционально неприятное, в состояние бессмысленно наказанного?
И аббаты, так и не разрешившие сию дилемму, а иные даже и не пытавшиеся ее разрешать, смиренно приняли с ними происходящее, и далее уже тупо, условно-рефлекторно реагировали на те или иные факторы, возникающие в поле зрения, в пределах их компетенции, в зоне их административного и прочего влияния. И вскоре аббаты, уже не избираемые братией, а назначаемые епископами, и зависимые от последних, а первым не обязанные уже ничем, вышедшие из-под влияния не только нравственных законов, но и юридических, отшатнувшиеся, фактически, от Иисуса Христа, призывавшего к равенству, терпимости и любви, несли в этот мир черное зло – растлевали, развращали, пытали неугодных и даже убивали…
Весьма подробно, и, может быть, даже излишне подробно данную тему раскрыл в своей работе «Криминальная история христианства» немецкий писатель К. Дешнер (1924–2014): «Наказание побоями, применяемое даже при малейших проступках, существовало главным образом для монахов и монахинь в монастырях, большей частью для детей на каждом шагу, однако также для священников, прежде всего для низших клириков, которых все лупцевали по меньшей мере с пятого по девятнадцатое столетие, при этом епископы и аббаты били розгами, ремнями, бичами. Порой и епископы мучили аббатов, и число ударов сверх максимума по иудейскому праву (от 40, или может быть 39) могло подняться до 72, 100, 200 ударов, однако установление этого числа было предоставлено «усмотрению настоятеля» и ему лишь в порядке исключения разрешалось «доходить до смертного исхода».
Возможно, не вся верхушка заходила так далеко и, вероятно, не каждый был столь свиреп, как настоятель Трансмунд, который в монастыре Тремити вырывал монахам глаза, отрезал языки и которому, впрочем, печально знаменитый папа Григорий VII по-прежнему покровительствовал. Всех превзошел, однако, не кто иной, как Петр Дамиани, святой и отец церкви если епитимья предписывала 50 ударов и была допустима, то для Дамиани епитимья тем более возможна с 60, 100 до 200 ударов, даже до 1000 и 2000 ударов» [121].
Конечно, подобные нравы, царящие за каменными стенами монастырей, ничего общего не имеющие с проповедью всеобщей любви, смирения и равенства, сами по себе являлись продуктом разложения, и сами, в свою очередь, разлагали иноческую братию. А если еще вспомнить, что в среде христиан не порицалось винопитие, а в церковной и в монастырской собственности были и виноградники тоже, то стоит ли удивляться тому, что кроме насилия, там же процветало еще и пьянство. Даже в самом суровом монастыре Монте-Кассино в уставе самого сурового монаха Бенидикта (480–547 гг.) в главе XL «О количестве вина» было сказано: «…Полагаем полмерки вина достаточной на день для каждого. <…> Конечно, мы читали, что пить вино – не монашеское дело, но так как в наши времена убедить в этом монахов нельзя, мы согласились хотя бы на том, чтобы не пить до пресыщения, а умеренно, ибо «вино развращает и разумных» [122].
«Полмерки вина» – полсекстария, а секстарий в древнеримской системе – мера объема жидких тел, измеренных по весу, – равнялся приблизительно 544 г.
Таким образом, даже Бенедикт вынужденно, но допускал ежедневное питие вина в количестве 272 грамм.
И монахи пили. Пили сами и, превратив вино в коммерческий продукт, спаивали жителей близлежащих поселений. И, конечно же, не без последствий. И даже на Афоне, в одном из главных святых мест, и даже среди исихастов – представителей знаменитого мистического движения в монашестве. Ведь это византийский император Алексий I Комнин (ок. 1056–1118) в своем письме к константинопольскому патриарху Николаю III сетовал: «исихасты Афона имеют в своих рядах тех, кто разжигаются вином… это хула на ангельское сообщество», а патриарх Иеремия своим постановлением в 1574 году вообще запретил монахам гнать и пить виноградную водку – ракию – «источник всех зол». Впрочем, при благосклонном в целом отношении церкви к винопитию, все эти паллиативы, в том числе, издаваемые игуменами постановления, направленные на тех, кто нарушает «меру потребляемого вина», были пустой административно-словесной суетой. Именно об этом говорит то, что люди спиваются и гибнут, а позиция церковников – незыблема. Вот, что в 2009 году в беседе с диаконом Федором Котрелевым заявил иерей Даниил Сысоев: «На Афоне, в месте, известном строгостью жизни, приходящему в монастырь всегда подносят рюмку водки. Так же и на Синае. Конечно, крепкие напитки не запрещены. Один мой друг, священник и врач, говорил, что водка, но не более 50–70 граммов, не страдающему алкоголизмом может быть полезна для здоровья» [123].
Христианство было импортировано на Русь как уже вполне сформированная технология духовного и социально-политического порабощения народа: оно было оснащено тщательно разработанной идеологией и множеством ритуалов для манипуляции неофитами и паствой, Церковная организация структурирована, выстроена как иерархия, сдобрена недвижимостью и земельными наделами… Конечно, все это было очень далеко от того, что содержалось в проповедях Иисуса Христа и даже совершенно несовместимо с Его образом жизни – «Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову» (Мф. 8:20). Но могло ли это волновать тех, кто использовал религию не для имплантации в людские умы животворящих идей Мессии и не для придания своему бренному существованию высшего смысла, веруя в то, и надеясь на то, что земная жизнь – это лишь путь в Царствие Небесное; могло ли это волновать тех, кто использовал религию для удовлетворения своих, исключительно утилитарных, земных интересов?
Взять того же князя Владимира, предоставившего иностранному агенту – Киевской православной митрополии Константинопольского патриархата, – и свое покровительство, и бессрочную прописку в Киевской Руси. Впрочем, а что ему, оказавшемуся в тех исторических обстоятельствах, еще оставалось делать? Будучи новгородским князем, он, страшась смерти, был вынужден покинуть пределы своего Отечества, бежать в Швецию. Вернулся через год с ордой иноземных наемников – с братками-варягами – нанятой на деньги новгородских торговцев. Захватил и разграбил Полоцк. Полоцкого князя Рогволода и двоих его сыновей – убил, иначе они объединились бы против него с киевским князем Ярополком, дочь Рогволода – Рогнеду, на тот момент невесту Ярополка, насильно, без ее на то согласия, взял себе в жены. И уже затем, убил и брата своего Ярополка [124].
Вот так будущий святой Владимир Красное Солнышко, вооруженный, по всей видимости, девизом «Хочешь жить – убей!», и стал владыкою княжества Русская земля.
Однако на этом проблемы не закончились: та Русь, которую князь Владимир насильственно подмял под себя, на тот момент была не только плохо управляема, но еще и перманентно расползалась, как гнилое лоскутное одеяло. Отказались повиноваться до того мирно жившие радимичи, прекратили платить дань вятичи, регулярно беспокоили печенеги, стоящие в 30 км от Киева… А Владимир к тому же еще и незаконнорожденный, а поэтому и не имеющий прав на княжение, и не имеющий политической поддержки в своем Отечестве. Единственная сила, на которую он опирался, – наемное варяжское войско, могущее в любой момент превратиться и во врага, стоящего за его спиной.
Кроме того, Русь была не союзом добровольно объединившихся племен, но территорией, находящейся под контролем киевского князя, осуществляющего рэкет, т. е. вымогательство с применением угроз, жестокого насилия и взятия заложников. При этом, собирая дань, князь, как и положено настоящему вымогателю, гарантировал своим данникам надежную защиту от других рэкетиров.
Соответственно, исходя из подобных наших представлений о наличествующих межплеменных отношениях, мы не можем согласиться с тем, что на 980 год Русь – это государство в пределах той территории, с который взималась ежегодная дань. Если под государством мы понимаем не только единую, суверенную территорию, где властная структура собирает налоги (дань) и использует насилие по отношению к несогласным с политикой, проводимой в интересах господствующей группы лиц, но еще и аппарат управления, правомочный решать вопросы организации общества в масштабах всей страны. Насколько нам известно, племена – данники киевского князя, даже те немногие, где сидели княжеские наместники-временщики, исключительно сами проводили свою собственную внутреннюю политику, сами определяли, когда сеять и пахать, кому и когда молиться. Киевская Русь во второй половине X века – это всего лишь Киев и его предместья, где люди, не знающие ни политического, ни административного единовластия, жили в народоправстве (демократии), где их поведение регулировал только обычай, произвол князя да отчасти страх незримых существ, населяющих природу.
Именно такие представления у нас образовались при тщательном изучении летописного наследия и после соответствующих размышлений. И поэтому мы совершенно согласны с выдающимся русским историком Михаилом Николаевичем Покровским (1862–1932), который о Киевской Руси X века в свое время написал жестко и однозначно: «Никакой почвы для «единого» государства – и вообще государства в современном нам смысле слова – здесь не было» [125].
Столь же решительно и в тон ему высказался и наш современник, выдающийся ученый И.Я. Фроянов, мужественно идущий против мнения, господствующего в историографии Древней Руси: «Сохраняют научную ценность наблюдения историков, стоявших у истоков советской исторической науки, согласно которым у восточных славян X в. не было и не могло быть общей государственной территории, а значит, и единого государства» [126]. (Выделено мной. – Е.Б.).
И не только единого, добавим мы, но и вообще ж государства не было. Оно только-только начинало складываться.
С этой точкой зрения, похоже, категорически был не согласен известный исследователь славянской истории и культуры Б.А. Рыбаков, утверждавший, что «Киевская Русь IX–X вв. – первое государство восточных славян, объединившее более 200 мелких славянских, финно-угорских н латышско-литовских племен. …Киев стоял во главе огромного государства» [127].
Как мы видим из приведенных цитат, вопрос о наличии государства не только дискутабелен, но и достаточно дремуч, ибо сам термин – «государство» – все еще не обрел общепризнанного определения. Хуже того, нынче настойчиво отвергаются, хорошо проработанные и, казалось бы, уже устоявшиеся марксистские формулировки.
Так оно ж и понятно: народившаяся отечественная, по преимуществу, компрадорская буржуазия, используя находящихся у нее на финансовом поводке когнитариев, старательно стремится с помощью всяческих информационно-косметических и эмоционально-зрелищных ток-поп-шоу «процедур» облагообразить свой неприглядный имидж, закамуфлировать шакальи уши и клыки; вместе с тем, стремится к маргинализации протестных акций недовольных индивидов, придавая им статус инспирированных исключительно западными спецслужбами; стремится убедить униженных и ограбленных россиян в том, что все мы, дескать, нынче – господа, и каждый, кто того желает – акционер, и даже собственник… И нет, мол, никаких у нас антагонистических классов и всяких там непримиримых противоречий, и потому весь этот марксизм – одна большая антинаучная фикция, философско-социологическая и экономическая ересь… И вот уже предателям Родины, разрушителям России, растлителям народа оказываются особые знаки внимания и признательности, раздаются высокие должности, звания и награды – орден «За заслуги перед Отечеством», орден Почёта, орден святого благоверного князя Даниила Московского, орден преподобного Сергия Радонежского… И вот уже многочисленные иуды, аферисты да варяги устремляются к креслам и Государственной Думы, и Совета Федерации, и Кремля… Где все было продано, там стало все купленным…
Современные ученые в понятие «государство» вкладывают содержание, исходя из своих собственных интеллектуальных детерминант, и, порой, политических пристрастий и даже конъюнктурных соображений. И коль дело обстоит именно так, и нет на сегодняшний день определения общепризнанного, то и мы остановимся на той формулировке, которую за наилучшую сами же и признаем. Л.Е. Гринин – философ, историк, социолог: «Государство можно определить, как особую достаточно устойчивую политическую единицу, представляющую отделенную от населения организацию власти и администрирования и претендующую на верховное право управлять (требовать выполнения действий) определенными территорией и населением вне зависимости от согласия последнего; имеющую силы и средства для осуществления своих претензий» [128].
Соответственно, государственная власть – это право одних, олицетворяющих собою государство, а также представляющих тех, в чьей собственности находится государственный аппарат, принуждать других, олицетворяющих собою подданных государства, или же его граждан, к исполнению обязанностей, определяемых теми, в чьих интересах используется насилие. Причем, подчеркнем особо, власть используется исключительно в интересах тех, кто обладает правом ее использовать, а не в интересах тех, кто имеет обязанности подчиняться осуществляемому насилию.
Кроме того, и это имеет принципиальное значение, на наличие государства указывает то, что оно – управляет. Не просто регулярно вымогает дань, а – управляет на основе закона. Естественно, в интересах тех, кто право управлять узурпировал, и присвоил себе право контролировать материальные ресурсы общества и распределять их; кто является главным собственником не только потому что он «делец и банкир, владелец заводов, газет, пароходов» (С. Маршак), но еще и в силу того, что «…собственность есть распоряжение чужой рабочей силой» [129].
Конечно, до заката X века ничего подобного в Киевской Руси мы еще не наблюдаем. Многое и радикально начинает меняться только с приходом к власти князя Владимира. А пришел он к власти, повторим, не имея ни авторитета, признаваемого соплеменниками, ни надежной военно-политической поддержки со стороны соратников или же союзников. В его распоряжении была лишь хищная, плохо управляемая банда иноземных наймитов, готовая после Полоцка растерзать и Киев, и любое иное селение, пахнущее добычей. Это был суровый X век – век, еще не знающий нравственного закона, предписанного высшей сущностью, ибо источником веры славян была проекция в воображение людей одушевляемых и, соответственно, обожествляемых сил природы, пребывающих, как известно, вне категорий добра и зла. Когда еще в самом разгаре была «война всех против всех», право сильного безраздельно господствовало среди живущих. Это ведь и об этом периоде один из основателей теории общественного договора и теории государственного суверенитета Томас Гоббс (1588–1679) написал в своем бессмертном труде: «…везде, где люди жили маленькими семьями, они грабили друг друга; это считалось настолько совместимым с естественным законом, что, чем больше человек мог награбить, тем больше это доставляло ему чести» [130].



