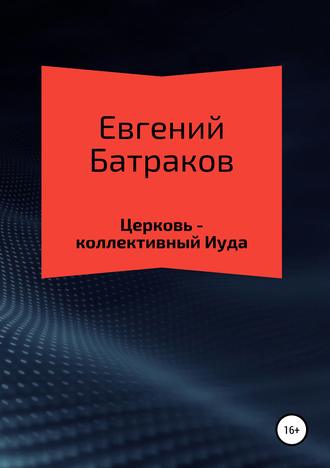 полная версия
полная версияЦерковь – коллективный Иуда
Приведем в качестве иллюстрации к сказанному всего лишь два примера.
О.В. Глацких, директор Департамента молодёжной политики Свердловской области на встрече со школьниками в Кировграде 24 октября 2018 года заявила: «На сегодняшний день в молодёжи, в подрастающем поколении складывается почему-то такое понимание о том, что нам государство все должно. Нет. Вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать» [227].
И все это можно было бы воспринимать как некий казус, да мы именно так поначалу и восприняли, но вот, явно маргинальную асоциальную позицию провинциальной чиновницы посредством своего высокого авторитета превратил в позицию самую что ни на есть магистральную не кто иной, как глава Российской Федерации В.В. Путин. На встрече с молодежью, когда развернулась дискуссия – нужно ли молодому человеку ждать помощи от государства, президент, не моргнув лукавым глазом, заявил: «Мы все думаем «Добрый дядя должен нам что-то принести», но лучше вспомнить революционные песни, большевистские: «Никто нам не поможет, ни бог, ни царь и не герой». Нужно своей собственной рукой это все делать» [228]?!..
Конечно, мы, «рожденные в СССР», помним все эти песни. Помним и начало «Интернационала», фрагмент из которого так неудачно процитировал президент:
Вставай, проклятьем заклеймённый,
Голодный, угнетённый люд!
Более того, помним мы и продолжение тех слов, что по неосторожности процитировал глава государства:
Никто не даст нам избавленья:
Ни бог, ни царь и не герой.
Добьёмся мы освобожденья
Своею собственной рукой.
Чтоб вор вернул нам всё, что взял он…
Ума не приложу, что тут и думать: то ли призывает нас г-н Путин к Майдану, к тому, что «было в Париже» в декабре 2018 года, к штурму Зимнего дворца или же это просто, как сказал профессор МГИМО В.Д. Соловей, еще одно свидетельство деградации системы власти и управления [229]?
Впрочем, вернемся к той ниточке своих рассуждений, которую мы тут вьем, и поставим вопрос ребром: могла ли существовать публичная власть в домонгольский период, если публичная власть – функция государства, а государство есть воплощенная нужда господствующего класса крупных собственников в защите своих, прежде всего, материальных интересов? Были ли собственники-землевладельцы в домонгольский период? Весьма некрупные – были. (По крайней мере, примеры наличия «крупных феодалов» «сторонники удревления феодализма на Руси» не приводят). Но их несущественное наличие не позволяет сделать вывод о том, что в Х—ХII вв. и даже в ХШ в. уже возникли два антагонистических класса: господствующий, эксплуататорский класс феодалов и класс феодально зависимого крестьянства и, соответственно, уже бытовали феодальные отношения. Увы, в лучшем случае, – как совершенно верно пишет историк И.Я. Фроянов, – «о развитии феодальных отношений как таковых здесь не может быть и речи. В лучшем случае мы должны говорить лишь о тенденции к феодализму, но не больше» [230].
И тенденции, о которых мы говорим, существовали, эволюционировали. Хотя и весьма медленно. Два великих историка – Н.И. Костомаров и наш современник И.Я. Фроянов утверждали, что крупные феодалы – заказчики государственного аппарата, и обезземеленное крестьянство на Руси появились лишь во времена монгольского нашествия, и только при Иване III было создано не централизованное государство, а – государство. Почему этот нюанс важен? Довольно часто встречается в литературе утверждение, будто бы в эпоху Ивана III была преодолена феодальная раздробленность, т. е. как бы государство-то русское было, но было оно – раздроблено. Человек был, но – раздроблен, разят на части – как вам такое? Вы можете себе представить человека, раздробленного на куски? Куски – это не человек, и даже не труп.
Так вот, при Иване III произошла ассимиляция автономных, независимых друг от друга организмов – не карликовых государств, но – Земель, княжеств в единый организм, который мы и называем государство Русское царство…
Существование же Киевского государства, в частности, в XI веке, как феномена, порожденного социальным неравенством, мы решительно отвергаем, как антинаучную фикцию. Отвергают ее, как выше мы уже о том упоминали, и события осени 1068 г., когда городская община, жители всей Киевской земли выступили против князя Изяслава Ярославича после того, как он потерпел поражение в битве с половецким ханом Шаруканом на реке Альте. Люди, собравшиеся на вече, не только потребовали раздать оружие, но и сами приняли решение выступить против половцев. Более того великому князю Изяславу Ярославичу пришлось бежать в Польшу, а вече само возвело на княжеский престол, освобожденного из заточения, князя Всеслава Брячиславича.
Конечно, добром все это не кончилось: князь Изяслав Ярославич вскоре вернулся с войском наемников, и с помощью иноземной силы восстановил свой былой статус – занял княжеский престол, но это уже иной исторический срез темы, напоминающий нам, к тому же, что стратегия генерал-лейтенанта А.А. Власова имеет очень даже глубокие исторические корни.
Кстати, вышеупомянутое киевское событие 1068 года, еще и самым красноречивым образом указывает не только на отсутствие у великого князя в личном пользовании эдакой собственной государственной власти, но и вообще государственной власти как таковой: он не мог по собственной инициативе отказаться вести войну, если община приняла решение воевать, и не мог, когда ему вздумается без согласия общины объявлять войну кому бы то ни было. Важно понимать, что князь и группа бояр – не государство. Государство – это «сила, происшедшая из общества, но ставящая себя над ним (выделено мной. – Е.Б.), все более и более отчуждающая себя от него» [231]. Государство – это организация, возникшая «из потребности держать в узде противоположность классов» [232], но классом-инициатором создания «узды» и держателя «узды» был, конечно же, господствующий в обществе класс, т. к. негосподствующему создавать для себя самого «узду» и «кнут» было без надобности – неимущему собственность защита собственности не требуется. К тому же, он не обладал необходимыми теоретическими познаниями; был неорганизован и разобщен; материальными средствами для создания и содержания госаппарата не располагал.
Представляется очевидным, что решительно нет никакой надобности продолжать и далее изыскивать, измышлять аргументы в пользу тезиса о том, как образуется государство вообще и в каком веке образовалось, в частности, русское государство. На данном полемическом ристалище, уже давно ставшим совершенно бесплодным полем, старея в нескончаемой полемике все ломают да ломают свои безопасные копья, так не согласные друг с другом очередные исследователи и диспутанты…
Причем, для одних, например, «для ученых-государственников XIX в. было принципиально важно доказать древнейший характер нашего самодержавия, поскольку с ним отождествлялись суверенитет и достоинство державы» [233]; для других – для современных теоретиков, находящихся на содержании у буржуазии и олигархов, стремящихся вытравить из общественного сознания представление о существующем политическом и социально-экономическом неравенстве, важно навязать представление о государстве, как о таком особом аппарате, который действует беспристрастно, исключительно на основе действующего законодательства и непременно ради интересов всего общества, важно навязать представление об обществе, как о бесструктурном континууме – совокупности собственников, отличающихся друг от друга не качественно, но лишь количественно – по размеру ежегодного дохода, и, поднапустив еще и липкого информационно-седативного тумана, приводящего к анестезии совести, парализации способности думать о дне завтрашнем, размышлять о событиях, уже ставших историческим прошлым, – надежно замаскировать пропасть, существующую между классами-антагонистами.
Существует, конечно же, и множество иных точек зрения, разнообразие которых проистекает, во-первых, из того, что, как совершенно верно подметил русский историк права, профессор, академик Петербургской академии М.А. Дьяконов (1855–1919), «понятие о государстве оказывается не тождественным у разных писателей» [234], а во-вторых, наличие взаимониспровергательского зуда определяется наличием той или иной, чаще незримой, а, иногда, и неосознаваемой выгоды. Вспомним, сказанное Т. Гоббсом: «…если бы истина, что три угла треугольника равны двум углам квадрата, противоречила чьему-либо праву на власть или интересам тех, кто уже обладает властью, то, поскольку это было бы во власти тех, чьи интересы задеты этой истиной, учение геометрии было бы если не оспариваемо, то вытеснено сожжением всех книг по геометрии» [235].
Пожалуй, дальше всех, взыскующих истины, занесло доктора исторических наук, профессора И.Н. Данилевского (род. 1953), ставшего автором весьма экстравагантного варианта достижения консенсуса путем принятия формулировки: «Киевская Русь – негосударственное государство» [236].
Так вот, коль дело обстоит именно так, и общепризнанного определения и понимания того, что есть государство до сих пор не существует, то я, дабы не ввязываться в пустопорожнюю полемику, не предвещающую даже дрейфа к истине, выбираю самое, на мой взгляд, разумное: останавливаюсь на том, что мне гораздо ближе по этическим, политическим и теоретическим соображениям – на учении о государстве, которое было наиподробнейшим образом разработано более ста лет тому назад крупнейшими политологами XIX века – К. Марксом и Ф. Энгельсом.
Исходя из учения, утверждающего: государство имеет классовую природу, мы констатируем, что ко времени появления на московском столе великого князя Ивана Васильевича, или Ивана III, как его, для своего собственного удобства обозначил литератор XIX века Н.М. Карамзин, славянские княжества, безусловно, представляли собой феодализированные образования, имеющие в наличии как крупных землевладельцев, так и обезземеленных крестьян, и что Ивану III для образования государства лишь оставалось объединить уже существующие компоненты и дополнить свое творение необходимыми структурами.
И великий князь Иван Васильевич присоединил к Московскому княжеству Ярославское княжество, Ростовское, Тверское, Суздальско-Нижегородское… После успешного похода на Новгород в 1478 году, установил контроль над землями Новгородской республики. Прославянские племена обрели этническую и культурную общность. Более того, как совершенно верно утверждал историк Н.И. Костомаров: «…завершение территориального собирания северо-восточной Руси Москвойпревратило Московское княжество в национальное великорусское государство и таким образом сообщило великому князю московскому значение национального великорусского государя» [237]. А государь – как нам разъясняет Словарь древнерусского языка, – в те времена понимался не иначе, как владелец, хозяин [238], т. е. как феодал первой величины.
Более того, превращение Великого княжества Московского в то, что польский историк и дипломат Ян Длугош (1415–1480) обозначил как «Московское государство», потребовало и коррекции титулатуры. И она произошла. Так, например, в грамоте от 16 марта 1499 года, направленной от имени великого князя Ивана Васильевича султану Баязету, мы обнаруживает строку, которая не встречалась ранее в предыдущих грамотах: «Иоан, Божиею милостию, един правой государь всея Руси отчич и дедич, и иным многим землям восточным и северным государь и великий князь» [239].
Всю территорию новорожденной страны великорусский государь поделил на уезды, уезды – на волости и станы. Княжескую дружину заменил дворянским ополчением, основу которого составляли помещики – служилые люди, получающие в свое пользование поместья на период несения воинской обязанности. Соответственно, в случае объявления войны или же в связи с еще какой-либо надобностью, при получении соответствующего приказа помещик был обязан прибыть в указанное место с определенным количеством вооруженных людей, как пеших, так и конных из числа своих крестьян. Сформировал аппарат централизованного управления, состоящий из Боярской думы, Большого Дворца и Казны. В 1497 году чтобы централизовать и унифицировать порядок судебно-административной деятельности, был составлен и принят новый свод законов – Судебник, установивший единые нормы налоговой ответственности, а также порядок ведения следствия и суда. Вместе с тем, нельзя не сделать акцент еще и на том, что Судебник представлял собой материальное свидетельство закрепленного на бумаге классового господства феодалов, фиксацию инструмента феодального регулирования существующих социально-экономических взаимоотношений, констатацию установленной общегосударственной системы крепостного права…
Таким образом, у нас есть все основания для того, чтобы поддержать крупного исследователя процесса объединения русских земель Александра Евгеньевича Преснякова (1870–1929), который, изучая труды многих историков, в частности, Н.И. Костомарова, сделал совершенно однозначный вывод: «Подлинным организатором Великорусского государства признают Ивана III Васильевича» [240]; у нас есть все основания согласиться и с автором более 300 научных и учебно-методических работ по истории России, изданных не только в нашей стране, но и на Украине, в Белоруссии, Польше, Германии, США, Великобритании, Греции, Литве, Эстонии, Латвии, доктором исторических наук А.И. Филюшкиным, который точно и лаконично выразил как свое собственное мнение, так и мнение современных историков, в том числе таких, как И.Я. Фроянов: «В конце XV в. … на международную арену вышло могучее молодое Русское государство, созданное Иваном III» [241].
Государство, созданное не в XIV веке, не в XII не в X, но в конце XV века!
Собирание русских земель под властную длань Ивана III осуществлялось путем военно-политического принуждения, в том числе, с использованием таких инструментов, как оккупация, аннексия и рейдерство, с непременной насильственной нейтрализацией провинциального своеволия и стремления к независимости. И вся эта совокупность предпринимаемых энергичных и разноплановых усилий, конечно же, определялась желаемой целью – установление в стране великим князем Иваном Васильевичем всея Руси режима личного единодержавия.
И все бы ничего, однако ж вот какая закавыка: не вдруг, но обнаружилось, что ровно к тому же самому – к политическому господству – стремилась и церковь. И в основе подобного стремления было не только наличие в руках митрополитов и монастырей крупных землевладений, но еще и присутствие в умах церковников теологемы, навеянной, как минимум, сочинением «О Граде Божьем» Аврелия Августина: коль церковь представляет Бога на земле, то именно церковные иерархи и должны быть облачены всевластием.
Таким образом, между великим князем всея Руси и митрополитами всея Руси началось острое, затяжное политическое противостояние. И весьма серьезное. Особенно в тот период, когда Иван III для защиты своего детища – государства – начал создавать армию, основу которой теперь составляли «государевы служилые люди», требующие для своего содержания земли, населенные крестьянами. А земли, которыми государь мог воспользоваться, были церковными… Он и воспользовался – первым в истории России провел масштабную, хотя и не полную, т. е. частичную секуляризацию. Шаг, прямо скажем, весьма неординарный и мужественный. Особенно если учесть, что конфискация церковных (митрополичьих) и монастырских земель осуществлялась не только с нарушением законов, но и в стране, где религиозный, православный фанатизм уже достигал своего пика, и потому отчуждение «божьего имущества» воспринималось современниками однозначно как святотатство. Благо – к выгоде Ивана III – народ смущали, умы повсеместно баламутили тогдашние ереси – стригольников и жидовствующих, а также монашеское духовно-политическое движение нестяжателей: на их фоне княжеские возмутительные притязания смотрелись уже не столь разительно, не как особо дерзкие, богопротивные веяния…
Христиане-стригольники, напомню, отрицали надобность существования церковной иерархии и пастырей, таинств и обрядов; жидовствующие – отвергали монашество как образ жизни, стояли на том, что догматам о Троице, Божестве Иисуса Христа и искуплении, нужно предпочесть учение Ветхого Завета; нестяжатели проповедовали аскетизм, полагали, что монахи должны отречься от мира, думать только о спасении души, не принимать подаяний от мирян и жить трудами рук своих, монастыри же должны отказаться от эксплуатации крестьян и от земельной собственности.
Конечно, претензий к церковникам, к вероучению и к каноническим нормам со стороны православного населения Руси было множество. Даже великий князь высказывал свое недовольство. Так, в частности, случилось, после того, как митрополит Геронтей при освящении церкви в 1478 году совершил хождение с крестами вокруг храма «не по солнечному всходу», как надобно было по мнению великого князя Ивана Васильевича, а против хода солнца [242].
Впрочем, мы не станем сейчас разбирать суть тогдашних теологических и прочих разногласий, возникавших между духовенством и паствой, и составлять перечень контроверз. Важно выделить и еще раз повторить мысль: церковь, изначально вставшая на путь отвержения основ учения Иисуса Христа – отрицания любви, равенства, беспристрастия к земному, все более становилась коллективным Иудой. Хуже того, священнослужители и, так называемые «отцы церкви», все эти бойкие и ушлые массовики-затейники понавыдумывали величайшее множество совершенно бессмысленных обрядов, ритуалов и запретов, и выдумки обрели статус самодовлеющих ценностей, поработили, сковали все разнообразие форм естественного поведения некогда свободных людей. Церковники, возомнив себя стоящими над своими братьями и сестрами, над всеми, носящими на своей груди крест, навязали в качестве абсолютно несомненного, не подлежащего критическому переосмыслению свои собственные творения и решения Вселенских соборов, а само вероучение превратили в столь сложную догматику, что простому человеку без специально на то натасканных толмачей разобраться было делом совершенно невозможным. Отцы церкви вменили прихожанам в обязанность выставлять зажженные свечи, осеняя при этом себя крестным знамением, и произнося молитвы пред иконами, воздавая тем самым честь образу, восходящему к первообразу. Но… кто его видел воочию? Богомаз, изображающий лики, не пойми с кого срисованных, никем не виданных существ, и обозначенных как «Матерь Божья», «Троица», «Спас Вседержитель», «Спас Елеазаровский», «Пресвятая Богородица»?.. Почему материализованной выдумке, возможно даже чьей-то блаженной галлюцинации, надобно непременно отвешивать поклоны и возносить многие свои, не от ума, но из сердца идущие молитвы?..
…Церковь, возникшая в структурно организованном обществе, созданная членами этого общества, и сама организационно уподобилась этому же обществу, а поэтому бытийствуя, как образование материальное, представляющее собой иерархию, она не смогла обойтись и без установления экономических отношений. Более того, церковь не смогла и противостоять своему дрейфу прочь от Христа, от Его учения, дрейфу, образовавшемуся под влиянием епископов, пресвитеров и диаконов, рассевшихся на правах начальствующих, и взявших под свой контроль все, до чего только смогли дотянуться их руки, в том числе, и сферу финансов. Помните уже в апокрифе «Дидаскалия», который, как полагают ученые, был создан в III веке, ратующие за демократию и «народный контроль», получили полнейший отлуп: «Не требуй отсчета от епископа, и не наблюдай за тем, как он управляет и ведет свое домохозяйство или когда он дает, или кому, или где, хорошо или дурно он дает, или так ли, как это и подобает. У него есть единственный требователь отчета – Господь Бог» [243].
А как славно все начиналось!?.. А как круто были захвачены Благой Вестью первые христиане! Благой Вестью, что явилась вдруг пред ними! Явилась, будто сундук с драгоценностями, и каждый, кто был «духовной жаждою томим», хмелея от предвкушаемого, обретал надежду на избавление от земных страданий, веру во спасение и послесмертную вечную жизнь в Царствии Небесном, где ты нескончаемо блажен, прощен и любим…
Но, увы, зерна духовные, метаемые Иисусом, и пред свиньями тоже, зерна, так и не успевшие пасть в почву благодатную, на лету перехваченные бойким «апостолом» Павлом и его подельниками-иудеями, перетолкованные и переиначенные, породили чудовище – алчное, лживое, кровожадное, страдающее мракобесием и нетерпимостью к инакомыслию, ставшее безотказным подспорьем для персон, пребывающих во власти, ибо угнетателей оно всегда и неизменно оправдывало, а угнетенных, ограбленных, униженных и оскорбленных призывало только к покаянию, терпению и смирению.
Чужеродная для Руси византийская церковь, тихой сапой внедрившаяся в Русь, стремительно, как раковая опухоль разрасталась в новом организме, поражая органы, искажая мировосприятие, загоняя славянские племена в узкий коридор единомыслия и предписанного поведения.
К середине XVI века церковь в лице митрополичьего дома, епископских кафедр, крупных монастырей и городских соборов уже обладала огромным имуществом, в первую очередь земельным: «церкви принадлежало примерно 1/3 угодий, удобных для сельскохозяйственного производства» [244]. Монастыри превратились в крупные феодальные хозяйства, т. е. в такие хозяйства, у которых не только имелись во владении земельные участки, но участки, обеспечивающие «получение отработочной, продуктовой или денежной ренты» [245]. А это означает, что монахи, вместо того, чтобы кормиться исключительно плодами рук своих собственных, эксплуатировали крестьян. Более того, монахи вели торговлю, сдавали в наем помещения, предоставляли нуждающимися ссудный кредит. Быстрому обогащению монастырей, паразитирующих на вере людей в загробную жизнь, способствовали и сами богомольцы, жертвующие «на помин души» книги, сосуды, хлеб, скот, недвижимость… Располагая значительными финансовыми средствами, монастыри прикупали и окрестные, и отдаленные земли с лесами, реками, пашнями, деревнями и селами.
Значительно выросшее в XV–XVI вв. экономическое могущество церкви, дополненное убеждением, что церковь – единственный посредник между Богом и людьми, сформировало притязания духовенства на право участвовать в решении государственных дел, и даже побудило церковников покуситься на то, чтобы подмять под себя власть светскую. Естественно, последняя тоже была не лыком шита, потому-то между Русской церковью и Русским государством началась не просто война, но такая странная война, в которой противники, враждующие друг с другом, друг друга используют еще и для борьбы со своими собственными внутренними врагами. Сегодня нам это хорошо знакомо: помощь врагу своему на основе взаимовыгодного интереса. Ничего личного и патриотичного: «бизнес – святое дело».
Конечно, государство нуждалось в таком союзнике, как церковь, нуждалось в союзнике сильном, но управляемом, т. е. в зависимом. Вот почему власть уже в конце XV века превратила вопрос о церковных землях и вообще вопрос о недвижимости, в фигуру, на которую не могут распространяться государственные гарантии, ибо ничто не вечно на христианской земле, все лишено стабильности и определенности, и даже, поскольку на все воля Божья, никто из живущих не способен достичь статуса навсегда неприкасаемого. Все и всегда должны ощущать себя грешниками и вечно виноватыми. Отсутствие вины порождает чувство собственного достоинства, а оно – мать всех претензий. Создатель государства Иван III очень хорошо понимал, как достоинство мешает управлению людьми. Не вообще достоинство. Достоинство есть и у копейки, но только в той денежной системе, которую определили власть имущие. Вне системы копейка – медяк, ничего не стоящий. Если же копейка норовит заявить о своем достоинстве вне существующей системы, пытается заявить, будто она не зависит от системы, значит, она противостоит власти. А это уже – антигосударственное дело. Быть может именно поэтому Иван III и низвел всех своих подданных, и князей тоже, до статуса рабов, т. е. холопов государевых. Холоп – это наймит, человек, который не только служит кому-нибудь, но еще и не имеет права покинуть того, кому служит. Холоп всегда должен помнить о висящем над ним топоре, ибо пребывающий в состоянии душевного покоя слабо внушаем, плохо повинуется и неудобен в управлении. Только холоп хорошо напуганный всегда и всем доволен, и благодарен царю и Богу за каждый прожитый день, и за то, что нет голода и войны… Кто избежал беды, только тот и возрадуется, когда беды избежит.
Не в подобных ли размышлениях правители всех времен искали и находили, и находят оправдание для своих акций, смахивающих иной раз на простое самодурство – аресты, судебные процессы, казни, устроенные на площади, при обязательном стечении местного населения?..



