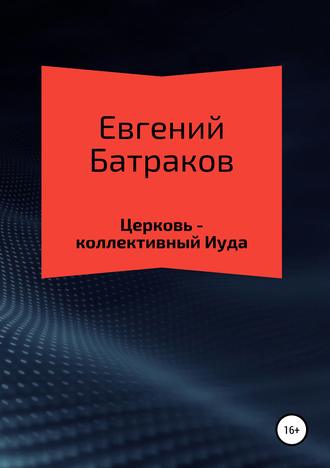 полная версия
полная версияЦерковь – коллективный Иуда
В целом же церковь в XVI–XVII в.в. и, прежде всего, за счет легиона своих монахов – «непогребенных мертвецов», как называли их в те времена, сосредоточила в своих руках не менее 1/5 от всего количества землевладений Руси. Причем, всеядность «непогребенных» была просто тотальной. Они пожирали куски не только крестьянской и боярской собственности – не гнушались и тем, что относилось к государевым строениям. Так, например, при царе Федоре Ивановиче (1557–1598), игумен Толоконцевского монастыря Калликст (Нижегородский уезд) «проворовался и пропил всю монастырскую казну и все грамоты, и документы отдали печерскому монастырю» [190].
Когда подобное вскрылось, противозаконное было устранено, но… 22 февраля 1612 года по жалобе бортников, разобрать дело в отношении Толоконцевского монастыря был послан некий Антон Рыбушкин. И выяснилось, что нижегородские посадские старосты Андрей Марков и Кузьма Минин Сухорук «норовя Феодосию, архимандриту печерскому, по дружбе и посулам, опять отдали толконцевский монастырь печерскому» [191]. (Кузьма Минин – тот самый, русский национальный герой, организатор Земского ополчения).
В руках церкви и монастырей были, конечно же, не только земли, села, деревни и, попавшие в зависимость, люди. Христианствующая братия занимались абсолютно всем, что приносило деньги: обзаводилась промысловыми хозяйствами – варкой пива, виноделием, торговлей, ростовщичеством, добычей соли, рыболовством, звероловством, гостиничным бизнесом… И неизменно – рэкетом.
О последнем, как о явлении совершенно обычном, писал и Александр Матвеевич Лазаревский (1834–1902), украинский историк в своих «Очерках из быта Малороссии XVIII века»: «…у нас не мало под рукою фактов о том, как монахи, не прибегая к составлению подложных актов, отнимали у владельцев подлинники, чтобы вместе с ними завладеть и имуществом, которое значилось в актах» [192].
Ну, чем не бандитская, криминальная Россия 90-х годов XX-века?! Причем, вышеописанный случай – не эксцесс, а повседневность, бытовуха, так сказать. Еще пример: монах изнасиловал крестьянку – чужую жену, затем – повторно, и когда заявился в третий раз, да еще ночью, то столкнулся в доме с ее мужем. В результате, «чернец мужа ее пришиб до смерти и, выкопав в хате же яму, зарыл туда мужа, а ей велел никому о том не объявлять» [193].
А вот еще один фрагмент рассказа Тулиголовского священника Петра Вышинского, взятого А.М. Лазаревским из жалобы, поданной на имя императрицы Анны Иоанновны: «Улановский городничий, узнав что я выехал из дому, собрал человек сорок с киями и против ночи 30 декабря обступил кругом мой двор; а монах Иродион, разбудивши жену мою и отняв у нее ключи, искал везде крепостей моих грунтовых и найдя, позабирал, да в ту же ночь и повез их в Чернигов; а караул до утра стоял около моего двора. Собравшись выезжать из Чернигова, я был внезапно, по старательству приехавшего Иродиона, взят под караул; и здесь принуждали меня монахи сначала словесно уступить на архиерейскую кафедру все мои грунта с двором и мельницею, а самому мне жить из приходских доходов: а потом нещадно били канчуками, убеждая без спору отписать грунта мои на «катедру»: но я не согласился, и за то Иродион, стоя над гайдуками, бившими меня, кричал им бить сильнее; только я не согласился. И забивши меня потом в кандалы и цепь железную на шею надевши, бросили в тюрьму: и мучили меня и в тюрьме, и в пекарне, а городничий Изосим, узнав, что я закован в тюрьме, снова собрал человек сорок народу и вместе с монахами, Федосием и Гедеоном, вконец разорили мой двор, жену выгнали и всем имуществом моим завладели» [194].
И ведь подобным промышляла не только «отмороженная» чернь: «Из Тотемского уезда, например, дали знать, что там появились разбойники; в разбоях участвовал и грабежную рухлядь укрывал строитель Тафтенской пустыни, старец Ферапонт» [195].
Монахи с помощью грубой физической силы отнимали имущество и документы на имущество, грабили, насиловали женщин, терроризировали местное население, избивали трактирщиков, когда те отказывались выставить хмельное в долг… И было это – повсеместно!? И подобное вытворялось не только на Руси. Монастырь он и в Африке монастырь. Вспомним еще раз того же настоятеля-садиста Трансмунда из Тремити: вырывал монахам и монахиням глаза, отрезал языки и уши, отрубал кисти рук, забивал насмерть розгами, ремнями, бичами…
А кого бояться, если поживодерничать очень уж хочется? Да и кто с укоризной выступит или же заступиться за «брата во Христе», если по Уставу преподобного Венедикта (гл. 69-я) монахам подобное было вообще запрещено: «В монастыре никто другого защищать не должен. Всячески надобно остерегаться, чтоб ни в каком случае один другого монаха не защищал в монастыре, хотя бы они связаны были узами родства. Ни под каким видом не должно дерзать на это монахам; потому что от этого могут происходить больные соблазны. Если кто преступить это правило, то его надо очень строго вразумить» [196].
И ведь жертвами патологических живодеров были не только простые монахи и монахини – и игуменов, и священников не миновали участи. Как тут не вспомнить изувера, ярославского митрополита Арсения (Мацеевич), «который страшно истязал священников в подвалах своего дома [197], и который, занимая должность инквизитора в Московской епархии, «пытал ярославского игумена Трифона, старца 85 лет, и пытал до того, что Трифон умер» [198]. Пришло время, и митрополит Арсений при соучастии в том императрицы Екатерины II и Святейшего синода, был все же лишен сана, а затем, расстрижен из монашества в крестьяне под именем Андрея Враля. И в 1772 году принял смерть в заточении в Ревельской крепости. Но! – о времена, о нравы! – в 2000 году Русской православной церковью он был прославлен в лике святых, как священномученик!?
При этом садисты хорошо понимали, что их произвол ничем и никем не ограничен. Да и что там – вырванный глаз, если по отмашке Папы Римского по всей Европе ежедневно на кострах заживо сжигали людей? И даже в России: по решению церковного Собора 1504 года в Москве в клетках были сожжены заживо дьяк Иван Волк Курицын, Димитрий Коноплев и Иван Максимов. Их единомышленнику Ивану Некрасу Рукавову сначала отрезали язык, затем отправили в Новгород, где и сожгли. Той же зимой были сожжены архимандрит Юрьевского монастыря Кассиан, его брат Иван Самочерный, Гридя Квашня, Митя Пустоселов и другие инакомыслящие [199].
Сожгли заживо, защищая, якобы, учение Иисуса Христа?!.. А в том ли оно, учение, чтоб сжигать заблудших овец Божьего стада?
Да, мы знаем, мы помним, сказанное Иисусом: «…кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской» (Мф. 18:6), но ведь не сказал же Иисус: «Ступайте и – потопите его»?! Более того, когда Петр, не сразу уразумевший суть принципов смирения, терпимости и неосуждения, «приступил к Нему и сказал: Господи! сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? до семи ли раз?» – каков был ответ Иисуса? Ответ был совершенно ясен и прост: «…не говорю тебе: до семи, но до седмижды семидесяти раз» (Мф. 18:21–22).
Мы знаем – одно дело треп промеж собой за чашкой чая, и совсем иное дело, когда вдруг возникает конкретная жизненная ситуация, проверяющая на прочность принципы, которые ты изрекал намедни. Вспомним, сколько раз мы удрученно разводили руками и оправдывались: «Ну, понимаешь ли, так уж там сложились обстоятельства»?
Обстоятельства сложились – Иисус на Кресте. И что? А Он и на Кресте остался все тем же, кем был вдали от Голгофы. О тех, которые плевали на Него, насмехались над Ним, «взяв трость, били Его по голове», пронзали Его плоть железными гвоздями, а затем, грубо рванув Крест, воткнули Крест в вырытую яму, – а ведь каждое движение мигом отдавалось нестерпимой болью в теле Божьего Сына… Что сказал Он? Проклял? Изругал? Осудил? Нет, Он лишь с великим сожалением промолвил: «Отче! прости им, ибо не знают, что делают» (Лк. 23:34).
«Прости им…»… Вот это и есть – истинное христианство! Простить не только, когда кто-то в пику догматам высказал собственное мнение, но даже и когда позволил себе побогохульствовать, и даже, когда гвозди…
Адам и Ева – первые еретики. Они отвергли заповеданное. Но ведь Господь не устроил аутодафе. Он предоставил им право в поте лица своего есть свой хлеб доколе не возвратятся в землю, из которой они были взяты…
Апостолы, а за ними уже по традиции апологеты и прозелиты, мнящие себя христианами, стали заложниками набора утверждений, взятых с потолка, и положенных в основу со статусом аксиом, заложниками пресуппозиций, на которых и была построена теология, ритуалика, церковная архитектоника…
Отрицая этику Христа, Его учение о равенстве, любви и частной собственности, и включив алкоголь, как компонент в Святые Дары, церковники, детерминированные собственной догматикой, просто не могли не погрузиться в тот липкий мрак бездуховности, в который они погрузились, и который вот уже два тысячелетия направляет их стопы по пути лжи, стяжания, нетрезвости, стремления к господству, а значит, и к подавлению своих ближних.
Сущность иерархии – господство одних над другими, оказание давления вышестоящих на ниженаходящихся. Иерархия – такова ее природа – не может существовать без таких факторов, как давление и господство. Те, кто господствует и давит, не может любить тех, кого они давят и над кем господствуют. В свою очередь давимые не могут любить тех, кто над ними. И нет, и не может быть в этой системе и тени христианской любви. Раб не способен любить своего господина, как и господин не способен любить своего раба. Ибо они не равны друг другу. Любовь возможна только между равными, но – разными. Любовь существует до тех пор, пока люди остаются разными, но равными.
Так устроен мир…
Вернемся к тезису, о котором мы заявили в самом начале наших рассуждений: ошибочно ли, в угоду ли своим алкогольным пристрастиям или же сообразуясь с волей виноделов и виноторговцев, но определенная часть из первых христиан, движение которых до середины II века считалось одним из направлений иудаизма, настаивала на том, что Святые Дары должны содержать непременно квасной хлеб и непременно забродивший виноградный сок. И вот эта-то роковая установка, не имеющая под собой, как выше мы уже говорили, ни малейших оснований ни в том, чему учил Иисус Христос, ни в том, что происходило при его непосредственном соучастии, и сформировала проалкогольную позицию церкви: церковники оказались вынужденными утверждать, будто бы вино – это дар Божий, а, соответственно, и всячески оправдывать винопитие.
И не только его. Церковь, отвергшая принцип равенства, и обожествившая главенство одних людей над другими – «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога» (Рим. 13:1), – соответственно, и сама встала на сторону представителей власти, олицетворяющих собою государство, а «государство, – как писал великий немецкий мыслитель К. Маркс, – в целом является лишь выражением, в концентрированной форме, экономических потребностей класса, господствующего в производстве» [200]. Экономическое же господство – классовое господство, как нам хорошо известно, во все времена осуществлялось на основании обладания собственностью. Следовательно, церковь встала, вместе с тем, еще и на сторону собственников, т. е. стяжателей. При этом, мы вполне допускаем, что не так уж она и сразу встала не на ту сторону, где Иисус, и что долгое время церковь настырно дрейфовала к черте непозволительного, но – неосязаемо, неосознаваемо, и что ее многочисленные пастыри, в постыдное лукавство впавшие под влиянием на нужный лад толкующих Библию, ничуть при этом не мучились, не будучи распятыми евангельским утверждением «Не можете служить Богу и маммоне» (Лук. 16:13). Мы многое можем допустить, и многое добавить в оправдание – не в свое, но тех, кто отверг заповедь нестяжания. Например, почему бы не констатировать очевидное: церковные пастыри – тоже ж люди, коим ничто человеческое не чуждо – всхотелось и им кормиться, и бытийствовать подобно сытенькой иудео-жреческой обслуге кровавого культа Иеговы. И ведь не долго эти их желания оставались неутоленными…
Более того, то ли от избытка бесперебойной сытости, то ли от жажды новых ощущений, но церковь, из столетия в столетие утверждавшая, что «нет власти не от Бога», начала вдруг прошибать, вколачивать в мир идей, бытующих в обществе, представление о том, что коль священники – наместники Бога на Земле, поставлены тут, можно сказать, самим Иисусом, то и «на епископа должно смотреть, как на самого Господа», а поскольку Царство Иисуса еще и не от мира сего, то и церковь нипочем не обязана подчиняться земным царям, законам и традициям.
Первые серьезные распри на Руси между церковью и светской властью случились, очевидно, при Иване III, когда простое административно-территориальное управленчество стало обретать признаки государства.
В данном месте наших размышлений, я полагаю, есть надобность еще раз высказаться по поводу времени образования государства, т. к. в свете нашей темы данный вопрос имеет не декоративный – принципиальный характер, а историки единообразием мнений не страдают.
Существует представление, согласно которому начало русской государственности надлежит вести не иначе, как с 862 г. И, очевидно, дабы отбить охоту сомневаться в данной точке зрения, в 1862 г. в Великом Новгороде был даже воздвигнут монументище «Тысячелетие России». «В честь тысячелетнего юбилея легендарного призвания варягов на Русь», – как утверждает всезнающая Википедия.
Ну, будем все же точны: Русь на тот момент вообще еще не существовала. Послушаем, что говорит об этом «Повесть временных лет»: «И сказали себе: «Поищем себе князя, который бы владел нами и судил по праву». И пошли за море к варягам, к руси. Те варяги назывались русью, как другие называются шведы, а иные норманны и англы, а еще иные готландцы, – вот так и эти прозывались. Сказали руси чудь, славяне, кривичи и весь: «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами». И избрались трое братьев со своими родами, и взяли с собой всю русь, и пришли и сел старший, Рюрик, в Новгороде, а другой, Синеус, – на Белоозере, а третий, Трувор, – в Изборске. И от тех варягов прозвалась Русская земля». [201]. Через пару лет Синеус и Трувор – младшие братья Рюрика, живущие в разных городах, умерли в один год…
Таким образом, изначально Русской землей – Русью, называлась территория и союзплемён, в который входили: пришлое варяжское племя русь, и племена аборигенов – славяне, весь, чудь и кривичи. И ни о каком государстве тут и речи нет. Есть лишь приглашенный, нанятый на службу, временно исполняющий обязанности менеджера и координатора Рюрик, этнически относящийся к славянам и говорящий на славянском языке, – как утверждал летописец, монах Киево-Печерского монастыря Нестор. (Летописец выразил свою мысль совершенно ясно, а значит, и нет никакого основания для того чтобы пытаться породнить Рюрика со скандинавами. Рюрик – славянин!). И поэтому совершенно прав был историк Н.И. Костомаров: «В период от прибытия Рюрика до Владимира напрасно искать зачатков государства» [202]. Но ведь и во времена князя Владимира «напрасно искать зачатки государства», если, конечно, в свой понятийный багаж включить блестящую формулировку, которую дал в свое время выдающийся немецкий философ и политический деятель Ф. Энгельс: «…государство – это организация имущего класса для защиты его от неимущего» [203]. Классов же, как известно, в X веке на Руси еще не было. Соответственно, не было еще и столь нестерпимого экономического неравенства, которое было бы способно породить стойкое социальное напряжение, раздуть жажду справедливости и сформировать в обществе нужду грабить награбленное. В X веке князь все еще оставался выразителем интересов населения, был тем, кого население само ставило (приглашало) для управления обществом и для защиты от внешних угроз.
Конечно, вполне можно понять, как впавших в надобность гордиться древностью русского государства, так и тех, кого угораздило оказаться в числе сторонников камуфляжа классовых противоречий, сторонников отрицания существующих в социуме антагонистических интересов, особенно существующих в наше время. И первые, и вторые так и норовят внедрить в информационное поле такое понятие о государстве – индифферентное и абстрактное – которое ничуть бы не напрягало, прежде всего, тех, в чьих руках оно, это самое государство и находится. С другой же стороны, даже представитель олигархата – В.В. Путин счел для себя возможным поддержать марксистско-ленинскую трактовку: «Государство – это, прежде всего, аппарат принуждения» [204].
Аппарат принуждения – продукт существующего экономического неравенства, плод конфликта интересов между имущими и неимущими. Например, между крупными землевладельцами и безземельным крестьянством. Но в период княжения Владимира I на Руси еще не было феодалов, не было класса нуждающихся в защите своей собственности от посягательств со стороны соплеменников. И при этом важно понимать, что государство возникло не до феодализма и не после, а вместе с ним, и не государство создало феодалов, а феодалы создали для своих нужд государство.
Впрочем, дело не только в том, что на Руси в X веке еще не сформировался заказчик на создание аппарата насилия, выразитель потребности в государственной защите. Иным пишущим на историческую тему, представляется дело так, что если есть население и князь, то это и есть – государство. Видимо, подобным образом представлял себе суть дела и выдающийся русский филолог, лингвист А.А. Шахматов (1864–1920). В своей известной работе «Введение в курс истории русского языка» он писал: «Русью стало называться основанное Варягами в Киеве государство» [205].
Ну, во-первых, совершенно непонятно, почему государство вдруг – в Киеве, если Рюрик сел княжить в Новгороде. Во-вторых, если государство основали Варяги, то как понимать утверждение, сделанное нашим уважаемым лингвистом там же и через три страницы: «Владимир был настоящим основателем Русского государства»?
Так кто же все же был основателем – Варяги или Владимир?
Еще большее недоумение вызывают утверждения, которые сделал историк А.Н. Сахаров, ибо он свидетельством наличия государственности считает… интервенцию (?!): «К IX в. относится несколько исторически четких упоминаний о наличии на Руси государственных образований. Это нападение русских войск на Византию в начале и в 30-е гг. IX в. <…> Однако наиболее впечатляющим фактом русской, восточнославянской государственности стало нападение войска руссов-славян 18 июня 860 г. на столицу Византии» [206].
Нападение – разбой и грабеж, как свидетельство… государственности?!..
Причем, ведь не просто разбой и грабеж, но в самом наиподлейшем виде, поскольку нападение было осуществлено в тот момент, когда византийский император Михаил III, находящийся в состоянии войны с арабами, во главе армии покинул Константинополь для вторжения на территорию халифата Аббасидов. Город, соответственно, был почти беззащитен. И тут орда киевских головорезов, ведомая боярином Аскольдом, так и не рискнув пойти на приступ самого города, ограничилась опустошением окрестностей, перебив при этом множество безоружных, разбегающихся в панике, людей.
Архиепископ Константинопольский Фотий – видный церковный и политический деятель IX столетия, богослов и писатель, в своей проповеди – гомилии – «На нашествие росов» говорил о произошедшем так: «…не щадя ни человека, ни скота, не стесняясь немощи женского пола, не смущаясь нежностью младенцев, не стыдясь седин стариков, не смягчаясь ничем из того, что обычно смущает людей, даже дошедших до озверения, но дерзая пронзать мечом всякий возраст и всякую природу. Можно было видеть младенцев, отторгаемых ими от сосцов и молока, а заодно и от жизни, и их бесхитростный гроб – о горе! – скалы, о которые они разбивались; матерей, рыдающих от горя и закалываемых рядом с новорожденными, судорожно испускающими последний вздох…» [207].
Напомню, что профессор, член-корреспондент РАН А.Н. Сахаров этот позорнейший «поход», а, следовательно, и все эти зверства, в том числе, о скалы разбитые головы младенцев, назвал «впечатляющим фактом русской, восточнославянской государственности»! Впрочем, быть может он и прав по-своему, и уж, что совершенно точно, не одинок в своем мнении: ведь оценили же «деяния» такого «государственника», как Иван IV – поставили ему 14 октября 2016 года на набережной близ Богоявленского собора в Орле очень даже не плюгавый памятник! И 72 % орловчан создание этого сооружения в их городе, воздвигаемого в честь лютого маньяка, самодура-садиста, поддержали!?
Это что же – опять «умом Россию не понять»?..
В 879 году скончался князь Рюрик. И регентом при его малолетнем сыне – князе Игоре, а, вместе с тем, и новгородским князем, стал сородич Рюрика – Олег. И в этом же году то ли овладела вдруг князем Олегом «охота к перемене мест», то ли обуяла жажда развлечений и приключений… Так или иначе, но оказался он под Киевом. И убил, конечно, не без хитрости и подло, вдохновителя вышеописанной константинопольской резни – Аскольда, киевского правителя.
Далее, захватив Киев, осмотревшись и оценив достоинства новых мест, князь Олег принял решение перенести «столицу» Русской земли из Новгорода, стоящего средь смердящих, гиблых болот, в Киев, разместившийся на возвышенности, на берегу красавицы реки. «И сел Олег, княжа, в Киеве, – как нам сообщает «Повесть временных лет», – и сказал Олег: «Да будет матерью городам русским».
В общем, летописная фраза есть, и она так пришлась по вкусу некоторым историкам, что они порешили объявить князя Олега не иначе, как «основателем Древнерусского государства». И объявили. «Но, – как пишет историк И.Я. Фроянов, – такого государства тогда не было (выделено мной. – Е.Б.). Оно существует в воображении историков, которым кажется, что Олег объединил Новгород с Киевом и основал обширное государство. Трезвый и объективный анализ исторических фактов развевает мираж, под влиянием которого находились и находятся многие историки. В лучшем случае можно говорить об установлении союзнических отношений между северными племенами во главе со словенами и Русской землей, где главенствовали поляне, причем о таких союзнических отношениях, которые строились на принципах равенства, а не зависимости от Киева» [208].
Похоже, что некоторым исследователям далекого прошлого либо очень уж хочется, исходя из неких, возможно патриотических позывов, непременно удревнить русское государство, либо просто недосуг принимать в расчет то, что община восточных славян IX века, живущая в условиях родоплеменного строя, как и орда варваров, и первобытное племя, и простое скопище людей, которое именует себя Запорожская Сечь, проживающее оседло, и под началом князя, вождя, бигмена, атамана, пахана – это еще не государство. Государство возникает только там и тогда, когда экономическиеинтересы людей, настоятельно требуют создания аппарата власти, отчужденного от общества и находящегося в руках господствующего класса… Там, где общество не разделено на противостоящие друг другу массы людей, там нет ни государства, ни надобности в оном.
Конечно, хорошо, когда о государстве размышляют лингвисты, филологи, историки… Но все же нужно бы при этом и всем им, и всем нам сверять свои размышления с тем, что выработали специалисты – политически и юридически образованные люди. Известно, что для профана все, что не в согласии с его мнением, то и – бред. Но только специалист – психиатр способен определить звучащее как бред, возникший на патологической основе, и отличить его от простой бессмысленной речи, и от выводов, сделанных без должной на то основы и не поддающихся коррекции извне, порожденных простым самомнением и неученостью.
Что же говорят специалисты о государстве?
А они, кроме блестящих формулировок – определений, дают еще и признаки того, что есть государство.
Например, почти сто лет тому назад Конвенция о правах и обязанностях государств (г. Монтевидео, 26 декабря 1933 г., VII Панамериканская конференция), определила, что государство, как субъект международного права, должно обладать следующими признаками:
– постоянное население;
– определенная территория;
– правительство; и
– способность к вступлению в отношения с другими государствами.



