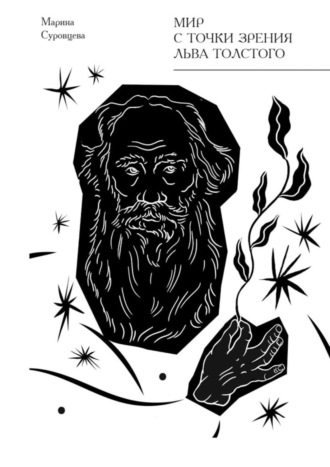
Полная версия
Мир с точки зрения Льва Толстого
Объясняет, как противостоять страстям, конфуцианское «учение середины», на которое Толстой обратил особое внимание, написав небольшую статью под названием «Учение середины» (она сохранилась в его бумагах как необработанный черновик). Передавая главную мысль Конфуция о том, что такое середина, Толстой пишет: «В то время, когда человек находится вне влияния удовольствия, досады, горя, радости, он находится в состоянии равновесия и в этом состоянии может познать самого себя. <…> Внутреннее равновесие есть тот корень, из которого вытекают все добрые человеческие деяния; согласие же есть всемирный закон всех человеческих деяний» (54, 58).
Вот как излагает Толстой «великую науку» Конфуция в маленькой статье «Великая наука»: «Чтобы обладать высшим благом, нужно: 1) чтобы было благоустройство во всем народе. Для того, чтобы было благоустройство во всем народе, нужно: 2) чтобы было благоустройство в семье. Для того, чтобы было благоустройство в семье, нужно: 3) чтобы было благоустройство в самом себе. Для того, чтобы было благоустройство в самом себе, нужно: 4) чтобы сердце было исправлено («Ибо где будет сокровище ваше, там будет и сердце ваше»). Для того, чтобы сердце было чисто, исправлено, нужна: 5) сознательность мысли. Для того, чтобы была сознательность мысли, нужна: 6) высшая степень знания. Для того, чтобы была высшая степень знания, нужно: 7) изучение самого себя» (54, 55—56). В чем цель этой великой науки, Толстой определяет так: «Истинное (великое) учение научает людей высшему добру – обновлению людей и пребыванию в этом состоянии». Обе статьи, «Великая наука и «Учение середины», под названием «Изложение китайского учения» вошли как предисловие в брошюру друга Толстого П. А. Буланже «Жизнь и учение Конфуция» (1910), которая была составлена на основе черновых бумаг писателя.
Идеи Конфуция и Лао-цзы Толстой нашел во всех религиях мира и в некоторых философских системах, считая, что все они учат одному и тому же – главной науке, как жить. Поэтому, проповедуя свое учение, Толстой перечисляет всегда имена тех, кого он считает своими единомышленниками, и среди них мы прежде всего видим имена Конфуция и Лао-цзы.
***
Интересно, что Толстой не ограничился знакомством с учениями двух самых известных и значительных древнекитайских философов – его внимание привлекли еще два имени: Мо-цзы, которого он называл то Мо-ди, то Ми-ти (звучание китайских слов было чуждо русскому уху), и Мэн-цзы (у Толстого – Ментце или Менций).
Мо-цзы в начале жизни осваивал учение Конфуция, но позднее стал решительным противником конфуцианства, хотя самого Конфуция продолжал ценить и уважать. Причина их идейного расхождения заключалась в том, что основная мысль философии Мо-цзы – «всеобщая любовь», то есть отвлеченная любовь всех ко всем – диаметрально противостояла конфуцианским принципам гуманности. В противовес Конфуцию, утверждавшему необходимость строгой иерархии во взаимоотношениях людей в семье, обществе и государстве, Мо-цзы подчеркивал идею равенства всех перед Небом, братства людей и народов, основанного на их взаимной любви, – именно эта идея в его учении была более всего близка Толстому. В письме к В. Г. Черткову от 15 марта 1890 года Толстой пишет, что хотел бы «составить книгу, в которой показать, что учение любви – как самое удобное (утилитарное) учение – предлагалось еще вот когда и у китайцев и очень плохо опровергнуто и имело большую силу, учение земное утилитарное, без понятия об Отце и, главное, о жизни, т.е. о жизни вечной. Очень бы хорошо было» (87, 19).
Говоря в этом письме о том, что учение любви было «очень плохо опровергнуто», Толстой имел в виду отрицание идеи необходимости братской любви между людьми другим крупным философом того же времени – Мэн-цзы, который был наиболее известным последователем конфуцианства. Идея братской любви людей друг к другу была одной из главных и дорогих Толстому в его мировоззрении, поэтому писатель отнесся отрицательно к учению конфуцианцев (в данном случае Конфуция и Мэн-цзы), которое проповедовало необходимость следования иерархическому принципу в отношениях между людьми и в построении государства. Замечание Мэн-цзы, что управление государством должно быть гуманным, не удовлетворило Толстого.
Однако Толстой высоко оценил столь же близкую ему (как и учение о братской любви) идею Мэн-цзы о необходимости самосовершенствования. В отличие от Толстого, утверждавшего, что человек по своей природе добр, Мэн-цзы придерживался той точки зрения, что, обладая врожденным знанием добра и способностью творить его, человек в течение своей жизни постоянно совершает ошибки, и результатом этого становится зло. Чтобы восстановить в себе первоначальную, но утраченную доброту, необходимо заниматься самосовершенствованием. Тем самым Мо-цзы утверждал, что жизнь человека определяется не каким-то верховным существом, не судьбой, а только его собственными действиями, и это было свидетельством того, что учение Мо-цзы имело ярко выраженный земной, утилитарный характер, к тому же демократический, основанный на идеях равенства и взаимного уважения.
Изучая китайскую философскую мысль, Толстой постоянно делился своими знаниями с читателем не только в письмах, дневниках (для близких и друзей), но и в небольших книжечках, где он в краткой, афористичной форме излагал те оригинальные идеи восточных философов, которые особенно поразили его тем, что оказались близки его собственным взглядам на мир. Книжечки эти предназначались для народа и издавались в издательстве «Посредник» в течение нескольких последних лет жизни Толстого: «Мысли мудрых людей» (1903); «Круг чтения» (1904—1908); «На каждый день» (1906); «Для души» (1909); «Путь жизни» (1910).
1 Маковицкий Д. П. У Толстого. 1904—1910. Яснополянские записки. В 4 т. / Литературное наследство. Т. 90. М.: Наука, 1981. В дальнейшем цитаты из этого издания даются в тексте так: ЯПЗ, номер тома, страница.
2 Все эти сведения можно найти в солидном исследовании А. И. Шифмана «Лев Толстой и Восток» (М.: «Наука», 1971).
3 См. сборник «Дао и даосизм в Китае». М.: Наука, 1982; Торчинов Е. А. Даосизм. СПб, 1998; Лисевич И. С. Лао-цзы «Книга Пути и Благодати «Дао-дэ-цзин». М.: Мусагет, 1994.
4 Речь идет о переводе и комментариях И. С. Лисевича (см. примечание 5).
5 Торчинов Е. А. Даосизм. Пути обретения бессмертия. СПб.: Азбука-Классика. С. 124—125.
6 Шифман. Лев Толстой и Восток. С. 54.
.
Философские, политические и социальные прозрения Толстого
Мировоззрение Толстого к концу его жизни представляло систему взглядов, логически связанных между собой. В центре этой системы находились духовные ценности (прежде всего нравственные), которые определяли отношение писателя к мироустройству с разных точек зрения: метафизической, социальной, политической. Хотя Толстой называл себя человеком религиозным, его представление о Боге не соответствовало учению ортодоксальной христианской церкви. «Бог есть неограниченное Всё, человек есть ограниченное проявление Его», – так за несколько дней до смерти он кратко и четко сформулировал итог своих многолетних размышлений о понятии, которое с молодых лет представлялось ему основополагающим (58, 234). Именно с Богом Толстой связывал надежды на нахождение истоков морального чувства, присущего человеку, смысла и цели его жизни, а также счастливого будущего человечества. Эта формулировка является концентрированным представлением писателя о Боге как Космосе с его непреложными законами, которым, в частности, подчиняется и человек – его физическая и духовная жизнь. Однако современники не приняли такого толстовского определения понятия «Бог» – Бердяев по этому поводу заметил, что «нельзя назвать Богом безликий закон жизни». Для Толстого основой его определения Бога было признание метафизического происхождения морали, того закона добра, который он считал главным для выживания человечества, – по его мнению, любая попытка пойти против законов природы неизбежно грозила бы людям гибелью. 1
Из этой основной посылки логически вытекает толстовская идея «неделания», подтверждение которой писатель нашел к концу жизни в древней китайской и индийской философии. Однако для Толстого идея «неделания» сводилась отнюдь не к пассивному погружению в себя и отречению от реальности. Он понимал «неделание», с одной стороны, как ненасилие, с другой – как необходимость обретения человеком активного чувства – любви, то есть того, что способно, по его мнению, объединить людей в единое сообщество, которое представлялось писателю идеальным будущим для человечества.
Итак: идея единства мира; представление о Боге как непознаваемом источнике законов Вселенной и человеческой морали как о космическом законе; идея «неделания» как следование законам природы и отсюда неприятие формы государства-агрессора, подчиняющего человека своей власти и лишающего свободы выбора; необходимость слияния в единое целое с природой и потому отрицательное отношение к техническому прогрессу – такова толстовская система взглядов, которая тщательно изучалась на протяжении более ста лет и многими признавалась противоречивой. Социальными идеями писателя еще при его жизни одни восхищались и пытались воплотить их в жизнь (толстовцы), другие их высмеивали. Впоследствии (на рубеже веков, а потом и в советское время) философские воззрения Толстого подвергались критике (взгляды писателя расценивались исключительно как христианские и в связи с этим были неприемлемы для господствующей идеологии), однако востребована была народность толстовского художественного творчества.
А что можно сказать о философских идеях Толстого сегодня: устарели ли они или являются прозрениями великого писателя-моралиста, предостерегавшего человечество от пагубного для него пути развития? Нуждаются ли современные люди в том, чтобы понимать смысл своего существования? Должны ли они понимать и любить «другого» или необходимость постоянной конкуренции сделала невостребованной христианскую «любовь к ближнему»? Сейчас стало заметно, что эти вопросы стали все чаще привлекать к себе внимание мыслящих людей искусства, профессиональных философов и писателей. В связи с этим я хотела бы обратить внимание на несколько книг, сравнительно недавно вышедших из печати, где их авторы пытаются дать свой ответ на эти вопросы. Знакомясь с их концепцией современного состояния человеческого сообщества, мы можем проследить в этих книгах подтверждение и развитие основополагающих идей позднего Толстого.
Прежде всего мне хотелось бы привлечь внимание к книге «Великое культурное одичание», автором которой является известный современный композитор Владимир Дашкевич – она вышла в Москве в 2013 году. В этом фолианте объемом в 700 страниц перед читателем предстает история эволюции человечества как особого биологического вида, отличающего его от животных, прежде всего тем, что люди наделены мозгом, продуктом которого является разум. Именно благодаря разуму этот вид, в отличие от других видов живой природы, способен к развитию – человечество в своей истории проходит разные этапы эволюции и за это время изменяет вокруг себя среду обитания, приспосабливая ее к своим растущим потребностям, и среду общения внутри своего сообщества. Дашкевич рассматривает человечество как единство, утверждая, что, по данным современной биологии, генотипы людей разных рас и народностей не отличаются друг от друга. 2
Признавая главной движущей силой развития человечества информацию, которую оно научилось постоянно получать, передавать, накапливать и перерабатывать с тех пор, как вышло из животного состояния, автор сравнивает эволюцию с работой кибернетической машины (не забыв уточнить, что основатель кибернетики Винер не делал различия между живыми и неживыми системами). Дашкевич анализирует четыре большие эпохи эволюции, которые прошел человек с того времени, как он стал мыслящим существом: Кочевье, Оседлость, Культура и Цивилизация, в конце которой мы находимся сейчас. При этом автор подчеркивает, что его взгляд – это взгляд художника и он производит арт-анализ, который использует преимущества художника как наблюдателя. По мнению Дашкевича, именно в психике художника сбалансированы сознание и подсознание, которые представляют интересы и отдельной личности, и всего народа. К концу каждой эволюционной эпохи, как он считает, баланс этот обычно нарушается, и сейчас мы находимся в том периоде эволюции, когда интересы личности сильно перевешивают интересы человеческих сообществ – и народов, и всего человечества. То, что эгоизм преобладает над альтруизмом, чрезвычайно опасно для всего человеческого вида, подчеркивает автор, так как грозит ему вырождением и гибелью, потому что нарушение баланса интересов «я» и «мы» ведет к энтропии, в то время как сбалансированность создает порядок, способствующий выживанию. Порядок Дашкевич определяет как Добро, энтропию – как Зло. Так движение его мысли подводит читателя к утверждению не только объективного существования Добра и Зла, но и приоритетности Добра над Злом, что необходимо для установления порядка не только в материальном, но и в духовном мире людей, без которого человечеству не представляется возможным составить программу выживаемости своего вида. В дальнейшем автор подводит нас к выводу о том, что конкретным добром, способствующим выживанию человечества, является энергия любви. При этом он утверждает, что энергия агрессии, свойственной человечеству как биологическому виду, в определенных условиях может трансформироваться в энергию любви – сила этих энергий равновелика. Условиями же для трансформации ненависти в любовь являются для каждого человека соблюдение моральных норм и самосовершенствование. Соблюдать эти нормы особенно актуально сейчас, когда, как утверждает автор, человеческие души охватило «великое культурное одичание».
Процессы, наблюдаемые нами во многих странах сегодня – в частности, увеличение агрессии во всем мире вследствие пренебрежения моральными нормами, которые рассматриваются большинством как устаревшие, – очень похожи на те, что происходили в мире на рубеже веков, во времена позднего Толстого; и условия, необходимые для выживания человечества, писатель называл те же самые, что и Дашкевич в наши дни: необходимость взаимной братской любви между людьми, самосовершенствование, соблюдение моральных норм, служение добру, а также понимания смысла своей жизни.
На рубеже веков современники не раз упрекали писателя в чрезмерном морализме – в те годы христианская мораль постепенно разрушалась, с одной стороны, философией Ницше, с другой – экономическими процессами, утверждавшими интересы индивида-капиталиста. А в двадцатом веке мораль, можно сказать, почти совсем «вышла из моды». Вера в Бога постепенно переставала быть частью духовной жизни, и мыслящих людей охватила экзистенциальная тоска от чувства бессмысленности существования. Идея необходимости взаимной братской любви между людьми стала неактуальна, не говоря уже о том, что у рядового человека вообще постепенно исчезал всякий интерес к «другому». Однако сегодня, особенно в культурной среде, все больше нарастает беспокойство из-за неспособности человечества жить в мире с себе подобными, поэтому книга Дашкевича не единственная в ряду философских книг и статей, где авторы высказывают свою озабоченность сложившейся ситуацией.
Так, в 2014 году вышла довольно большая по размеру книга под названием «Мораль XXI века» нашего современника, чилийского писателя и философа Дарио Саласа Соммэра, проявляющего большой интерес к русской культуре, особенно к творчеству Толстого, Циолковского, Вернадского. Толстовские идеи в его книге получили новое развитие и подтверждение. Так, определяя с современной точки зрения мораль как объективную реальность, основанную на законах квантовой физики, Соммэр, как и Толстой, утверждает, что «истинные правила поведения никем не выдуманы – они записаны в памяти природы и доступ к ним можно получить только в состоянии высшего сознания». Эта мысль сегодня звучит совершенно по-толстовски. Сознание же это достигается человеком путем самосовершенствования, основанного на добровольном принятии ценностей. 3 4
Особое внимание Соммэр уделяет необходимости сделать из «незавершенного человека», каким он является сейчас, полноценного. По его мнению, истинная цель жизни – это эволюция индивидуального сознания, причем каждый должен сам работать над собой, добиваясь совершенства, чтобы стать человеком «завершенным». По Соммэру, цель жизни – продвижение человечества вверх по лестнице эволюции. Толстой тоже говорил о необходимости самосовершенствования каждого отдельного человека, но цель жизни была для него более широким понятием – он мечтал о счастье и благоденствии всего человечества.
В 2014 году переиздана (ввиду ее актуальности в наши дни) еще одна небольшая книжка под названием «Страдания от бессмысленности жизни», написанная в 30-х годах прошлого века знаменитым австрийским психиатром Виктором Эмилем Франклем, чью первую научную работу впервые опубликовал Фрейд (сам Франкль последователем Фрейда не был). Книга эта имеет прямое отношение к теме, которая всю жизнь была главной для Толстого, – она посвящена смыслу жизни. Франкль подходит к ее освещению как врач: он создал свою методику лечения депрессий тех больных, которые не видели смысла в своей жизни и собирались покончить самоубийством. Отсутствие смысла – мучительное состояние, и Франкль работал с больными, убеждая их, что, бесспорно, смысл есть и главное заключается в том, что «нельзя придать жизни смысл – его надо найти». Процесс нахождения смысла, по мнению Франкля, это прежде всего процесс познания самого себя, своих несовершенств и ошибок. Разбираясь в себе, человек обнаруживает, что не знает своего жизненного призвания, хотя чувствует, что стремится выйти за пределы своей личности и тянется к чему-то большему, что нужно исполнить. При этом чем меньше человек сосредоточен на себе и чем сильнее отдается своему делу или любви к ближнему, тем больше в нем человечности и тем ближе он к самому себе, утверждает Франкль: «Именно тот, кто пытается выбраться из смуты отчаянья и избавиться от иллюзорного ощущения бессмыслицы жизни, призван ценой своих страданий помочь человечеству», – пишет он. Мы знаем, что подобный опыт душевных страданий, описанных Толстым в его «Записках сумасшедшего» и в «Исповеди», сделал писателя в мнении современников великим учителем жизни. 5 6 7
Сходную трактовку смысла жизни человека мы можем найти также в книге «Духовная ситуация времени», написанной знаменитым немецким философом Карлом Ясперсом в середине ХХ века и переизданной в 2013 году, так как ее востребованность в наши дни очевидна. Точка зрения Ясперса на смысл человеческой жизни во многом совпадает с толстовской, которая утверждает необходимость для человека в течение своего существования переходить от жизни тела к жизни духа. Ясперс выражает эту мысль так: человек не должен удовлетворяться простым существованием – ему необходимо вырваться за его пределы, чтобы обрести в себе второй мир – мир духа – и определить главную идею своей деятельности. 8
Надо добавить, что современные философы, о чьих книгах шла здесь речь, анализируют не только духовные аспекты жизни сегодняшнего человечества, но также политические и социальные. Один из этих аспектов – отношение к государству, которое Толстой считал аппаратом насилия, мечтая о будущем человечестве, образцом которого служило ему «муравейное братство», где государству места нет (современники считали писателя анархистом). В связи с этим стоит остановиться на высказываниях на эту тему Дашкевича и Ясперса.
Оба они резко критикуют современное государство. Так, Дашкевич видит в нем агрессора, который не обеспечивает ни малейшей ответственности власти перед гражданином, – справедливые требования народа создать на своей территории «оптимизированный социум», как правило, этим государством игнорируются. Желательное будущее человечества Дашкевич представляет себе как «интерсоциум», не разделенный национальными, социальными, религиозными, государственными, таможенными границами; современное «суверенное государство» он признает устаревшей конструкцией, неспособной справиться с теми задачами, которые стоят перед человечеством сегодня. Под словом «интерсоциум» Дашкевич подразумевает не только единое человечество землян, но и освоение им Космоса, что может помочь будущим людям улучшить все ухудшающуюся экологическую обстановку на Земле.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.



