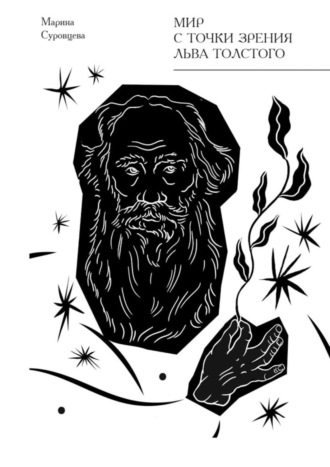
Полная версия
Мир с точки зрения Льва Толстого
Толстой сразу почувствовал, что перед ним совершенно оригинальная и очень стройная философская система: «…такой глубины (мыслитель). <…> Его перевести надо, чтобы был философский ум» (ЯПЗ, II, 348), – говорил он впоследствии о Лао-цзы. Работа над переводом «Дао-дэ-цзина» шла туго еще и потому, что, пытаясь разобраться в сложном древнекитайском тексте, писатель сравнивал три перевода на европейские языки – Ст. Жюльена, В. Штрауса и Дж. Легга. В результате работа опять затормозилась. Но через десять лет Толстой снова взялся за «Дао-дэ-цзин». На этот раз к нему обратился его друг Е. И. Попов, который перевел трактат Лао-цзы, с просьбой отредактировать и проверить его перевод. Толстой, который придавал большое значение изданию этого древнекитайского трактата на русский язык, охотно согласился и на этот раз так увлекся работой, что не оставлял ее до конца жизни, периодически к ней возвращаясь. В результате перевод Попова так и не увидел света, а сокращенный вариант «Дао-дэ-цзина» был издан в издательстве «Посредник» в 1910 году под названием «Изречения китайского мудреца Лао-тзе, избранные Львом Толстым». Так, на протяжении почти 30 лет, Толстой осмыслял философию великого восточного мыслителя.
Что же так поразило Толстого в «Дао-дэ-цзине»? Почему этот памятник приковал к себе его внимание на многие годы и снова и снова звал вдумываться в сложный и во многом темный, кажущийся мистическим смысл, в нем заложенный? И можно ли сказать, что этот смысл был в конце концов понят в главных своих чертах? Для того чтобы ответить на эти вопросы, нужно знать, как, по прошествии более ста лет со времени, когда Толстой постигал этот смысл, объясняется эта философия сегодня, в наши дни, когда появилось огромное количество переводов «Дао-дэ-цзина» (и продолжают появляться все новые) и комментариев к ним.
Прежде всего, для того, чтобы понять смысл древнекитайской философии, нужно иметь в виду и учитывать колоссальное несходство западной (базирующейся в основном на христианстве) и восточной философской традиции. Это несходство объясняется не только глубочайшими различиями в самой структуре жизни народов Запада и Востока (образе жизни, системах социальных и моральных ценностей, психологии) – различны самые глубинные основы культур народов Западной Европы и Дальнего Востока, даже сама структура мышления, сам подход к анализу мира в целом. На это обращают сугубое внимание современные специалисты по китайской и индийской культурам и переводчики древних восточных философских текстов, особенно древнекитайских и индобуддийских. Но в эпоху Толстого глубина этих различий (можно сказать, диаметральной противоположности во взглядах на возникновение и функционирование мира, в котором живет человек) еще не была постигнута до конца даже специалистами-синологами. А единственный перевод «Дао-дэ-цзина» на русский язык, сделанный при жизни Толстого другом и последователем идей писателя японцем Масутаро Конисси, не отличался глубоким пониманием идей Лао-цзы и литературными достоинствами. Об этом говорят не только наши сегодняшние современники (в частности, один из самых значительных современных специалистов по философии Лао-цзы и переводчик «Дао-дэ-цзина» И. С. Лисевич, ныне покойный), но и сам Толстой, который чем больше погружался в «Дао-дэ-цзин», тем глубже чувствовал несовершенство перевода Конисси. Об этом не раз свидетельствует Д. П. Маковицкий в «Яснополянских записках», где приводит высказывания Толстого на этот счет: «Конисси перевел Лао-тзе внешне, в содержание не вник» (ЯПЗ, I, 187); «Конисси очень плохо перевел его» (ЯПЗ, II, 348) и подобные. Главное фундаментальное отличие дальневосточной традиции философской мысли от западноевропейской заключается в том, что основные системообразующие категории, на которых построено представление восточного человека об устройстве мироздания и о встроенности в него людей со своими правилами поведения и нравственными законами, совершенно иные, чем у западного. Современные востоковеды утверждают, что дальневосточная философская традиция свидетельствует о материально-духовном монизме в подходе к миру, в отличие от дуализма традиции западноевропейской. Основополагающей идеей древнекитайской философии является единство мира: живой и неживой материи, духовного и материального – они не оппонируют друг другу (на чем зиждется философия Запада), а представляют единое целое. Именно этой идее соответствуют главные, основополагающие философские категории китайцев Дао и Дэ – это те две категории, на которых в дальневосточной мысли держится все объяснение мира и поведения человека в нем. Понятия эти слиты в единое целое (пару Дао-Дэ), как слиты человек и природа, частью которой он является. Имена этих категорий (говоря условно, так как первая характеристика Дао – безымянность: «Имя, которое нельзя назвать») входят в название знаменитого канона «Трактат (книга) о Дао и Дэ», где «цзин» означает «книга». «Дао-дэ-цзин», по всеобщему мнению, является Библией восточного мира, Библией в том смысле, что представляет древнекитайскую философскую концепцию мироустройства. 3 4
Слово «Дао» буквально переводится как «Путь». Но этот путь – не обычная дорога, имеющая начало и конец, по которой идет путник. Это обозначение и «Первотолчка» – с него начинается Вечный Путь Вселенной, – и самого этого «Пути», являющегося вечным круговоротом жизни и смерти, который совершается в нашем космическом обиталище, и «Путника» – человека, обреченного двигаться по «Пути». В соответствии с таким пониманием Дао китайская философская мысль выстроила очень логичную и стройную картину возникновения и функционирования мира, в котором нет места Творцу – Богу.
По мнению даосов, исповедующих учение о Дао (его изложил Лао-цзы), рождению Вселенной предшествовала Пустота, в которой некогда, как кузнечный мех, стало пульсировать нечто, источающее движение и энергию. Это нечто, названное словом «Дао», не имело причины («Оно, Дао, живет не имея причины») – древний даосизм не знает ничего, что было бы прежде Дао. Пустота, предшествующая всему, уже несет в себе всю дальнейшую программу «развертывания мира» – Дао, в ней рожденное, содержит в себе беспредельную информацию. Информация эта осуществляется в живом и неживом мире природы как Дэ. Говоря языком западноевропейской классической философии, Дао – это «вещь в себе», а Дэ – «вещь для себя». Или: Дао – это потенция бытия, Дэ – реализация потенции, причем не только материальной, но и духовной. «Дэ» переводится чаще всего как «Благодать», так как Дэ несет в себе Благую силу Дао. Человек с совершенным Дэ гармоничен, а достижение гармонии, утверждает китайская философия, является конечной целью Вселенной и каждого человека в отдельности. Постигая Дао и становясь человеком с совершенным Дэ – «совершенномудрым», – каждый из людей выходит на качественно иной уровень. В нем рождаются разного рода достоинства, и прежде всего нравственные. Поэтому слово «Дэ» переводится нередко как «мораль». Таким образом, в представлении древних китайцев человеческая мораль неразрывно связана с мироустройством, нравственность как бы является одним из законов природы.
Древние списки «Дао-Дэ-цзина», те, с которыми впервые познакомились Европа и Толстой, состояли из двух частей: первая часть посвящена Дао, вторая – Дэ. Книга состоит из 81 чжана (стиха), написанного ритмизованной прозой, иногда с рифмой. Читая и перечитывая «Дао-дэ-цзин» в течение многих лет, а также пытаясь переводить отдельные чжаны, Толстой прежде всего старался понять смысл понятия Дао (что это понятие в китайской философии основополагающее, писатель понял сразу).
И для Лао-цзы, и для Толстого Дао (как и Бог) является первоначалом и движущей силой всего сущего – оно лежит за пределами привычного человеческого мира (пространства, времени и причинности), в области метафизики. Но это Всё, Бог или Дао является объединяющим началом, которое скрепляет мир в единое целое. Идея единства мира природы и человеческого мира родилась у Толстого еще в юности и нашла свое выражение в его произведениях, написанных задолго до знакомства с китайской философией («Казаки», «Война и мир»). «Дао-дэ-цзин» подтвердил его мысли, представив цельную картину мира, где все на своем месте: и безымянное, сверхчувственное, непознаваемое разумом высшее начало Дао – двигатель Всего (вполне соответствующее тому Богу, который жил в душе Толстого); и видимая реальность живой и неживой природы, а также человек со своей моралью – Дэ, порожденные Дао. Это китайское Дао, проявляющееся в Дэ (его Толстой называет Высшей Добродетелью), самореализуется и во внешнем мире, и во внутреннем мире человека. Получается, что в китайской философии смысл человеческой жизни оказывается для Толстого даже более очевидным, чем в его собственной философии. Возможно, что построения китайской философской мысли показались писателю такими убедительными потому, что совпали с его собственными воззрениями, в какой-то мере даже упорядочивая их. Так в 1905 году Толстой в дневнике характеризует жизнь как «единство в разделенности или разделенность в единстве» (55, 137). А в 1907 году записывает: «Есть нечто непреходящее, неизменяющееся, короче: непространственное, невременное и не частичное, а цельное. Я знаю, что оно есть, сознаю себя в нем, но вижу себя ограниченным телом в пространстве и ограниченным движением во времени» (56, 42).
Итак, можно сказать, что главная системообразующая категория древнекитайской философии (Дао) нашла у Толстого полное понимание, совпав с его представлением о Боге. Совпал с толстовским представлением о руководящем принципе человеческого поведения и древнекитайский принцип «у-вэй», переводимый большинством современных синологов словом «недеяние», а Толстым – «неделание». Один из крупнейших русских специалистов по даосизму – Е. А. Торчинов (ныне покойный) – так характеризует этот принцип: «Главная идея недеяния – непротиводействие природе окружающих вещей и существ, а в конечном счете – и всего сущего. <…> Не делай ничего противоестественного – вот главная неписаная заповедь даосизма. Но вместе с тем принцип недеяния вовсе не означает простой пассивности. <…> С понятием «недеяние» тесно связано и еще одно понятие даосской философии – «самоестественность» <…>. Самоестественность есть другая сторона недеяния: если недеяние есть следование природе вещей, то самоестественность есть следование своей собственной природе, а не чему-нибудь иному, будь это навязанные извне формы поведения (каковыми были для даосов этические принципы конфуцианства) или просто внешнее принуждение». 5
Мысль о подобном недеянии созрела у Толстого уже в период создания «Войны и мира» (Кутузов, Каратаев, философия истории). Позднее Толстой увидел в ней совпадение со своим учением о непротивлении злу насилием. Она совпадала также с его отрицательным отношением к войнам и вообще всяческой агрессии, к бесконтрольному развитию технической цивилизации, навязываемому человечеству бурным развитием капитализма, совпадала с его проповедью всеобщей любви. «Велика истина Лао цзи Le non agir (неделание) – ничего не делать, не затевать, а только отдаваться тому, чему считаешь хорошим отдаваться – отдаваться тому, в чем совпадаешь с потоком, с волей Божьей», – записывает Толстой в дневнике 1 апреля 1891 года (52, 25).
Здесь он очень точно передает мысль Лао-цзы: недеяние и, значит, «совпадать с потоком». Для Толстого это означает усваивать уроки жизни интуитивно, подсознательно (таков мудрый Кутузов, Наташа, которая «не удостаивает быть умной», Пьер, Левин, «отдающиеся потоку» жизни). Отказавшись от неестественных желаний, не совпадающих с представлением о чувстве меры (в древнекитайской философии чувство меры является необходимым условием всеобщей гармонии), человек, по Лао-цзы, открывает свое опустевшее сердце (вспомним метафизическое значение понятия «пустота») для проникновения в него Дао. Только этот путь – недеяние и, как следствие, овладение Дао (а вовсе не книжная мудрость) – делает человека совершенномудрым. «Мудрый» или «святой» – так переводит Толстой это название человека с «совершенным Дэ».
Итак, Дао, Дэ (Высшая Добродетель), совершенномудрый муж (человек, обладающий мудростью и высокодобродетельный) – эти крайне важные понятия древнекитайской философии были глубоко постигнуты Толстым в процессе многолетнего обдумывания. И все же нельзя сказать, что все основополагающие понятия были им осмыслены до конца.
Например, к понятию «пустота» Толстой возвращался много раз в дневнике, пытаясь его разгадать. Он чувствовал, что за этим словом скрывается гораздо более глубокий смысл, чем тот, который, как казалось на первый взгляд, лежит на поверхности: практическая польза пустоты раскрывается в 11-м чжане «Дао-дэ-цзина» – это пустота ступицы колеса, благодаря которой колесо вертится, пустота дома, предназначенная для жизни людей, пустота сосуда, сделанного для того, чтобы его наполнить. Но у Лао-цзы пустота – категория метафизическая, обозначающая первоначальное состояние Вселенной – именно в ней родилось Дао. Поэтому пустота обозначает еще и возможность (потенцию) рождения. Неслучайно в своем переводе «Дао-дэ-цзина» Е. А. Торчинов употребляет вместо слова «пустота» слово «отсутствие»: «Отсутствие и наличие – важные категории китайской философии. Отсутствие – неоформленное, предбытийное состояние мира», – пишет он в комментариях к своему переводу знаменитого китайского трактата. – В «Дао-дэ-цзине» отсутствие соотносится с этическим принципом недеяния». Именно так воспринял этот 11-й чжан Толстой, переведя его концовку именно в этическом смысле: «Таким же (то есть пустым. – М.Е.) должен быть мудрый. Он должен быть ничем. Только тогда он нужен и полезен людям и всему» (40, 353). Размышляя в дневнике (5 октября 1891 года) о значении понятия «пустота», Толстой отождествляет здесь пустоту с человеческой свободой («Это не политическая свобода, которая всегда несвободна, но свобода внутренняя, свобода от страстей» (52, 103). 6
Однако глубину смысла понятия «пустота» Толстой постигал постепенно. Так, в сборнике «На каждый день» он записывает еще одно рассуждение о пустоте, где его понимание этой категории уже близко к пониманию Лао-цзы: «Как глубоки слова Лао-цзы о том, что совершенство, польза и значение и употребление только в пустоте: ступица, сосуд, двери. Для человека высшая и сила, и польза, и благо – в признании основой жизни того, что не имеет никакого вида, того, что представляется ничем, пустотою» (43, 223). И вот еще одно высказывание писателя на ту же тему – самое глубокое, его он высказал в разговоре с гостями Ясной Поляны 17 ноября 1906 года, и оно было записано Маковицким: «На днях в „Мыслях мудрых людей“ было изречение Лао-тзе, которое я только теперь понял», – сказал Толстой и пересказал его, спросив собеседников, что это значит. «Раньше я его не понимал. Значит, что человек тогда силен, когда отрекается от себя, от своих страстей… Тогда в нем образуется пустота, в которую входит божество» (ЯПЗ, II, 307).
Еще более заворожил Толстого образ воды – у Лао-цзы вода предстает образцом Высшей Добродетели (совершенного Дэ), символизируя смирение совершенномудрого мужа, который ни в коей мере не стремится возвыситься над людьми, а, напротив, считает необходимым быть ниже всех, так как страсть к возвышению (к власти, славе, богатству) разрушает гармонию личности, смирение же, скромность – ее гармонизирует. Вода обладает у Лао-цзы силой слабости (стекая всегда вниз, она, однако, может разрушать плотины), тем самым она воплощает в себе недеяние. Все эти качества воды и произвели на Толстого сильное впечатление. Однако вода в «Дао-дэ-цзине» имеет также и метафизический смысл, не замеченный Толстым. Она, стекая вниз, находится всегда ниже всех, как самка, рождающая жизнь. В 61-м чжане трактата низовье реки отождествляется Лао-цзы с «узлом Поднебесной», «самкой Поднебесной». Потому в традиционных картинах художников, изображающих символический китайский пейзаж, обязательно присутствует вода (ручьи, реки, водопады) – это говорит нам о метафизическом значении воды в древнекитайской философии.
Заинтересовавшись этой философией, Толстой как писатель, естественно, проявил прежде всего интерес к нравственно-этическому учению древнекитайского мудреца, близкому ему по духу. Однако сказать, что мысли Лао-цзы о возникновении (не сотворении!) мира, о проникновении в сокровенные тайны бытия Толстого «не интересуют» (как считали некоторые исследователи, занимавшиеся изучением темы «Толстой и Лао-цзы» – Ян Хиншун, И. С. Лисевич, А. И. Шифман), было бы абсолютно неправильно. На самом деле суть в том, что Толстой понял главное у Лао-цзы – взаимосвязь мироустройства с человеческим поведением, с моралью. Он это чувствовал задолго до знакомства с «Дао-дэ-цзином». Так, эпиграф к «Анне Карениной» говорит о неизбежном наказании тех, кто не подчиняется нравственным законам. Но кто наказывает? Причин самоубийства Анны много: это и страстная натура героини, способной глубоко и сильно любить, и лицемерная мораль, требующая соблюдения общепринятых норм поведения, не считающаяся с естественными человеческими чувствами (в романе – любви Анны к Вронскому и к сыну), и некий высший нравственный закон, который якобы она преступила, разрушив семью. Лихорадочно обдумывая безвыходность своего положения перед самоубийством, Анна неожиданно понимает, что главная причина – в ней самой: она слишком заполнила свое сердце одной плотской земной страстью, не оставив места ни для чего другого. Прослеживая психологический путь к гибели своей героини, Толстой интуитивно почувствовал то, что вскоре прочитает в «Дао-дэ-цзине» и включит в «Изречения Лао-цзы, избранные Львом Толстым»: «То, что может быть названо, не есть начало всего. То, что без имени, то начало всего. Понимать это начало может только тот, кто свободен от страстей. <…> Тао прибежище всех существ, сокровище добродетельного и спасение злого» (40, 352). Смысл этих изречений, заключающийся в том, что только тот, кто соблюдает чувство меры и не дает страстям овладеть собой, – только тот способен достигнуть внутренней гармонии и тем самым оказаться на правильном пути, то есть жить в соответствии с всеобщими законами Вселенной (Дао), в том числе с законом нравственным, тоже исходящим от Дао. Поэтому по-настоящему понять нравственное учение Лао-цзы Толстой не мог бы, не поняв и не прочувствовав во всей ее полноте ту картину мира, которая представлена в «Дао-дэ-цзине». И можно только восхититься творческой мощью его ума, сумевшего ухватить главное в древнекитайской философии: стройность, цельность и логичность этой системы, сутью которой является неразрывная взаимосвязь между законами Вселенной и бытием человека.
***
Когда в 1882 году Толстой приступил к изучению Конфуция, он уже был знаком с философией Лао-цзы – именно в это время он получил из Петербурга от Н. Н. Страхова несколько книг о Конфуции. Вполне возможно, что чтение Лао-цзы настроило его на знакомство и с другим великим древнекитайским мудрецом.
Конфуция, как и Лао-цзы, Толстой изучал по лучшим для того времени русским и западноевропейским переводам – прежде всего по широко известному трехтомному труду английского синолога Джемса Легга «Китайские классики», выпущенному в свет в Лондоне в конце 70-х годов ХIХ века; «Изречения Конфуция» по-русски писатель читал в переводе Н. Гербеля, опубликованном в издании: Шиллер. Полн. собр. соч. в переводе русских писателей. Изд. 6-е. СПб., 1884 (об этом пишет Душан Петрович Маковицкий).
Толстой сразу почувствовал, что, в отличие от Лао-цзы, внимание Конфуция направлено не на метафизические, а на нравственные вопросы – в одной из бесед с друзьями писатель заметил: «Я думаю, что китайцы потому так высоконравственны, что в учении Конфуция нет сверхъестественного, не приходилось им в этом (сверхъестественном. – М.С.) разочаровываться» (ЯПЗ, III, 382). Опирался ли Конфуций на метафизику Лао-цзы? Толстой не задавался этим вопросом (во всяком случае, на эту тему не высказывался), но там, где он обсуждает с яснополянскими гостями вопрос о религиозности или безрелигиозности Конфуция, писатель разъясняет (в частности, А. Б. Гольденвейзеру на его вопрос, есть ли Бог в конфуцианстве), что «есть Небо и Разум. Небо – правда, начало всего, в связи с нравственностью» (ЯПЗ, II, 210). В другой беседе, приведенной Маковицким, Толстой говорит, что «понятие Бога у Конфуция есть: называется Небом, Разумом Неба» (ЯПЗ, II, 510). И еще одно высказывание Толстого: «Конфуций Бога не признает, а признает моральный принцип, как Кант» (ЯПЗ, IV, 57). И наконец, такое: «У Конфуция нет личного понятия о Боге, как у евреев. У Конфуция нет понятия о загробной, о вечной жизни, но о Боге-начале есть» (ЯПЗ, IV, 121).
Однако, хотя Толстого, как всегда, интересовала проблема Бога, на эту тему писатель мало что мог найти у Конфуция. Одной из характерных мыслей философа, дающих представление о его отношении к метафизическим проблемам, является такая, привлекшая внимание Толстого: «Конфуций сказал: «когда не знаем, как жить в этой жизни, зачем нам гадать о будущей? Это занавес, который поднялся и опустился при смерти» (ЯПЗ, I, 400). Ясно, что Конфуций не пытался заглянуть за «занавес», из чего писатель сделал вывод: «Лао-цзы был глубже» (ЯПЗ, II, 510). Мысль о глубине философии Лао-цзы Толстой высказал в 1907 году, незадолго до смерти, но эта точка зрения сложилась у него намного раньше: в 1891 году, когда на вопрос петербургского издателя М. М. Ледерле о том, какие писатели и мыслители Запада и Востока оказали на него наибольшее влияние в зрелом возрасте и как он их оценивает, Толстой в числе других философов назвал Лао-цзы (впечатление «огромное») а также Конфуция и Мэн-цзы («очень большое»).
Тем не менее это не помешало Толстому в какой-то момент буквально признаться в любви Конфуцию: «Мне Конфуций ближе, чем домашние: доказательство духовного единства» (ЯПЗ, IV, 20—21). И это не удивительно – судя по всему, они были близки друг другу по самому складу личности: оба уделяли больше внимания земной жизни, человеку, благоустройству его души, порядку в обществе, чем метафизическим проблемам; оба искали истинное знание, которое заключалось в понимании, как жить правильно; оба хотели научить людей относиться к другому как к самому себе. Каждый из них создал оригинальную программу собственного сознательного существования, пропагандировал ее и сумел подстроить под нее свой образ жизни: Конфуций старался сделать из правителя нравственного руководителя народа, Толстой – научить людей любить друг друга. Один посвятил свою жизнь служению разным правителям в надежде, что кто-нибудь из них станет идеальным, другой был готов отдать народу всю свою собственность, время и душу, только бы он стал счастливее. Словом, оба были великими моралистами – они отдавали предпочтение морали перед правом, требуя от правителей нравственного права на власть.
Нравственность была основной категорией этики и Толстого, и Конфуция. Но если для Лао-цзы и для Толстого обоснование морали лежало в области метафизики (мораль исходила от Бога для Толстого, и от Дао – для Лао-цзы), то в нравственном учении Конфуция такого метафизического обоснования не было. Скорее всего, истоки морали находились для него в ритуале «ли», так как ритуал сложился исторически как защита от духов предков, которые могут навредить потомкам, если они ведут себя неправильно (а это и есть безнравственно). Именно выполнение ритуала всеми без исключения должно было создать порядок и в обществе, и в душе каждого человека. Отсюда и семья, и государство, построенные по типу иерархической пирамиды: старшие всегда сильнее и мудрее младших, и их нужно слушаться беспрекословно. Однако человек должен быть прежде всего человечен и потому не имеет права пользоваться своим положением старшего или власть имущего во вред нижестоящему – «ли» предполагает обязательность гуманности (жэнь) в отношениях между людьми. Поэтому в глазах Конфуция государство, опирающееся на ритуал, нравственно.
Идея Конфуция о своего рода сакральности иерархических отношений, на которой построено сильное государство («признание необходимости властей у Конфуция, Мэн-цзы – аксиома», как выразился Толстой (ЯПЗ, III, 398)), не могла импонировать писателю – яростный противник насилия в любом его выражении, писатель не мог себе представить власти и управления без давления на народ и ограничения его свобод; конфуцианское же государство, в силу господства в нем ритуала, неизбежно должно было заковывать человека в жесткие физические и духовные рамки. Поэтому в частных беседах Толстой называл порой Конфуция «государственником» и даже «оппортунистом», так как он, по мнению писателя, «прилаживался к правительству» (ЯПЗ, II, 333). В 1909 году, собираясь написать об учении Конфуция для издательства «Посредник», Толстой в беседе с яснополянскими гостями сказал: «Имеется понятие о жизни Конфуция? Он служил при дворе и потому так много внимания в учении своем уделил тому, как управлять народом. Это я пропускаю. А общее всемирное значение нравственного учения излагаю» (ЯПЗ, III, 382).
Для Толстого как раз нравственное-то учение и было самым важным у Конфуция, а вовсе не вопрос о том, существовал ли для него Бог. Толстой считал это учение религиозным, так как религия для него была не верой в Бога, а, как он объяснял в 1886 году в одном из писем, «сознание тех истин, которые общи, понятны всем людям во всех положениях во все времена и несомненны, как 2 × 2 = 4. Дело религии есть нахождение и выражение этих истин, и когда истина эта выражена, то она неизбежно изменяет жизнь людей» (63, 339). Поиски и нахождение истины – это и есть та цель, которую преследовал Конфуций, обучая и правителей, и своих учеников. А истина и для Толстого, и для Лао-цзы, и для Конфуция была одной и той же: понять, как правильно жить, каким правилам следовать. Главным же правилом человеческого поведения было отношение к другому человеку как к самому себе – достигнуть же этого можно было только путем самосовершенствования. Но если для Лао-цзы (и в какой-то мере для Толстого) самосовершенствование было связано с овладением Дао и тем самым слиянием с потоком жизни (Толстой называл это подчинением Воле Божьей), то для Конфуция оно было прежде всего волевым усилием человека над самим собой – самоформированием. Такая позиция не совпадала с даосской концепцией недеяния (так же как, впрочем, и обязательное выполнение ритуала, которое не предполагало свободной отдачи себя потоку жизни). Однако и на это Толстой не обратил особого внимания. Потому что для него Конфуций был своего рода Христом – выразителем Воли Божьей, то есть мирового закона, проповедником фундаментальных правил, которые обязательны к исполнению для всех без исключения в любые исторические времена (сравнение Конфуция с Христом зафиксировал домашний врач Толстого Д. П. Маковицкий в своих «Яснополянских записках» (ЯПЗ, IV, 383)). И даже предлагаемая Конфуцием государственная структура (конфуцианская иерархическая структура), выстроенная на ритуале для упорядочения общественных отношений, по мнению Толстого, прекрасно «работает» в применении к духовной жизни человека – это своего рода иерархия духовных ценностей. Пирамида строится снизу, от общества, и поднимается вверх, к всеобщему благу, достигаемому путем овладения человеком имеющими непреходящее значение нравственными правилами. Главное из них: поступай с другими так, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой. Другое, не менее важное: держи в узде свои страсти.



