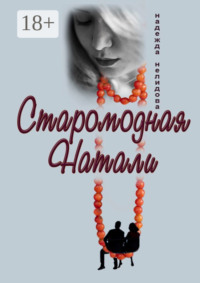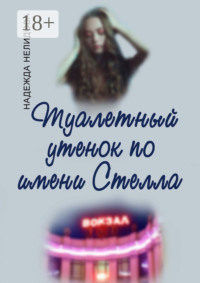Полная версия
Пыльные Музыри
На что копились деньги? Ради чего проводилась эта жесточайшая экономия? Это, в прямом смысле, держание детей в чёрном теле?
Вера уже поступила в институт. Однажды обронила в разговоре с квартирной хозяйкой, что её семья купила «жигули».
– С шестью детьми?! Простые люди, не начальники? В жизнь не поверю!
Небось, поверила бы, узнай, что в Верином детстве манная каша была пределом мечтаний. Жили в основном на картошке. Вот и Вера выросла похожей на картошку: мешковатая, коренастая, приземистая, с серой шероховатой кожей.
И до слёз жаль родителей. Не обида – нет, недоумение и боль за потерянную, погашенную, обесцвеченную, ущемлённую часть детства. Не оттого ли она всю жизнь проходила, ссутулившись, втянув голову в плечи?
Чем объяснить жгучую родительскую мечту: во что бы то ни стало купить автомобиль? По тем временам это было как купить экваториальный остров. Или так проявились крестьянские гены: безлошадная семья – ущербная семья?
Лошадь (машина) – свидетельство достатка, лада и крепости в семье, не хуже чем у людей. Даже лучше. Недосягаемая игрушка, розовая мечта, как для Веры – златовласая кукла Лёля.
Отец, выбивая те «жигули» в районных кабинетах, объяснял: шестеро детей, разъедутся по институтам, потом переженятся, родят внуков. Автобусное сообщение плохое – а он их будет встречать на железнодорожном перроне.
Так вот какая идиллическая картинка грела душу родителей. Когда-то потом, в светлом будущем, богато встретить детей, невесток, зятьёв, внуков. Обдав пылью, прокатить по сельским улицам. А пока – перебьёмся, потуже затянем пояса.
***
Отец был уже пожилой, когда сдавал на права. Выезжал считанные разы, машина в основном стояла в гараже. Прошли годы. Верин брат сказал: «Пап, чего ей гнить? Перепиши на Димку». Димка был его взрослый сын.
Димка сразу сдал «жигулёнок» на лом, а себе купил иномарку. Всё. Вера видела этот скукожившийся кусок ржавого хлама: вот в заклание чему было брошено детство шестерых детей.
Для себя решила: буду стараться жить одним днём. Ещё в студенчестве прочитала у классика: «Человек припасает себя надолго, а не знает, жив ли до вечера будет». И ещё запомнила, из другой книги: «Балуйте детей – ведь вы не знаете, что их ждёт».
***
Но вот у дочери на лице знакомое, значительное, жёсткое выражение. Цедит: «Обойдёмся. Сэкономим – заживём. Накопим – уж тогда…».
Вера беспокойно двигается в своей коляске. Судорожно впивается скрюченными пальцами в подлокотники: того гляди лопнет кожа на костяшках.
– Баб, ты чего, какать хочешь?
А она неимоверным усилием шевелит одеревенелыми губами. Безъязыко давится, мычит, заклинает: «Не копи… Не копи. Не копи-и!».
Дочь осекается, они с зятем переглядываются. Зять недоверчиво присвистывает: «Ни фига себе, великая немая ожила!». Алка визжит и скачет козой вокруг коляски:
– Бабушка заговорила! А что я вам говорила: она всё понимает! А вы не верили! А она заговорила!
ХЭППИ ЭНД БАБКИ АВГУСТЫ
Бабка Августа была простушкой не по годам.
Все ее подружки, тоже которые с небольшой пенсией, давно пристроились в разные места. Одна, например, по великому блату работала уборщицей в церкви. Там свора таких же злобных старушонок яростно возила швабрами по полу, лебезила перед молодым священником, у которого из-под рясы торчали джинсы, шипела на любопытную молодежь, грызлась между собой… Весело жили. Не везло лишь бабке Августе. А ведь жизнь бабка прожила – дай Бог каждому. Во-первых, пятьдесят четыре года назад Августу с ее носиком-огурцом и репутацией блаженной, чуть не дурочки, выдали замуж за здорового работящего парня в соседнюю деревню – и раньше старшей сестры, красавицы Агнии.
Всего у Августы народилось девять детей. В живых остались двое: дочушка и сын. Как ни жалко было, а в голодном году все б сами померли. Любимца, сынка Борюшку, тоже потом Бог прибрал. Простудился мальчонка, бегая по двору в дырявой обувке, и на Покров схоронили – сгорел нутряным огнем. По весне, когда во дворе сошел снег, Августа, воя, исползала, исцеловала жаркими губами вытаянные в черной весенней земле прошлогодние следышки от Боренькиных ножек.
Неведомая сила, подымавшая в то время многих деревенских, перенесла в город и небольшое Августино семейство. Ее взяли уборщицей при магазине «фрукты-овощи». Муж тут же работал грузчиком. Круглый год были при фруктах-овощах.
Началась война. Туго пришлось бы Августе с дочкой, кабы не бачки с овощной ботвой, с фруктовым гнильем. Они все это перебирали, отмывали, варили густое вонючее пюре – выжили, слава тебе, Господи.
Мужа на войне убило. Августа сильно горевала. Но подоспели иные заботы: Валькино замужество хотя бы. Мужиков после войны негусто было. Дочь Валька росла груболицая, длинноносая, но характером не в мать: нахрапистая, злая, чего хочет, того добьется. Скоро она привела с завода, где сама работала, тихого тощего паренька Витьку с фанерным чемоданчиком. Занавесились на полкомнаты, составили вместе две раскладушки и стали спать не расписавшись. Это мало беспокоило Августу: она Вальку знала. Как дочь забрюхатела, сразу пошли в загс.
Народилась внучка Олюшка, в которой Августа души не чаяла. В то время она подрабатывала уборщицей при том же овощном магазине, и еще ездила в дальний район мыть подъезды в многоэтажном доме. Но бабку уломали: дала согласие походить за Олюшкой годик-другой. Все бы ничего – жалко, Августа теряла прикормленное место. Но и это можно было потерпеть, потому что Олюшка росла сущая умница и красавица. Зять Витька ей тоже очень даже нравился: скромный, уважительный.
Потом все пошло наперекосяк. Витька что-то загрустил, начал попивать и, непутевый, кончил тем, что стащил у соседей телевизор. Он спрятал его в картонную коробку под раскладушкой и лег спать. Утром его забрали в участок. Горевала по нему одна бабка Августа. Олюшка была еще несмышлена, а стервоза Валька сразу оформила развод и выскочила замуж за нового хахаля (Августа сильно подозревала, что из-за ихнего давнишнего хахальства и грустил Витька).
Новый зять Колька привередничал. Ему не нравилась бабкина каморка в бараке, не нравились составленные вместе раскладушки. Самое нехорошее: зятю Кольке начинало не нравиться, что у Вальки уже есть Олюшка. Как на грех, Олюшка росла бойкой, языкастой, вечно в неподходящую минуту попадалась Кольке на глаза. Девчонку держали в невиданной строгости. Она мыла полы и посуду, стирала, бегала после школы в магазины и помогала бабке возиться с годовалым Димкой.
Когда Колька принимался поедом есть Олюшку, у бабки будто в груди что-то подымалось и каменело от жалости. Бабка Августа не выдерживала, вступалась. Но ее сразу отправляли спать на ее место под бараний тулуп под стол. Бабка хитрила: приподнимая краешек тулупа, зорко следила одним глазом за происходящим.
Колька выговаривал жене:– Ты ее не лупишь.Бесстыдница и сволочь, Валька отмалчивалась.– Не лупишь, – продолжал Колька, – а – лупить следует. Распустилась донельзя.Бабка, сморкаясь, подавала из-под тулупа глухой голос:– Ак она и так вам все делат. За што лупить? Девка всех обстирыват. Ты, Валька, рази за Димкой штанки стирашь?
Очень скоро у Вальки завелось свое постельное белье, не в пример бабкиному – тугое, отливающее синевой. Колька-павлин заимел дюжину рубашек, а к рубашкам – пестрые галстуки. Все добро Валька запирала в шифоньер и ключ прятала.
Потом им от завода дали квартиру, бабка Августа осталась одна. Кряхтя и держась за поясницу, опять взялась за швабру.
Но тут от племянника из Кривого Рога пришло письмо умоляющего содержания. Оба они с женой были ученые, росла у них дочка Людочка, и еще скоро ждали ребенка. Племянник был родным сыном Агнии, которая сидела на пенсии, но мамашу в няньки не приглашал: знал ее золотой характерец.
Маленькая, как куколка, ужасно воспитанная сноха понравилась Августе. И квартира тоже понравилась. В комнатах с высокими лепными потолками было гулко и полутемно, как в церкви.
Долгожданную гостью сноха с почестями повела в казенную баню, потом только, брезгуша, выкупала с пахучим шампунем в ванне. Потом выдала, как в больнице, байковый халатик и показала ее угол за отодвинутым книжным шкафом.
Все шло как нельзя лучше, только однажды сноха услышала, как бабка за шкафом рассказывает Людочке историю в лицах. Мол, жил у них в деревне старик по прозвищу дед Огурец, и была у него длинная зеленая борода. Ребятишки искали у него в бороде, и он за это давал им копейку. Бабка Августа тоже искала и однажды принесла вшей на себе, за что ее излупили дома. Людочка хохотала и спрашивала, что такое «излупить» и просила нарисовать вошку, «ну хоть самую малюсенькую».
Воспитанная сноха пришла в ужас. Вечером она рассказывала об этом мужу. Тот гудел что-то примирительно, и бабка с благодарностью думала, что племянник очень похож на ее непутевого Витьку, ни за что гниющего в тюрьме.
Все опять шло хорошо до той поры, пока сноха не опросталась вторым младенцем. По истечении некоторого времени она показала бабке кастрюльки, стерильные пузырьки и ускакала в свой этот институт. Вернувшись вечером, сноха обнаружила, что у младенца рот обметало коричневой коростой. Приехавший в неотложке врач осмотрел и сказал, что это засохший черный хлеб. Его бабка нажевала, завязала в тряпочку и сунула младенцу в рот.
Вечером виновато притихшая бабка слушала за шкафом, как хрупкая воспитанная сноха орет мужу:
– Кошмар! Месячному ребенку! Соображать надо!
Бабке было не совсем понятно: у них в деревне новорожденному всегда такой жвачкой рот затыкали – если, слава Богу, хлеб был. И Августу командировали обратно. Бабка не держала обиды на сердце. А сноха на прощанье подарила платье.
По приезде в родной город произошло большое событие. Дочь Валька и зять Колька нагрянули, засуетились, перерыли бабкин сундук, насобирали ветхих желтых бумажек… И через какие-нибудь полгода бабка, как вдова участника Великой Отечественной войне, вселилась в заоблачную высь, в однокомнатную квартиру на семнадцатом этаже: с лоджией, ванной, облицованной узорной плиткой, и прочей неописуемой благодатью. Сто раз бабка покаялась, что обзывала Вальку бесстыжей и сволочью. И Колька оказался очень даже душевным человеком.
Августину же каморку Валька, сторговавшись, продала Агнии. Она должна была тетке полтысячи с незапамятных времен, и сама не рада была, что заняла, Агния ей житья не давала, и даже Валька, поднаторевшая в решении жизненных проблем, тут перед ней пасовала. Вместо денег и сунула ей камору: жри, подавись. Агния сожрала и осталась довольна: сразу впустила в камору жильцов.
Приходила Агния в новую бабкину фатеру пить чай, грозила с завистью:
– Гляди, неспроста б Валька…
Накаркала, старая ворона.
Не успела Августа нарадоваться, не успела отбить поклоны Богу и собесу, как в первый же выходной пришли чужие люди.
Стали, задирая головы, осматривать потолки, посапывая, скоблили ногтями обои, заглядывали на лоджию, в туалете спускали воду, принюхиваясь. Бабка Августа, сложив ручки на животике, испуганно следовала за ними. Даже она, несмотря на житейскую глупость, догадалась, что это – насчет обмена.
Сразу после их ухода прилетела Валька. Была необычайно ласкова, кошкой облизала матери все лицо, тарахтела о пустяках, и все: «Мамочка, мамочка»…
Скоро бабка с ее нехитрым скарбом перебиралась в Валькину, уже четырехкомнатную фатеру. Болело сердце, чуяло: ох, недолго потерпит Валькина шикарная фатера ее, бабкино, присутствие. Немного утешала предстоящая встреча с Олюшкой. Но оказалось, что Олюшка учится на инженера и мыкается, сердечная, при живых родителях по чужим людям. Выжил зять Колька Олюшку.
Сначала дочь с зятем старались бабку не замечать. Это было нетрудно делать: бабка Августа свое присутствие свела до минимума, невидимой стала и неслышимой. К старости ведь опытным становишься: всему научишься, и тенью ходит.
Как-то Валька с мужем не поладила. Сидела с красным злым лицом и на прошуршавшую мимо бабку зашумела:
– Еще она тут ползает. Весь дом провонял старушечьим.
Бабка Августа ушла, сморкаясь, и затаилась еще глубже. Агния при встречах стала настойчиво звать к себе: мыслимо ли дело, эдак человека со света сжить недолго. Бабка, сморкаясь, собрала узелки и ушла к Агнии. Валька в дверях сунула двадцать рублей.
Прошел ровно год с того дня. В Вербное воскресенье сестры вышли из церкви: обе с букетиками освященной вербы, с умиленными лицами. Поехали домой – трамвайная линия рядышком с церковью проходила. Бабка Августа пошла прикупить у трамвайного водителя пачку билетов. Подслеповато сунулась в кабинку – и отшатнулась, закрестилась, сделалась сама не своя.
– Ба-атюшки, – говорит, – трамвай-то без водительши. Куда это мы катим, а?!
Пассажиры засмеялись.
– В преисподнюю прямым ходом, бабуся! – крикнули с задней площадки.
– Вагон-то прицепной, не видишь? – рассердилась Агния. – Срамота от тебя на людях!
Августа не успела разобрать, что к чему: кто-то налетел на нее, чуть с ног не сбил, крепко-накрепко обхватил, зацеловал, в самое ухо залепетал:
– Бабулька моя расхорошая, посмотри на меня! Не узнаешь?
Живая-невредимая после стольких лет разлуки, любимая внучка Олюшка стояла рядом. И раскрасавица светлая была такая, что бабка зажмурилась, заслезилась, седенькой головкой затрясла. Олюшка заливисто колокольчиком смеялась, тормошила ее и не умолкала, сыпала вопросами.
Сказала Августа, что живет, слава Богу, пенсию от государства получает. Вдвоем с бабушкой Агнией хорошо живут, чаи пьют с кекосами (так бабка кексы называла), дай Господи другим такого житья. Строга Агния, что правда то правда, зато и порядок у нее во всем, все чинно, все как следует.
Потом ее черед настал Олюшку расспрашивать. Только сейчас, безглазая, заметила детскую колясочку, а в ней младенца, да такого расхорошенького, темноглазого, розовенького. Улыбается младенец беззубым ротиком бабке Августе. Про отца спросила – оказывается, в армию призвали, служит. «По папке соскучились, да, Витек, да, мой сладкий?»
К матери в четырехкомнатную квартиру Олюшку ни за какие коврижки не заманишь. А работает она технологом на заводе, живет в общежитии с подругой, тоже которая с ребенком («Драма у нее,» – тихонько сказала).
Шумно живут: когда малышня в две глотки загорланит, хоть уши затыкай и вон беги – зато весело. Друг дружке во всем помогают… Да, чуть не забыла: отец (Витька-непутевый, значит) наведывается частенько. Женился, про тещеньку свою бывшую, бабку Августу, все спрашивает.
Августа, забывшись, твердила:
– Слава Богу, милая, слава Богу. Ты счастлива, и я подле твоего счастья погрелась.
Олюшка, прощаясь, ее в гости звала. Обещалась сама забежать, как время будет. Вышли все из трамвая…
Идет Олюшка по аллее, высокая, светлая вся, чисто солнышко, коляску толкает. Нет-нет, да и обернется, рукой в перчатке помашет. Потом уже пошла не оглядываясь, и Витеньку с собой увозит… У бабки в груди оборвалось, точно вот в последний раз внучку видит. Не ведая, что делает, не слушая ругань Агнии, засеменила вслед.
– Олюшка, – кричит, – Олюшка!
С утра две молодые мамы убегают на работу. А у Августы полон рот хлопот. Не шутка – два мальца на руках, один горластей и буянистей другого. Бабке оба хороши, только ненаглядный раскрасавец ангел Витенька, милее всех на свете.
Бабку научили варить детские смеси, а уж остальное: покормить, постирать, спать уложить – это для нее дело знакомое. Жалко, малы еще, а то житейские истории рассказывать бабка великая мастерица.
Больше всего ее радует, что она из своей пенсии нет-нет, да и выкроит на подарочек: Олюшке косынку узорную рублевую, правнуку Витеньке – погремушку завлекательную. Олюшка поворчит для виду, а бабке и ворчанье Олюшкино сладко.
Вечером бабка вернется из гостей от комендантши, чаю напившись, посмотрит телевизор – и спать ложится на раскладушку, вынесенную за неимением места в кухню.
«Слава тебе, Господи, – думает бабка, крестя тощую грудь. – Есть, есть Бог на свете. Лишь бы подолее сил хватило».
Жизнь бабки Августы завершает традиционный хэппи энд.
БАБКОКРАТИЯ
– На днях кондуктор в автобусе мне заявляет: «Вы по пенсионному удостоверению?» Неужели я так плохо выгляжу?!
– Прекрасно выглядишь, – утешают знакомые Лену. – Этим кондукторшам все на одно лицо.
– Да-а, – вздыхает Лена, – а в аптеке тоже первым делом: «У вас пенсионка?»
– Элементарная бабья зависть. Прикинь: они там все бледные, квёлые, лекарствами нанюханные. И тут входишь ты: вся из себя цветущая, ядрёная, кровь с молоком. Конечно, от зависти.
Лена – без пяти минут пенсионерка. Вот-вот вступит в возраст дожития – по недвусмысленному намёку государства.
Ну почему так? Когда с годами в человеке выкристаллизовываются проблески мудрости, кое-какого опыта – в организме, ровно пропорционально, накапливаются мерзкие болячки. Нервы изношены в страстях, которые – сейчас понимаешь – выеденного яйца не стоили. У кого-то зашкаливает давление. У кого-то прокуренные дырявые лёгкие с хрипом качают воздух. У кого-то печень вымочена в дрянном спирту.
И кидаешься запоздало, лихорадочно себя ремонтировать. Завязываешь курить и пить, садишься на диету, выписываешь газету «ЗОЖ». В еду, по совету Елены Малышевой, обильно включаешь лук и чеснок: чистят сосуды. Потом ходишь, благоухаешь. Но – «у женщины, от которой плохо пахнет, нет будущего» (не дословно, сказал кто-то из французов).
Об этом Малышева не думает. Или думает: какое может быть будущее у пенсионерки с пенсией 7 тысяч рублей? С точки зрения государства – человеческий навоз. Слабо утешает, что прежде чем превратиться в навоз, успеешь побыть овощем, растением. Баклажаном или розой. Лучше розой. Хотя родным всё равно, кем ты себя, восседая на судне, воображаешь: баклажаном ты или розой. Растение, оно и есть растение.
Лена служила в музее при ликёро-водочном заводе. Каждое добропорядочное предприятие должно иметь свой музей истории: с чёрно-белыми и цветными фотографиями, с грамотами и дипломами, с вымпелами и ценными подарками.
Их завод – не исключение. У каждого музея – своя фишка. На ликёрке, разумеется, это бутылки. Разных конфигураций, цветов, размеров и годов выпуска.
Как во всех музеях, здесь тоже борются за посещаемость. Проводят мероприятия, например, «Ночь в музее». Сгоняют студентов, зажигают свечи, чтобы по стенам колыхались тени. Лена рассказывает байки о замурованных в винных погребах купцах. Об утопленных в чанах, но не выдавших профессиональных секретов виноделах и пивоварах. О бесследно исчезнувших в подвалах экскурсантах, о привидениях и прочей чертовщине…
Лена в прошлом комсорг, у неё два высших образования. Ей мучительно неловко, неудобно ломать эту комедию. Но – планы, посещаемость…
Вообще, Лене хотелось бы служить в музее благородных вин: с настоящими легендами, с рецептами изготовления… Такие вина пьют, любуясь драгоценным рубиновым или аметистовым оттенком. Вдыхают сложный букет, вобравший аромат солнечных виноградников. Смакуют редкую вкусовую гамму, звенят тонким стеклом бокалов, произносят изысканные тосты.
…«Вздрогнули!» «Поехали!» «Понеслись!» «Жахнули!» «Чпокнули!» «Дерябнули!» «Ну, желаю, чтобы – все!»
Какие напитки – такие и тосты, и восклицания, и собеседники (собутыльники). Какая история может быть у сорокаградусной водки – грубо говоря, разбавленного спирта, ещё грубее – легализованного государством жёсткого наркотика? Утренние сотрясения унитаза, цирроз, мордобои, поножовщина, грязные окровавленные трупы… Питьё не для услаждения, а для оглушения башки, чтобы забыться от беспросветной жизни.
Укутанная в кофточку и шаль (холодрыга жуткая!), Лена последние дни досиживает на своём рабочем месте. На её место назначена продвинутая девчонка из культпросвета. Уж она будет лихо проводить «ночи в музее», не пряча глаза и не блуждая вымученной улыбкой.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.