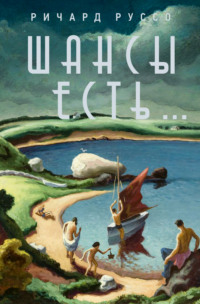Полная версия
Эмпайр Фоллз
Забывчивое, витающее в облаках божество, признавал Майлз. Впрочем, когда Господь обращает пристальное внимание на своих проказливых детишек, они обычно заняты кое-чем похуже, нежели лазание по деревьям.
Если такой Бог и существовал и если он когда-либо опасался, как бы Майлз ни причинил себе вреда, теперь ему уже не о чем волноваться. Сколь бы многообещающим ребенком Майлз ни был, ни одной вершины он так и не покорил, и теперь, в сорок два года, он так боялся высоты, что подолгу топтался у стальных дверей стеклянных лифтов, подавляя желание уйти прочь и мешая другим войти в кабину.
– Мы же договорились, башня – не твоя забота, – сказал отец Марк.
– Вроде договорились.
Изначально идея Майлза состояла в том, чтобы самому покрасить здание церкви, а на башню кого-нибудь нанять и таким образом сэкономить приходу кучу денег, но оба подрядчика, с которыми он разговаривал насчет покраски башни, запросили за работу столько, сколько стоило бы выкрасить церковь целиком. Рассердившись на Майлза, намеревавшегося взять на себя легкую и безопасную часть работы, они дали ему понять: то, чего не хочет делать он, не хочет никто, а значит, придется раскошелиться. Их правота была для Майлза как удар под дых.
– Беда в том, – признался Майлз своему другу, – что каждый раз, когда я смотрю вверх, чувствую себя виноватым.
– А ты не смотри вверх.
– Отличный совет от духовного лица, – сказал Майлз, снова задрав голову, и в этот момент почувствовал, как на щеку упала капля.
Отец Марк тоже поднял голову, и на него тоже закапал дождь.
– Идем в ректальный дом, выпьем по чашке кофе, – предложил он. – Заодно расскажешь о своем отпуске.
С тех пор как младшеклассник Майлз перепутал “ректорский” с “ректальным”, отец Марк – хохотавший до слез вместе с Грейс Роби – предпочитал этот детский термин, хотя порой он был не совсем уместен. К примеру, тогда же, в начале лета, по окончании мессы отец Марк пригласил прихожан “угоститься лимонадом в компании с ним и ректором отцом Томом на лужайке за ректальным домом”. Ректорский дом при Св. Екатерине был одним из любимейших мест Майлза. Там было уютно и солнечно круглый год, тепло зимой, прохладно летом, но, возможно, благодарить за это следовало отца Тома – ныне пенсионера, по-прежнему проживающего в ректорском доме, – он никогда не пускал туда детей. Впрочем, мать Майлза тоже никогда не приглашали в гости, так что недоступность, вероятно, добавляла этому “ректальному” привлекательности. Все комнаты на первом этаже были просторными, с высокими потолками и большими окнами без занавесей, что позволяло прохожим подглядывать иногда за жизнью и бытом привилегированных обитателей дома. В столовой, окнами выходившей на улицу, за дубовым обеденным столом могли поместиться человек двадцать, однако когда Майлз с матерью субботними вечерами после исповеди проходили мимо, то в столовой они видели лишь отца Тома, величественно восседавшего во главе стола, и хлопотавшую вокруг него экономку миссис Домбровски. В то время в доме проживали два, иногда три священника, но по субботам отец Том любил ужинать рано, не дожидаясь, пока пастор помоложе и рангом пониже управится с возложенной на него обязанностью исповедовать по вечерам. Мать Майлза каждый раз, минуя окна ректорской столовой, роняла: “Как это грустно”, Майлз же не видел ничего особенного в происходящем и не мог понять, что так расстраивало его мать. К тому времени, когда они возвращались домой, отец Майлза, прикончив сэндвич, уже направлялся пешочком к ближайшему питейному заведению.
Юному Майлзу запретный ректорский дом, до краев наполненный теплом и светом, деревом и книгами, казался принадлежавшим иному миру, и Майлз полагал, что священники наверняка люди очень богатые. Очарованность этой профессией долго не покидала его. В старших классах он всерьез подумывал о духовном сане, а позднее иногда спрашивал себя, не упустил ли он свое призвание. Жанин задавалась тем же вопросом. В ее понимании любому мужчине с таким же сексуальным пылом, как у Майлза Роби, лучше сразу принять обет безбрачия – и дело с концом, вместо того чтобы разочаровывать бедных несчастных девушек вроде Жанин.
С отцом Марком Майлз никогда не пил кофе в столовой, так восхищавшей его в детстве, друзья предпочитали кухню с уютным закутком, отведенным для завтраков и напоминавшим такие же закутки со столиками и мягкими скамьями в “Имперском гриле”. Отец Марк водрузил блюдо с печеньем на пластиковый стол и налил им обоим кофе. Сентябрь только начался, но воздух, проникавший сквозь тюлевые шторы, уже был осенним. Дождь прекратил моросить, стоило приятелям войти в “ректальный” дом, тучи, однако, не рассеялись. Сумерки наступали все раньше, укорачивая время, годное для покрасочных работ. Обычно Майлзу удавалось уйти из “Гриля” до трех, но пока он переодевался и устанавливал лестницу, проходило не менее получаса. В пасмурные дни к шести часам дневной свет мерк и работу приходилось заканчивать. Впрочем, главным виновником медленного продвижения малярных работ был не укорачивающийся день, но длительные беседы за кофе с отцом Марком, усаживавшимся на диванчик напротив Майлза.
– Судя по твоему виду, отпуск пошел тебе на пользу, – заметил отец Марк.
– Так и есть. И в бухте Винъярда имеется симпатичная церквушка. Я ездил туда на утренние мессы. А что еще лучше, Тик составляла мне компанию.
В разводе родителей одно хорошо, заявила однажды Тик, теперь ей, по крайней мере, не надо ходить в церковь, поскольку мать переметнулась из католицизма в аэробику. Тик причисляла себя к агностикам, чья философия позволяла ей спать по воскресеньям допоздна. У Майлза хватало ума не тащить ее силком в церковь, и в отпуске он на нее не давил, и тем приятнее ему было, когда она, полусонная, вылезала из постели, чтобы ехать с ним. К концу мессы Тик окончательно просыпалась, и, угостившись маффинами в уличном кафе, они отправлялись обратно на побережье к Питеру и Дон, чтобы проваляться остаток дня на пляже. Вернувшись в Мэн, Майлз спросил дочь, не собирается ли она вновь ходить на мессы, коли уж за неделю снова к этому привыкла, но Тик покачала головой. На Мартас-Винъярде, сказала она, как-то легче верить в Бога или хотя бы в возможность его существования, чем в Эмпайр Фоллз. Майлз понимал, что она имеет в виду и откуда берется ее горькая ирония. Добрую половину автомобилей на парковке у винъярдской церкви составляли “мерседесы” и “лексусы”. Неудивительно, что их владельцы верили в Бога и райские небеса.
– И конечно, – добавил Майлз, – Питер и Дон непрерывно ее баловали.
– Даже больше, чем ты?
– Куда мне до них, – ответил Майлз, жуя печенье. Забавно, но никогда у него так не разыгрывался аппетит, как в конце дня на кухне при церкви. В ресторане, целый день окруженный едой, он часто забывал поесть, тогда как здесь, не одергивай он себя, прикончил бы все печенье. – Либо столь же непрерывно, как баловал бы ее я, имей на то средства. На самом деле баловали нас обоих. Хорошая еда. Бутылка вина за двадцать долларов каждый вечер.
– Наверное, странно было оказаться там без Жанин.
– Ее приглашали. – Майлз с удивлением услыхал нотку обиды в своем голосе.
– Да, ты говорил.
– Мне и без нее было чем заняться. Перед их домом частный пляж, и женщины там через одну купаются голышом. Подозреваю, без нас Питер и Дон поступают так же. Линию загара у Дон я так и не обнаружил.
– А у Питера? – поинтересовался отец Марк. – У него была линия загара?
– Мне и в голову не пришло посмотреть, – рассмеялся Майлз.
– Ты истинный манихеец, Майлз, – улыбнулся в ответ отец Марк. – С утра несешься на мессу, а днем отыскиваешь линию загара у жены твоего друга. Ладно, чем они сейчас занимаются?
– Пишут сценарии для комедийных сериалов. Через неделю запрут дом и вернутся в Лос-Анджелес. Видел бы ты этот дом, где они живут всего два месяца в году, а в промежутке он стоит пустой.
Отец Марк молча кивнул. Зная о политических взглядах священника, Майлз не ждал, что он вознесет хвалу личному обогащению и уж тем более экстравагантностям консьюмеризма.
– Питер, между прочим, сказал одну любопытную вещь, – продолжил Майлз вопреки ранее принятому решению никому об этом не рассказывать. – Он сказал, что их с Дон поражало, что мы с Жанин так долго держимся друг за друга, учитывая, насколько нам обоим было плохо. Они много лет восхищались нашими упорными попытками наладить семейную жизнь.
– Не забывай, – усмехнулся отец Марк, – в Лос-Анджелесе бытует мнение, что супружеские проблемы плохо поддаются урегулированию, а значит, не стоит тратить на это время.
Майлз пожал плечами:
– Может, они правы… Но меня больше удивило то, какими нас видели со стороны.
– Неподходящими друг другу, хочешь сказать?
– Не только, – после паузы ответил Майлз. – Прежде всего, несчастными. Но я не был таким уж несчастным… или не понимал этого. И очень странно, когда твои друзья приходят к таким выводам. То есть если я был настолько несчастным, то наверное, и чувствовал бы себя соответственно?
– Наверное, – сказал отец Марк. – Но необязательно.
– Жанин понимала, – вздохнул Майлз. – Надо отдать ей должное. Во всяком случае, она понимала, каково ей.
В этот момент в коридоре послышалось шарканье тапок без задников. Отец Марк закрыл глаза, словно у него начиналась мигрень. Секунду спустя отец Том с растрепанными волосами, свернутым набок священническим воротничком вошел в кухню и свирепо уставился на Майлза.
– Садись с нами, Том, – предложил отец Марк, несомненно в надежде избежать свары. – Я сделаю тебе горячего какао, если пообещаешь хорошо себя вести.
Отец Том обожал какао, особенно когда не надо было самому его готовить, но жажда иного сорта – поскандалить от души – пересилила.
– Что делает здесь этот нечестивый выродок? – взревел отец Том.
Майлз, также стремившийся задобрить старого священника, попытался встать, чтобы пожать ему руку, но подняться на ноги оказалось не так-то просто, поскольку и стол, и диван были прибиты к полу.
– Том, это не выродок нечестивый, – невозмутимо произнес отец Марк. – Это Майлз, наш преданнейший прихожанин. Ты крестил его и венчал его родителей.
– Я знаю, кто он, – не унимался отец Том. – Он мудозвон, а мать его была шлюхой. Я ей так и сказал.
Майлз опустился на диван. Старик не впервые, едва завидев Майлза и бог весть чем возбужденный, принимался поносить его, но его покойную мать он прежде не оскорблял. Разумеется, это было очередным проявлением старческого слабоумия, и, однако, второй раз за день у Майлза мелькнула мысль: как приятно было бы отправить кое-кого в мир иной. Теперь уже священника.
– Ты только посмотри на него. Посмотри на его лицо. Он знает, что я говорю правду, – продолжил отец Том, глядя на заляпанную краской спецовку Майлза. – Он грязный дегенерат, вот кто он такой. И он тащит грязь в мой дом.
Отец Марк вздохнул:
– Ты кругом не прав, Том. Во-первых, это не твой дом.
– И мой тоже.
– Нет, дом принадлежит приходу, как тебе отлично известно.
Отец Том, казалось, размышлял о несправедливости подобного положения вещей, но в конце концов махнул рукой.
– И Майлз не дегенерат. А краска на нем, потому что он красит церковь для нас, разве ты забыл? За бесплатно.
Отец Том покосился сперва на своего коллегу, потом на Майлза. Старик славился прижимистостью, и сообщение о дармовой услуге должно было его утихомирить, тем не менее он по-прежнему злобно пялился на гостя, словно давая понять: добрым деянием не замаскировать фундаментальную нечестивость Майлза.
– Может, я и стар, – сделал великодушное допущение отец Том, – но мудозвона я распознаю на раз.
Потеряв терпение, отец Марк соскользнул с дивана, взял старика за плечи и мягким, но решительным движением развернул к себе лицом:
– Том, посмотри на меня. – Старик продолжал испепелять Майлза взглядом, и тогда отец Марк, ухватив кончиками пальцев щетинистый подбородок старика, повернул его голову к себе. – Посмотри на меня, Том. (В итоге старик так и поступил, и вмиг выражение его лица изменилось, возмущение уступило место стыду.) Том, – спросил отец Марк, – помнишь, о чем мы с тобой говорили накануне? (Если старик и помнил, то виду не подал, взирая на отца Марка красноватыми мутными глазами.) Мне жаль, что сегодня ты не очень хорошо себя чувствуешь, но подобное поведение недопустимо. Ты обязан извиниться перед нашим другом.
Майлзу отец Том напоминал нашкодившего мальчишку, покорно внимавшего увещеваниям строгого и любящего родителя, хотя и не понимающего, что такого дурного он совершил. Он обернулся к Майлзу, желая оценить, достоин ли этот человек извинений, затем опять уставился в суровые глаза отца Марка. Так священники простояли довольно долго, и Майлз уже не знал куда деваться, пока отец Том в конце концов не обратился к нему:
– Прости меня.
– Конечно, отец Том, – с облегчением выпалил Майлз. – Я тоже прошу прощения. – И ему было за что извиняться. Приятно или нет, но убивать престарелого священника определенно нехорошо, а значит, и желать этого тоже плохо.
– Ну вот, – сказал отец Марк, – так-то лучше. Мы же все друзья, и ссориться нам ни к чему.
Отец Том явно находил это утверждение крайне сомнительным, он опять впился глазами в Майлза, потом тряхнул головой и зашаркал прочь из кухни. Майлзу показалось, что он услыхал, как старик, выйдя в коридор, обронил: “Мудозвон”.
Отец Марк смотрел на дверной проем, пока не стихло шарканье тапок. И лицо его не светилось бесконечным терпением, что несколько противоречило его сану.
– Все нормально, – заверил его Майлз. – Мы ведь с отцом давние знакомые. А теперь он просто не в себе.
– Ты так считаешь?
– Он же не виноват, что несет всякую чушь.
– Понятно, что не виноват, – кивнул отец Марк, – но это еще ничего не объясняет. Я вот чего не могу уразуметь: каким ветром, по-твоему, подобную чушь занесло в его голову?
– Ну…
– Оставь, – улыбнулся отец Марк. – Это вечный вопрос, и ответ на него ищите в Книге Бытия. И все же прости за то, что он здесь наговорил. Бог весть, что творится в его голове. Скорее всего, он и не помнит твоей матери.
Майлз заставил себя рассмотреть такой вариант. Верно, старик теряет разум. Но проблема в том, что окончательно он еще его не потерял, и – особенно в те минуты, когда отец Том гневался, – в глазах его светились ум и памятливость.
– Признаться, в последнее время я часто о ней думаю, – сказал Майлз и добавил: – Сам не знаю почему. – Хотя на самом деле знал. Винъярд навеял ему эти мысли, и так случалось каждое лето.
На улице снова закапал дождь, гуще и настойчивее из потемневших туч. Майлз отодвинул пустую кофейную чашку к середине стола:
– Похоже, не поработать мне сегодня. – С этими словами он выбрался из-за стола. Блюдо с печеньем каким-то образом опустело, и Майлз ощутил, как последняя порция тяжело продирается по пищеводу.
Приятели вышли на крыльцо, постояли, слушая дождь.
– Сколько еще дней тебе понадобится на северную стену? – спросил отец Марк, оглядывая церковь.
– Дня два, – ответил Майлз. – Например, завтра и послезавтра, если небо прояснится.
– И на этом стоит закончить, – сказал отец Марк. – Из епископата доносятся тревожные слухи. Возможно, очень скоро нас лишат работы. Подозреваю, до сих пор нас не трогали исключительно из-за бедняги Тома.
Уже более года поговаривали, что приход Св. Екатерины объединят с церковью Сердца Христова, находившейся на другой стороне города. Некогда изобиловавший католиками в числе, оправдывавшем содержание двух приходов, Эмпайр Фоллз утрачивал религиозное рвение вместе с населением. Ныне же единственная причина существования двух католических церквей заключалась в том, что церкви Сердца Христова, или Сакре-Кёр, как ее до сих пор называло большинство франкоговорящих прихожан с канадскими корнями, требовался пастор, владеющий французским. Иначе приходы объединили бы много лет назад. Отец Марк догадывался, что в этом тесте на выживание победит Сакре-Кёр, а его, молодого священника, куда-нибудь переведут. Он не говорил по-французски, тогда как отец Тибидо был двуязычным.
Предстояло лишь решить, что делать с отцом Томом. Обителей для престарелых, отошедших от дел и часто тяжело больных священников имелось достаточно, но старческое слабоумие отца Тома, проявлявшееся то в сквернословии, то в прямом богохульстве, смущало епископат: уместно ли помещать отца Тома среди дряхлого, но в целом нормального духовенства, при том что большинство из них прослужило достаточно долго и столь же плодотворно, чтобы в последние годы жизни подвергаться испытанию веры со стороны выжившего из ума старика, чье любимое словечко – “мудозвон”. Вдобавок отцу Марку удается справляться со старым священником, прожившим в ректорском доме Св. Кэт сорок лет и чувствовавшим там себя как дома. В некотором смысле это и был его дом, на чем он сам настаивал. Опять же, бытуют слова и повредоноснее, чем “мудозвон”, и если епископат попробует переселить отца Тома, то, возможно, он начнет эти слова активно употреблять. Его болтовня уже побудила некоторых прихожан Св. Екатерины сменить веру – одни примкнули к протестантам, другие к агностикам, и епископ не желал рисковать: не ровен час, отец Том собьет с пути истинного и кое-кого из священников. Нет, в епископате возобладало мнение, что ситуация с отцом Томом у них под контролем, и до недавних пор они не выказывали ни малейшего намерения выпустить старика из карантина.
– Как думаешь, куда тебя назначат? – спросил Майлз.
– Представления не имею. Подозреваю, они думают, что еще недостаточно меня наказали.
Отец Марк защитил докторскую по иудаизму, и самым подходящим местом для него был бы Центр Ньюмана при колледже или университете. Именно в таком качестве он работал в Массачусетсе, пока не совершил ошибку, присоединившись к группе активистов, перелезших через забор военного объекта в Нью-Гэмпшире, где их арестовали за то, что они стучали по неуязвимой броне атомной подлодки молотками с круглым бойком, – действо, которое отец Марк счел символическим, но начальник базы, буквалист, истолковал как саботаж и госизмену. Не то чтобы участие в протесте было единственным прегрешением отца Марка. Кроме преподавания и пасторского служения в университетском Центре Ньюмана, по воскресеньям он вел вечернюю радиопередачу и однажды довел епископа до белого каления, порекомендовав в ответ на звонок молодого человека моногамию для двух любящих сердец, “независимо от сексуальной ориентации” звонившего, и вдобавок напомнив о бесконечном понимании и милосердии Господнем. А что обычно происходило с молодыми, чересчур образованными и, по слухам, голубыми священниками, посещавшими сомнительные студенческие вечеринки и раздававшими либеральные советы? Им приказывали собирать вещички и ехать куда-нибудь вроде Эмпайр Фоллз в штате Мэн – вероятно, в надежде, что там Господь Бог навеки отморозит их заблудшие члены.
– Надеюсь, ничего хуже они для тебя не найдут, – сказал Майлз, силясь вообразить, что может быть хуже.
Отец Марк пожал плечами, разглядывая наполовину окрашенную церковь.
– Тебя не обидят, пока ты сам этого не допустишь. Во всяком случае, я не жалею, что приехал к Святой Кэт. Она всегда была умницей. И мне выпал шанс подружиться с тобой.
– Да, мне тоже, – откликнулся Майлз и добавил почти без паузы: – Интересно, что с ней станет?
– Трудно сказать. Иногда эти прекрасные старинные церкви выкупают и превращают в театры, арт-центры или что-нибудь в таком роде.
– Вряд ли здесь это выгорит, – сказал Майлз. – Искусством в Эмпайр Фоллз интересуются еще меньше, чем религией.
– Однако заканчивай северную стену – и баста. В городе есть что красить – например, очередную баптистскую церковь.
Дом на Лонг-стрит, в котором он вырос, уже год как был выставлен на продажу, и Майлз, припарковавшись на другой стороне улицы, пытался представить, кто мог бы купить этот дом в его нынешнем состоянии. Заднее крыльцо, опасно прогнившее еще в его детстве, убрали, но не заменили; на тех местах, откуда его выдрали, осталось четыре уродливых, не закрашенных шрама. Всякому, кто выходил через заднюю дверь, – а Майлз только так и делал – предлагалось спрыгивать с шестифутовой высоты в заросли ядовитых на вид сорняков с вкраплениями ржавых колесных колпаков. Сам дом посерел от старости и небрежения, а его парадное крыльцо причудливо кренилось в разные стороны, словно дом возвели на разломе. Даже табличка “ПРОДАЕТСЯ”, торчавшая на террасе, и та покосилась.
После смерти матери дом поочередно снимало несколько семей, и никому из них явно было не нужно ни беречь дом, ни даже предотвращать разруху. Впрочем, справедливости ради признавал Майлз, разруха началась еще при семействе Роби. На улице, некогда ухоженной и населенной средним классом, их жилье и соседнее, где обитали Минти, стали первыми ласточками, возвестившими упадок всего района. Отец Майлза, подрабатывавший малярными работами, всячески увиливал от покраски дома, где жил сам. Летом он трудился на побережье и к октябрю объявлял себя “одуревшим от краски”, хотя порой его вынуждали потрудиться с недельку, когда домовладелец, скостивший им арендную плату в обмен на обещание содержать дом в порядке и приличном виде, начинал предъявлять претензии или грозить выселением. Возмущенный столь буквальным толкованием договоренности с хозяином, Макс в отместку окрашивал стены снаружи в десятки самых разных и в основном несочетаемых оттенков, черпая из многочисленных полупустых банок с краской, присвоенных им на летних подработках. Погреб у Роби всегда был забит этими огромными банками с покореженными крышками, а на отсыревших гниющих полках высились бутыли со скипидаром, запах которого зимой обволакивал весь дом. Когда Майлз учился в четвертом классе, приятель спросил его, каково оно, жить в смешном доме, и Майлз переадресовал этот вопрос не отцу, ответственному за балаганный вид их жилья, но матери. Та сперва вспыхнула, потом закусила губу, словно едва сдерживала слезы, после чего рванула в свою комнату, с треском захлопнула дверь и разрыдалась. Позже, с заплаканными глазами, она постаралась объяснить Майлзу, что главное в доме то, что внутри (имея в виду любовь, надо полагать), а не то, что снаружи (краска, желательно одинаковая), но вечером, лежа в постели, Майлз слышал, как родители ругались, и с тех пор Макс уже никогда не красил их дом. Теперь же арлекиновая пестрота красок выцвела и потускнела до ровного серого.
Майлз простоял напротив дома не более минуты, глядя на темное, незашторенное окно, за которым его мать начала свой марш к смерти, когда из-за угла двумя кварталами выше вырулила патрульная машина и, прибавив скорости, рванула к Майлзу и затормозила так резко, что едва не стукнулась бампером о решетку радиатора “джетты”. За рулем сидел молодой полицейский, Майлзу не знакомый; выйдя из автомобиля, он надел темные очки, хотя небо было затянуто тучами. Майлз опустил оконное стекло.
– Ваши права и регистрация, пожалуйста, – произнес молодой коп.
– А в чем проблема?
– Права и регистрация, – повторил коп жестче.
Майлз выудил из бардачка регистрационное свидетельство и вместе с правами протянул их в окошко. Полицейский прикрепил обе бумажки к планшету и сделал пару пометок.
– Вас не затруднит объяснить, что вы здесь делаете, мистер Роби?
– Затруднит.
Майлзу совершенно не хотелось вдаваться в объяснения, которые в любом случае прозвучат неубедительно. Что он мог сказать? Полоумный старый священник обозвал его мать шлюхой, и поэтому он отправился взглянуть на дом, где вырос, будто его мать, скончавшаяся двадцать лет назад, до сих пор поджидает его на крыльце в кресле-качалке? Такого рода история вряд ли удовлетворит человека, испытывающего потребность надевать солнцезащитные очки на исходе пасмурного дня.
– И почему же, мистер Роби? – Майлзу этот вопрос показался дурацким, и он не ответил. Молодой коп опять нацарапал что-то на своем планшете. – Может, вы не расслышали вопрос?
– Я каким-то образом нарушаю закон?
Настала очередь копа погрузиться в молчание. С минуту он игнорировал Майлза, очевидно давая понять, что тоже умеет играть в молчанку.
– Вам известно, мистер Роби, что вы находитесь за рулем незарегистрированного средства передвижения?
– Разве я вам не показал регистрацию?
– Она уже месяц как просрочена.
– Я этим займусь.
Коп как бы пропустил ответ Майлза мимо ушей, ткнув пальцем в талон техосмотра на ветровом стекле:
– Техосмотр также давно просрочен.
– Вероятно, мне и этим придется заняться.
Снова не отреагировав на реплику Майлза, полицейский осведомился так, будто спрашивал впервые:
– И что же вы здесь делаете, мистер Роби?
– Когда-то я жил вон в том доме, – Майлз указал, в каком именно, – давно. Но больше там не живу.