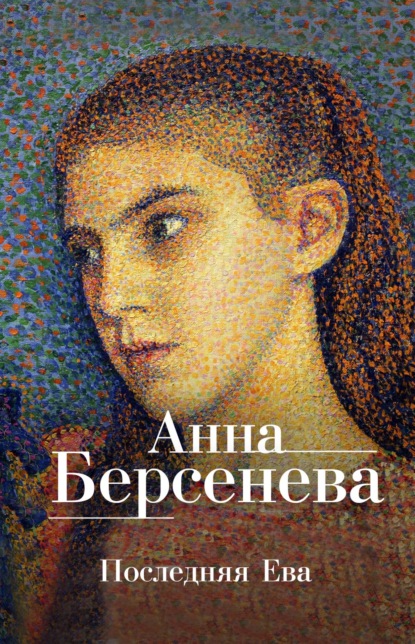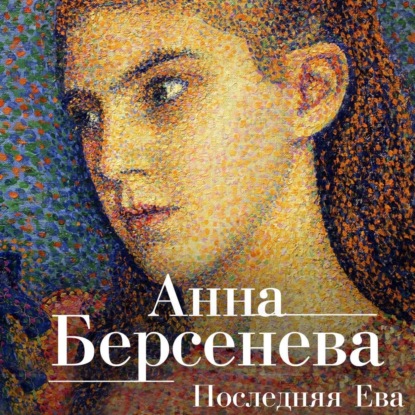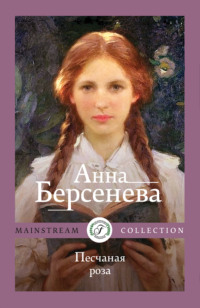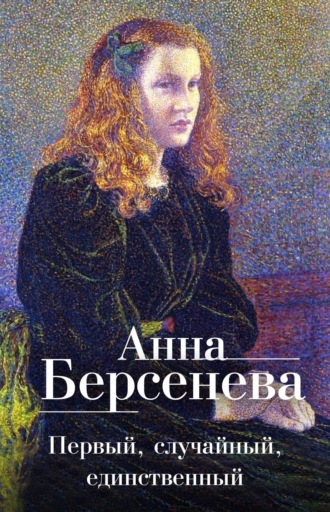
Полная версия
Первый, случайный, единственный
Небесные шахматы так взбудоражили Полину, что захотелось поговорить с Игорем еще о чем-нибудь. Например, о том, как она протирала сегодня мозаичную столешницу, и от серого налета освобождался, становился все яснее и прекраснее тот самый узор, которого она добивалась, и сердце у нее билось так быстро, что даже горло вздрагивало…
Но Игорь молчал, и она не стала ничего рассказывать.
«Вообще-то правильно, – подумала Полина. – Как есть, все равно не скажешь, и зачем зря воздух сотрясать?»
– Ты ел? – спросила она.
– Так ведь нечего, – пожал плечами Игорь.
– Как это нечего? – возмутилась Полина. – А суп?
– Разве есть суп? – удивился он.
– А в кастрюле что, по-твоему? – поинтересовалась она.
– Я в кастрюлю не заглядывал. Да и все равно суп разогревать надо… Я помидор съел, – вспомнил он.
«Ладно! – весело подумала Полина. – Что плохого? Суп в кастрюле не заметит, зато помидором сыт. Ха-арошенький буддист!»
Теперь, когда она целыми днями была занята своей мозаикой и, главное, этим была занята вся ее душа, Игорева непритязательность и незлобивость вызывали у нее почти умиление. Она уже с трудом вспоминала, чем же он ее так раздражал-то, отчего она сбежала из его дома. Если вдуматься, жизнь с ним являла собою одно сплошное удобство – от прекрасно оборудованной мастерской в старом саду до отсутствия чрезмерных мужских требований.
Впрочем, про отсутствие требований Полина, кажется, вспомнила преждевременно.
Игорь вдруг повернулся на своем ковре и, не вставая, обнял ее колени. Он молчал, но он и всегда молчал в те минуты, которые предшествовали сексу, и лицо почти не меняло своего выражения. И все-таки Полина чувствовала его желание – как-то застывали все черты его лица, и казалось даже, что стягивается кожа на его бритой голове.
И это желание, объектом которого была она, действовало на нее почти так же завораживающе, как небесные шахматы на светящемся в темноте экране.
Это и привязывало ее к Игорю сильнее, чем все то, что она могла бы высказать и, смеясь, легко высказывала словами.
Игорь оказался первым мужчиной, которого она привлекала как женщина. И хотя они встретились, когда Полине было уже девятнадцать лет, она была потрясена этим его влечением, которое почувствовала сразу, в первый же вечер, в Махре, и которого по отношению к себе совсем не ожидала.
Не то чтобы она считала себя некрасивой или, упаси Бог, ущербной; никаких таких комплексов у нее и помину не было. Но вот эта тяга… Полина никогда и ни в ком ее не чувствовала и даже как-то не задумывалась, почему это так. Ну, значит, она хороша другими своими – разумеется, многочисленными! – качествами, а не тем, что называется идиотским словом «сексапильность». И правда, смешно ведь считать сексапильными узенькие плечи, какие-то невнятные холмики вместо груди, ключицы как у подростка…
О том, что принято называть женской привлекательностью, она первый и последний раз слышала по отношению к себе десять лет назад и тогда, конечно, не очень поняла, но потом вспомнила с каким-то горьким недоумением.
Это было во время вечерней пьянки, которую потихоньку устроили в художественной школе бывшие выпускники, задержавшиеся после традиционной ежегодной встречи. Полинка училась тогда в пятом классе, но, наверное, атмосфера того вечера была такая доверительная, что взрослые разомлели и не обратили внимания на нескольких мелких девчонок, просочившихся в просторный класс, где все так славно выпивали.
Полина сидела на столе, куда обычно выставляли предметы для натюрморта, болтала ногами и только успевала головой вертеть, прислушиваясь к каждому слову взрослых, да не просто взрослых – настоящих художников! Они разговаривали о неизвестных ей Фаворском и Флоренском, и она пыталась сообразить, это два разных человека или один и тот же, но просто она не может толком расслышать его фамилию.
– Глянь-ка на рыженькую, – вдруг услышала она у себя за спиной мужской голос. – Не девочка, а огонек!
Она хотела обернуться, чтобы увидеть, кто это обратил на нее внимание, но почему-то постеснялась. А точнее, захотела услышать о себе еще что-нибудь такое же приятное, как это неожиданное сравнение.
– Да, ничего себе, манкая, – ответил второй голос – низкий, красивый, с ленивыми интонациями. – Кому-то давалка растет.
– Да не одному! – пьяновато хмыкнул первый. – Рыжие – блядовитые. И правильно. На что они еще годны?
– Рыжие-то? – переспросил второй.
– Да нет, все бабы. Ладно, Коля, разливай по последней, и по домам двинем.
Полина тихонько слезла со стола и, так и не оглянувшись на говоривших, вышмыгнула из класса. Было немного грустно и немного противно. Почему, она тогда не поняла, но разговор этот запомнила и уже лет пять спустя убедилась в абсолютной точности того, что было в нем с пьяной прямотой высказано.
Все мужчины, которых она встречала в бесчисленных компаниях – талантливые и бездарные, молчаливые и болтливые, умные и глупые, – воспринимали женщин вообще, и ее в частности, именно таким образом, который был очерчен теми давними словами.
Женщина должна была давать по первому требованию – это как минимум. Еще – должна была сидеть, подперев кулачком подбородок, и с восторгом выслушивать жалобы на невежество толпы или другие великие мысли, которые ей излагает высшее существо – мужчина. Ну, и как венец отношений – должна была стирать ему носки и готовить обед. За все это она могла рассчитывать не только на обузу в виде детей, но и на приятность в виде секса. Правда, все Полинины подружки, которые попробовали эту приятность не с ровесниками, а с мужчинами лет сорока, уверяли, что с этой возрастной категорией секс получается чисто символический.
– И удивляться тут нечему, – философски замечала Глюк, в бурной биографии которой имелся среди прочих как раз сорокалетний спонсор. – Прикинь, со скольки они по полной квасят. Так на сколько же их, по-твоему, трахаться хватит? Ну, десять лет, ну, накрайняк, пятнадцать, вот тебе и инвалид сексуального фронта.
Примерно к шестнадцати годам Полина с ее быстрым умом, наблюдательностью и насмешливостью окончательно уверилась в том, что отношения с мужчинами – это самое скучное, что есть в жизни. Поэтому то, что она не является для них предметом вожделения, совсем ее не угнетало. Еще бы не хватало! Мучиться не из-за того, что не знаешь, как и, главное, зачем тебе заниматься живописью, не из-за того, что графическая линия идет почти вровень с твоей быстрой мыслью и потому получается слишком бойкой, поверхностно-красивой, – а из-за того, что какой-нибудь Петя или Вася не обращает на тебя внимания назавтра после совместно проведенной ночи? Да не родился и не родится тот Петя или Вася, вниманием которого она дорожила бы больше, чем всей загадочной, глубокой жизнью, которую чувствовала в сложном, странном, полном цвета и света мире!
Нельзя сказать, что секса ей совсем не предлагали. Лешик Оганезов – тот даже теорию свою имел на этот счет. То есть не свою, а, как он с важным видом уверял, историческую.
– Вот я считаю, – излагал он однажды во время занятий в натурном классе, когда Полина еще не бросила Строгановское, – большевицкие женщины были абсолютно правы.
– Это насчет мировой революции? – усмехнулась она.
– Насчет сексуальной, – объяснил Лешик. – Была такая теория стакана воды, очень, я считаю, прогрессивная. В смысле, что потрахаться – это как стакан воды выпить. Вот ты же не откажешься товарищу стакан воды подать, правильно? Тогда какого хера в сексе отказывать?
– А у товарища, между прочим, руки не из попы растут, – отбрила Полина. – Пусть сам пойдет и воды себе нальет. Из крана. Чего это я должна ему подавать?
– Никакого у тебя, Полинка, образного мышления! – хмыкал Лешик.
Вообще-то он был совсем даже неплохой парень, и секс с ним у Полины однажды случился. Не в точности согласно теории стакана воды, но и не совсем спонтанно: ей просто неловко было оставаться последней девственницей в их бурной компании, и надо же было с кем-то попробовать, так почему бы и не с Лешиком? Он, по крайней мере, являлся сторонником также и теории безопасного секса и поэтому не пренебрегал презервативами, в отличие от других парней, которые охотно повторяли глупость про обнюхиванье цветка в противогазе, а потом не могли найти денег подружке на аборт.
Роман с Лешиком продолжался целый месяц; Полине было тогда восемнадцать лет. Закончился он так же легко, как начался. Они поехали вдвоем на дачу в Кратово праздновать Старый Новый год, и Полина промерзла до костей, пока Лешик пытался растопить печку. В конце концов она плюнула и, вспомнив, как делал это папа, растопила печку сама, но бронхит все же подхватить успела, а за время болезни их с Лешиком половое влечение как-то незаметно угасло.
Юра потом до слез смеялся, когда она рассказала ему эту историю, опустив на всякий случай сексуальную составляющую.
– Надо лучше выбирать свои знакомства, мадемуазель Полин, – заметил он. – Мужчина должен уметь растопить печку быстрее, чем его подружка замерзнет. Или, по крайней мере, догадаться согреть ее другим способом.
Но догадливых мужчин, которые к тому же умели бы растапливать печки, на ее пути что-то не встречалось. Да она и не искала, если честно.
Игорь тоже не был догадлив, и никакие печки его не интересовали, но в нем было другое…
И это «другое» – направленное на нее желание – сейчас обволакивало Полину, затягивало в незримые, но очень крепкие сети.
Она попыталась высвободиться из его объятий, но это ей не удалось. Наоборот, колени у нее подогнулись, и она села рядом с Игорем на тибетский ковер.
– Ну чего ты вдруг? – Полина уперлась руками ему в грудь. – Что так срочно?
Он опять не ответил, наклонился вперед. Она поддалась и этому его движению – легла на ковер, чувствуя, как Игорь накрывает ее сверху, как коротко дышит ей в ухо и в щеку. Дыхание у него было чистое и чуть терпкое, как зеленый чай. Да он ведь и пил все время чай – травяной, тибетский. И губы у него были сухие, мягкие, и целоваться с ним было приятно.
Он всегда раздевался перед близостью догола и раздевал ее. Даже в первый раз, в темном махринском домике, когда плясали по стенам тени от керосиновой лампы и смотрела с холста Зеленая Тара. Это нужно было, он объяснил, потому что в одежде, как и в волосах, накапливается карма, от которой перед соитием лучше избавляться. И это обнажение, пусть даже причина для него казалась смешной, было приятно. В нем было что-то чистоплотное, в самом прямом смысле этого двойного слова: чистая плоть.
На этот раз Полина разделась сама, пока, привстав, Игорь стягивал с себя шелковую рубашку и свободные кашемировые шаровары, в которых ходил дома. И когда он снова лег на нее, положил ладони ей на грудь, их уже ничего не разделяло.
Полине почему-то всегда казалось в такие минуты, что Игорь длинный. Или узкий, что ли. То есть у него действительно были узкие плечи, как и у нее самой, но вот это ощущение чего-то длинного, гибкого, гладкого, вытянутого по всему ее телу и во все ее тело проникающего, – это ощущение не было связано только с физической формой.
И ей все время хотелось провести по нему руками – обеими руками, как будто потянуться до хруста в костях после сна. Она и проводила – сначала по плечам, потом по гладкой, без волос, груди, потом по бокам, потом по бедрам… Игорь молчал, только дыхание становилось чаще и тело еще больше натягивалось, как будто принимало в себя что-то.
– Еще, Полина, еще, – вдруг проговорил он, и она даже замерла от неожиданности: кажется, это были первые слова, которые он произнес во время близости, за все их общее время первые. – У тебя очень сильная энергия от рук идет, еще…
Ей на секунду стало смешно – опять он про энергию! – но в его голосе было что-то возбуждающее, гораздо более возбуждающее, чем в гладком теле, и она согнула колени, заставив его упереться локтями в ковер и чуть приподняться над нею, и провела по его животу обеими ладонями, опуская их все ниже…
Он с готовностью изгибался, позволяя ей гладить его живот, раздвигал ноги, пуская ее ладони всюду, куда она хотела, прислонялся при этом грудью к ее груди, и она ощущала даже прикосновение его сосков к своим – очень чувственное прикосновение.
«Может, и правда – энергия?» – мельком подумала она, когда это прикосновение стало острым, как покалывание иголочек.
Но вообще-то Полина ни о чем не размышляла во время близости с ним – ни в первый раз, в Махре, ни теперь, когда спину ее щекотал мягкий ковер. Ей было легко, хорошо, она была так спокойна, что не хотелось даже дальнейшего – когда Игорь наконец уклонился от ее рук и медленно, с каким-то растянутым выдохом, вдвинул себя между ее ног, и все его тело пошло волной, как будто из него вынули кости. Точно такой же, как его тело – словно бы бескостной, но от этого не страшной и не противной, а невыразимо привлекательной, – показалась Полине обнаженная длинная рука балерины, когда она впервые увидела «Лебединое озеро».
Про то, чем все это должно заканчиваться – про бурный взрыв наслаждения, – она только читала. Или слышала от подружек, почти наверняка зная, что они врут. Впрочем, и книги наверняка врали про все эти бурные взрывы. Полина ничего такого ни разу не чувствовала, но нисколько об этом не жалела. Она точно знала, что с Игорем достигает того максимума, который возможен в близости с мужчиной, – медленного, чистого, долгого максимума удовольствия.
Конечно, у него это было иначе: действительно наступал хотя и не взрыв, но отчетливый финал, и он вздрагивал, и коротко, быстро дергался у нее внутри, а потом замирал, а потом высвобождался из ее тела и ложился рядом, отдыхая. Но ведь у него и должно было все быть по-другому, в этом не было ничего удивительного.
Все происходило быстро, легко, он вообще был легкий, тонкий в кости, и Полине нравилась вот эта мимолетность – или небрежность? – нет, не небрежность, а все-таки именно мимолетность, неуловимость, с которой все происходило.
Игорь лежал на углу ковра, странный и причудливый тибетский символ окружал его голову. Полине вдруг стало грустно оттого, что он молчит. Хотя с чего бы ей было грустить? Разве лучше было бы, если бы он, как Лешик, болтал и до, и сразу после, и чуть ли даже не во время секса? И что ей так уж сильно хотелось услышать, чего она не знала такого, что мог бы сказать ей Игорь? Историю из жизни Кармапы или что-нибудь про русскую сангху?
Полина перевернулась на живот и, положив голову на руки, снизу взглянула на Игоря. Глаза его были закрыты, красивое, с тонкими изгибами скул и губ лицо было полно глубокого покоя.
– С тобой хорошо, – не открывая глаз, вдруг сказал он, словно почувствовав ее взгляд. Да, он же и всегда чувствовал ее как-то необычно, Полину это ведь и поразило в нем сразу, когда они сидели, прислонившись спинами к гудящей изнутри махринской сосне. – Ты знаешь, пять минут с тобой дают возможность достичь того, чего даже медитацией не всегда достигнешь.
– Ишь ты! – хмыкнула она. – Изысканные у тебя комплименты. И чего же ты сейчас достиг, интересно?
– Я был бессмысленно взбудоражен. – Он открыл глаза и взглянул на нее тем своим взглядом, для которого она не знала названия и который то раздражал ее, то восхищал. – Видимо, из-за работы, которую я не хотел, но должен был сделать. И мне нужно было вернуться к себе прежнему, но это не получалось. Пока ты не пришла.
«Черт его знает, что он за человек такой! – подумала Полина. – И ведь не притворяется…»
– Я завтра сараем хочу заняться, – сказала она. – Весь его мозаикой снаружи выложить. Знаешь, оказывается, для этого даже название есть – пикасьетт. Был такой французский слесарь, лет пятьдесят назад, что ли, вот он весь свой дом мозаикой покрыл, а делал ее из всякого мусора, по-французски – из пикасьетт. – Полина сама не знала, для чего рассказывает эту историю, которую прочитала в английской книжке. Вряд ли это могло бы увлечь Игоря, не похоже было даже, чтобы он вообще прислушивался. – Над ним тогда все соседи смеялись… С тех пор техника так и называется. Можно я Зеленую Тару возьму? – вкрадчиво поинтересовалась она.
И тут же прикусила язык: пожалуй, после объяснений про мусор эта просьба выглядела довольно двусмысленно. Впрочем, Игорь не вникал в нюансы.
– Танку? Нет, – ответил он.
Ничего другого Полина, правда, и не ожидала. Еще чего, танку! С таким же – даже, пожалуй, с гораздо большим – успехом можно было попросить его отдать голову.
«Начну пока без Зеленой Тары, а там видно будет», – решила она.
Танка была ей совершенно необходима для воплощения того замысла, который вспыхнул в ней, когда она нашла в сарае кусачки, и молотки, и смальту, когда читала певучие итальянские слова и смотрела на игру света в золотых венецианских осколках. Она хотела повторить – нет, не повторить, а… Наверное, прояснить, остановить и оживить все, что происходило с нею тем махринским летом. У нее даже в груди что-то звенело, когда она думала об этом. И она чувствовала, что мозаика позволяет это сделать, потому что в ней каким-то непонятным образом, вопреки очевидности, не застывает, а проясняется таинственное движение жизни.
Когда-то беленые, а теперь облезлые, но отлично оштукатуренные стены каменного сарая позволяли изобразить на них все, что угодно. Например, то, что Полина так неожиданно почувствовала под первым Игоревым взглядом: что она готова идти с ним ночью в лес даже в полной уверенности, что заблудится в трех соснах. Это прошло довольно скоро, но ведь это было, пусть совсем недолго, и ничего прекраснее в их отношениях, в общем-то, не было…
Да и мало ли чем было наполнено то лето! Полина и сама не понимала, почему каждый его бесконечный, пронизанный счастливой ленью день впечатался в ее память так отчетливо и ясно, почему она помнит даже случайные встречи этого лета. Как ту, например, когда она рисовала на лугу, а проходивший мимо парень сказал ей какую-то веселую ерунду. Будто бы белые цветы называются чингисханчики, а сиреневые – мышиные кармашки…
Впрочем, про случайного этого встречного Полина думала с неохотой, хотя он, конечно, совсем не был в этом виноват, да он и вообще был ей никто, и думать про него было бы незачем, если бы… Если бы спустя полгода после Махры он не оказался хозяином бабушкиной гарсоньерки.
– Одевайся, пошли суп есть, – сказала она, ткнув Игоря пальцем в бок. – Или голый иди, если не замерз. Для пользы кармы или чакры твоей этой, как ее… Сахасрары!
Глава 6
«И чего я, дура, так поздно к нему вернулась? – думала Полина, перепрыгивая через подернутую ледком лужу под аркой родительского дома. – Теперь, конечно, дожди пошли, ноябрь же, скоро вообще снег ляжет! И так с погодой повезло, в октябре-то. Надо было летом возвращаться, хоть одну стену успела бы сделать. Ну ладно, весной продолжу».
Настроение у нее было под стать погоде позднего ноября. С утра почему-то болела голова, перед глазами до тошноты мелькали серые пятна.
«За компьютером надо было меньше сидеть, – решила она. – А с другой стороны, что еще сейчас делать? Хоть денег пока заработаю».
Как только погода испортилась настолько, что выкладывать мозаику на внешних стенах каменного сарая стало невозможно, Полина со вздохом взялась за работу, которая являлась для нее источником материального существования. Как она понимала Игоря, медитировавшего после окончания точно такой же, денежной, но для него совершенно неинтересной работы! Правда, Игорева дизайнерская деятельность за один присест давала ему средства как минимум на полгода безбедной жизни, а Полинины скудные халтурки требовали постоянного к ним обращения. Но она на судьбу по этому поводу не роптала – наоборот, радовалась, что эти халтурки вообще у нее есть.
Халтурками она называла иллюстрации к детским ужастикам, которые делала для одного небольшого, но довольно успешного издательства. Если бы не Игорь, точнее, не его компьютер, ничего подобного Полина делать не могла бы. Что и говорить, жить с ним было удобно во всех отношениях.
Компьютер у Игоря был такой, какой мало у кого имелся в Москве: самоновейший «Макинтош», на котором можно было вытворять чудеса. Это был родительский подарок, к тому же подарок постоянно обновляющийся. С каждой оказией Латынины присылали из Америки очередные прибамбасы, позволявшие их сыну без особых усилий находиться в авангарде компьютерного дизайна, во всяком случае, московского. К тому же Игорь закончил какие-то очень продвинутые курсы, когда год жил у родителей в Хьюстоне, к тому же обладал необычным, так восхищавшим Полину образным мышлением… В общем, о куске хлеба с маслом ему не приходилось волноваться по вполне понятным причинам. А Полина не волновалась об этом потому, что вообще не привыкла волноваться из-за такой мелочи, как наличие или отсутствие денег.
За первую неделю она наштамповала на навороченном «Макинтоше» с десяток монстриков и монстров, благо на отсутствие фантазии не жаловалась, и теперь собиралась все-таки снова заняться мозаикой, если не на улице, то хотя бы внутри сарая.
«Можно что-то вроде панно пока сделать, – рассуждала она, открывая дверь в подъезд. – А весной потом к стенкам их присобачить. Жалко же бросать, в пальцах аж свербит же!»
Правда, работать зимой в неотапливаемом сарае наверняка было бы трудновато, но это Полину не останавливало. Свет-то там есть, значит, можно включать обогреватель. Да и вообще, здоровье у нее было крепкое, и простуд она боялась еще меньше, чем отсутствия денег.
«Чего ж во рту-то так гадко? – подумала Полина, снова почувствовав на зубах что-то вроде горькой оскомины, и тут же сообразила: – Да просто у родителей давно не была, не ела по-человечески!»
Но ее надежды на вкусную и здоровую пищу развеялись, как только она переступила порог квартиры. В доме стоял какой-то растерянный кавардак, так ей сразу показалось. Папин голос доносился из гостиной – Валентин Юрьевич разговаривал по телефону, но не обычным своим, всегда спокойным тоном, а как-то встревоженно и громко. Но самое поразительное было не это… Увидев маму, быстро вышедшую ей навстречу из спальни, Полина просто остолбенела.
Никогда в жизни она не видела маму в слезах! Не зря бабушка Миля говорила когда-то, что женщин с таким сильным характером, как у ее невестки, на свете очень мало. Мама принимала удары судьбы так, как другие принимают мелкие неприятности. Полина забыть не могла, как спокойно она отреагировала на то, что ее безалаберная младшая дочь бросила Строгановское, да еще по такой для всякого нормального человека неубедительной причине, как «не знаю, зачем я этим пустым картинкам учусь, а раз не знаю, то нечего и учиться». Конечно, мама тогда возмущалась, ругала ее, даже хотела пойти в институт и лично поговорить с ректором, но ни ужаса, ни отчаяния, ни слез Полина у нее не заметила. Она тогда еще подумала: в маме есть что-то такое, что позволяет ей безошибочно определять повод для отчаяния и слез…
И вот теперь слезы текли по Надиному лицу ручьями, и она даже не пыталась их скрыть.
– Что, мам? – испуганно спросила Полина. – С кем?!
Ясно же было, что мама не станет плакать из-за чего-то, что случилось лично с нею!
– С Евой, Полиночка, с Евой! – Надя всхлипнула и все-таки вытерла щеки ладонями. – В больницу увезли, только что Артем позвонил… На улице сознание потеряла, «Скорая» увезла, и не туда, конечно, где она на сохранении лежала, и ничего толком не говорят, ничего! Деточка бедная, как же она хотела, как же… А теперь что? С самой бы все обошлось, и за то Бога надо благодарить, а уж беременность…
Мама махнула рукой.
– А Юра где? – растерянно спросила Полина.
Таким странным, таким невозможным казалось, что в эту минуту рядом нет Юры! Она была уверена: если бы он был сейчас здесь, дома, все было бы совсем иначе. Хотя что он мог бы сделать, да еще здесь, дома?
– Вот же, папа с ним и разговаривает. – Надя кивнула на прикрытую дверь гостиной. – Мы хотели сразу ехать, это в Лефортове и случилось, но Юрочка говорит, что он сначала сам, чтобы мы дома ждали. У него как раз операция закончилась, говорит, сейчас же выезжает, только далеко ведь ему от Склифа, пока доберется, но и от нас ведь далеко… А Тема там уже, – добавила она.
С того дня, когда Ева сообщила родителям о своей беременности, мамино отношение к Артему переменилось как по мановению волшебной палочки. Наверное, это тоже определялось невидимым, но очень чутким и точным барометром, который был у Нади внутри и безошибочно показывал, что в жизни главное, а что не главное.
– Ты-то почему бледная такая? – все-таки заметила она. – Представляю, что вы там едите!
– Ой, мам, сейчас не до меня, – отмахнулась Полина. – Знаешь что? – решительно заявила она. – Вы и правда дома пока побудьте, а я быстренько в Лефортово смотаюсь. Ну чего мы всей толпой туда притащимся? – добавила она, заметив мамин протестующий жест. – Сидеть пень пнем я все равно не могу, а вам мы с Юркой оттуда позвоним. Может, лекарство какое-нибудь надо будет привезти, или не знаю, что там… Клюквенный морс. В общем, ждите. Сказал Темка, где эта больница?