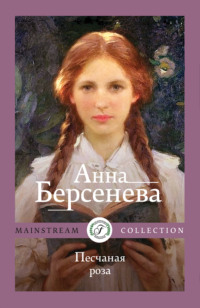Полная версия
Кристалл Авроры
Она рассеянно долистала альбом до конца. Студенческая вечеринка, и студенты выглядят гораздо взрослее, чем сейчас. Пикник сотрудников Наркомстроя, и сотрудники эти тоже кажутся старше, чем нынешние главы международных корпораций – Нэла подумала, что Илон Маск в свои сорок пять лет по сравнению с ее прадедом в том же возрасте смотрится просто мальчишкой. Женщины одеты так тщательно, как сейчас и одеваться-то неприлично… Большинство женских фотографий были не вставлены в прорези на страницах, а просто сложены стопкой в конце альбома. Интересно, что это значит – что прадед был ходок и сосчитать не мог своих женщин? Нэла перебрала снимки – все как на подбор красотки, так что ее версия о прадедовом любвеобилии, может быть, правильная.
А может быть, и нет. И никакого значения не имеет ни то ни другое, потому что всего через сто лет никто уже не помнит ни женщин этих, ни мужчин, и, разглядывая фотографии, она замечает не столько лица их, сколько шляпки.
Ей стало не по себе от этой мысли. Хорошо, что одна из шляпок оказалась эффектная, это отвлекло. Нэла видела точно такую в маленьком берлинском магазине, она называлась ягодная чалма. Надо же, в Москве тоже такие были, оказывается. Или, может, прадед из Берлина как раз и привез эту шляпку любимой женщине, или эта женщина была для него не любимой, а случайной…
Нэла поняла, что почти заставляет себя думать о каких-то старинных историях, которые сама же и придумывает, хотя по горло сыта стариной, особенно после недавнего своего погружения в палладианский мир, – а на самом деле прошлое волнует ее сейчас только до той черты, на которой она встретилась с Антоном в юности и за которую теперь пытается зацепиться, потому что не видит в своей жизни никаких других зацепок, несмотря на этот старый дом, и на эти снимки, и на разумный прадедов взгляд, снимками этими остановленный.
Глава 4
Всем родительским знакомым Нэлино решение казалось глупым. Родителям, впрочем, тоже, а вернее, они просто считали его не решением, а очередным безалаберным порывом, из которых состояла вся жизнь их семнадцатилетней дочери.
Одно дело уехать за границу в советские времена, тут и спрашивать не стоит почему, и так понятно. Но почему, а главное, зачем уезжать сейчас, когда жизнь в Москве кипит, и какая жизнь! Свободная, яркая, с миллионом всяческих возможностей.
– Если бы мне кто-нибудь в твоем возрасте предоставил тысячную долю того, что есть у тебя, я ничего другого не хотела бы, – сказала мама. – Объясни мне, пожалуйста, что ты надеешься найти в Германии такого, чего не сможешь получить в Москве?
Она не ответила, да вряд ли мама и ожидала от нее ответа. Все в семье давно смирились с тем, что Нэла и рациональность – две вещи несовместные. И зря, кстати – рациональность в ее нынешнем решении есть, и очень даже понятная.
Сколько угодно родители могут говорить про миллион открытых перед ней возможностей, но нет в этих возможностях главного – непредсказуемости. Нет и быть не может. Поступит она в МГУ, в Полиграф или в иняз, разница невелика, то есть настоящая, жизненная разница. Все равно она будет уходить утром на лекции, как раньше уходила в школу, сидеть в аудитории, а потом где-нибудь в кафе с однокурсниками, которые будут ей понятны так же, как понятны были одноклассники, потому что они точно такие же, как она сама, выросли в точно таких же семьях, читали те же книжки, занимались в том же самом художественном кружке при Музее изобразительных искусств имени Пушкина, и после занятий она будет точно так же, как всю свою прежнюю жизнь, возвращаться домой, где ее ожидает обед, если приходила Валентина, или не ожидает, если в этот день хозяйство было предоставлено маме, и в том будет единственное различие дней ее жизни – в обеде!
При одной мысли об этом у Нэлы скулы сводило от скуки. И она была на все готова, чтобы выскочить из колеи, проложенной множеством ее заботливых предков за сто лет до ее рождения, если еще не раньше. Но в Москве это точно было невозможно, значит, надо было уехать из Москвы.
Рисовала Нэла посредственно, слух у нее был не абсолютный, а самый обыкновенный, но способность к языкам феноменальная. Это выяснилось. когда ей было пять лет. В доме был граммофон, к нему пластинки, одна из них с дореволюционными детскими песенками на разных языках. Нэла прослушала ее раз двадцать подряд, после чего пересказала содержание всех песенок по-русски. Среди гостей, перед которыми она это проделала, нашлись знавшие английский, немецкий, французский, итальянский и даже португальский, так что точность перевода была подтверждена. Потрясенные родители немедленно взяли для нее учителей – с португальским решили погодить, а английским, немецким, французским и итальянским она к окончанию школы владела свободно.
И что же могло остановить ее в стремлении вырваться из расчисленной московской жизни? Да абсолютно ничего!
Больше всего Нэле, пожалуй, хотелось в Италию, но никакой программы, по которой туда можно было бы попасть сразу после школы, она не нашла. А ей нужно было именно сразу – она сгорала от нетерпения и догадывалась, что каждый следующий год таит в себе опасность того, что ее пыл угаснет. Или нет такой опасности? Как бы там ни было, проверять это Нэла не собиралась, поэтому решила ехать в Бонн, где обнаружились подготовительные курсы, после которых можно было учиться в любом университете Германии.
В Бонн она и плыла теперь по Балтийскому морю.
То есть корабль шел, конечно, не в Бонн, а в Гамбург, дальше Нэле предстояло добираться посуху, и она чувствовала себя как вольный птицелов из любимого маминого стихотворения – вот сейчас сойдет на берег и отправится вдоль по рейнским берегам. Энергия била в ней через край, и с удовольствием она пошла бы к месту назначения пешком!
Но до этого должно было пройти еще немало времени, потому что корабль не просто доставлял пассажиров из Петербурга в Гамбург – он назывался «Культурная миссия» и по дороге должен был заходить в разные порты, чтобы эту миссию выполнять. Собственно, потому родители и пристроили на него Нэлу, решив, что девочке будет полезно оказаться среди интересных людей, занятых интересным делом.
Но выйдя в первый же вечер из своей каюты, Нэла подумала, что родители чего-то не поняли.
Первым, кто ей встретился на палубе, была женщина лет пятидесяти в длинном лазоревом сарафане, расшитом по подолу алыми цветами. К ее волосам была прикреплена длинная коса соломенного цвета, именно прикреплена, прямо заколкой пришпилена и для верности прижата кокошником. Нэла подумала, что это артистка, которая будет участвовать в концерте, но оказалось, что женщина идет в таком странном наряде на ужин. По дороге она сообщила Нэле, что повар здесь настоящий француз, поэтому кормить будут изысканными блюдами. Она сидела за соседним столом, и Нэле было видно, как узорчатая кайма на ее широких рукавах окунается в тарелку с консомэ, когда она тянется за очередным куском хлеба; ела она его так много, как будто пережила голод. Или, может, в самом деле пережила? Нэла не удивилась бы, очень уж необычно выглядела эта дама с помятым лицом и в одежде Василисы Прекрасной.
Правда, присмотревшись, Нэла поняла, что и остальные ее спутники выглядят ничуть не лучше. Или не хуже? Определить это она не могла, но разглядывать их было ужасно интересно.
По палубе ходили мужчины в шароварах и в фуражках, назывались они казачьим хором и вечером после ужина действительно принялись громко петь про есаула, мамку да ветлу.
На противоположной от хора стороне палубы какая-то женщина с лицом то ли алкоголички, то ли уголовницы, стоя рядом с телеоператором, брала интервью у другой женщины, похожей на нее как родная сестра.
– СПИД и онкологию по фотографиям тоже лечу, – говорила та. – Использую только полароидные снимки, они энергетику личности сохраняют.
На шее у нее висела большая дощечка с портретом старухи в цветочном венке, и она время от времени к этой дощечке прикасалась, будто в доказательство своих слов.
Из репродуктора доносился голос:
– Граждане миссионеры, первая смена питания закончилась, приглашается вторая! Те из вас, кто желают креститься, то есть стать христианами, могут прийти в корабельную церковь к двадцати одному часу.
«Сумасшедший корабль», – подумала Нэла.
Дома было много журналов, и в одном из них, совсем старом, довоенном, она прочитала роман с таким названием. Но в романе так называли Дом искусств на берегу Мойки, жили в нем после революции художники и поэты. А здесь она увидела самых настоящих сумасшедших, собравшихся на самом настоящем корабле.
Если бы Нэла оказалась в такой компании дома на Соколе, то посмеивалась бы, наблюдая за происходящим. Вообще-то она в ней и оказывалась – не в такой, конечно, яркой, но в похожей, потому что папа хоть и работал в реалистической манере, но художники среди его знакомых были разные, и Нэла с детства знала, какими странными бывают талантливые люди. Но одно дело смотреть на странных людей со стороны и знать, что на твою жизнь они никак не подействуют, и совсем другое – с головой окунуться в их жизнь, стать ее частью.
Может быть, ощущение погруженности в чужую жизнь усиливалось от того, что кругом было море со стального цвета волнами до горизонта, но все-таки Нэла смутно понимала: дело не в море, а в чем-то другом… От неясных размышлений ей становилось не по себе и даже почти что страшно, хотя она была не робкого десятка.
И в таком вот необычном для себя состоянии проводила она время на этом странном корабле.
Правда, на нем постоянно что-нибудь происходило, и это отвлекало от смутной тревоги.
Назавтра после отплытия у десяти человек пропали из кают чемоданы. Поднялся переполох, пропажу искали, но понятно было, что чемоданы вряд ли обнаружатся – скорее всего, их выпотрошили и выбросили в море. Целительница, лечащая СПИД по фотографиям, сняла с шеи дощечку с нарисованной женщиной и, усевшись на корточки посреди палубы, принялась ей молиться. Слова молитвы были непонятны, но к вечеру она объявила, что содержимое чемодана, хоть и не полностью, ей подбросили к порогу каюты, а это означает, что ее молитва услышана, потому что больше никому ничего не вернули.
Тем же вечером Нэла увидела на палубе неподвижно стоящего мужчину, который, как пленный партизан, держал в руках картонку с надписью «Я хочу на Родину».
– Ты к нему близко лучше не подходи, – сказала ей буфетчица в столовой. – Мало ли что человеку в голову придет, от душевного-то переживания.
Нэла засмеялась, но вообще-то ей было тоскливо и хотелось домой уже, пожалуй, не меньше, чем человеку с картонкой.
Мир был огромен, как море, и так же, как море, безразличен к ее существованию. Наверное, это и всегда было так, но никогда она этого не сознавала и никогда не чувствовала себя в огромном этом мире такой одинокой. Это было настоящее одиночество – не когда сидишь одна в своей комнате и слушаешь, как дождь стучит по крыше, разглядываешь картины в альбоме, мечтаешь о чем-нибудь таком же прекрасном, таком же неуловимом, как прикосновения кисти, от которых появляются на холсте виноградники Арля или осенние стога Плеса, – а когда знаешь, что ни одному человеку из тех, до которых ты можешь вот прямо сейчас дотронуться рукой, нет до тебя никакого дела, и от этого не верится уже, что хоть кому-нибудь есть до тебя дело вообще, и добрый, любящий тебя мир кажется призрачным, не существующим…
Солнечный круг коснулся воды, золотые и алые дорожки побежали по волнам. Не отводя взгляда от играющего света, Нэла шла вдоль борта. Сейчас, на закате, одиночество особенно тяготило ее, и она обрадовалась, услышав голоса.
Среди всех странностей этого корабля была еще и та, что Нэла, всегда чрезвычайно общительная и легко сходившаяся с людьми, никак не могла подружиться ни с кем из его обитателей. Почти все они держались кучками и изнутри этих своих кучек смотрели настороженно и враждебно; она не понимала, почему. А те, которые, наоборот, были открыты любому, не вызывали у нее ни малейшего желания узнать их поближе. Целительница, например, была как раз из таких – в первом же разговоре она доверительно сообщила, что до Нэлиного возраста была самым обыкновенным человеком, а потом ее забрали на астероид и вернули через пять лет уже с теми способностями, которые имеются у нее теперь. После того первого разговора Нэла обходила ее за версту, чтобы как-нибудь не нарваться на второй.
Но сейчас из-за поворота палубы доносился явно не голос целительницы. А когда Нэла миновала этот поворот, то увидела двоих казаков. Один сидел на скрученном канате, другой на каком-то брусе, между ними было расстелено полотенце, на полотенце лежали крошечные пирожки, которые давали сегодня к ужину, стояла начатая бутылка водки и два уже наполненных стакана. Казаки сняли фуражки, в которых ходили постоянно, и стало понятно, что оба они лишь чуть старше Нэлы.
– О! – увидев ее, обрадовался тот, что был фигурой пошире. – Водку пьешь?
– Не-а, – ответила Нэла.
От вида этих крепких парней, даже от вида их водки, в которой поблескивали закатные искорки, ей почему-то стало веселее.
– Зря, – заметил второй, фигурой подлиннее и поуже. – Нехорошо трезвому с пьяными.
– Дак мы рази напиваться собираемся? – хохотнул первый. – Посидим для настроения, святое дело. Садись, не стесняйся, – кивнул он на место рядом с собой. – Тебя как звать?
Он произнес эти «дак» и «рази» без всякой нарочитости. И уходить совсем не хотелось, и одиночество как-то сразу перестало пугать…
– Нэла, – ответила она, садясь рядом с ним на брус.
– Ишь ты! – хмыкнул второй. – Еврейка, что ли?
– Почему? – удивилась Нэла.
– Имя нерусское. А евреев тут полно же, – объяснил он. – Поездка бесплатная, конечно, набежали. Любят они на дармовщинку.
– Ладно тебе, Петро, – укоризненно произнес широкий. – Жалко, что ли? Пускай плывут, ежели хотят. Батюшка говорит, апостол Павел тоже еврей был.
Нэла сразу пожалела, что присела к этому полотенцу. Она никогда не слышала, чтобы кто-нибудь рассуждал о людях вот так, отдельно от себя, будто о каких-нибудь экзотических насекомых.
– Имя у меня ничье, – зачем-то сказала она. – Родители его просто выдумали.
Она вспомнила, как папа рассказывал, что мама хотела, чтобы родился сын и можно было дать ему какое-нибудь простое русское имя, а он, наоборот, ждал дочку и хотел дать ей имя необыкновенное; почему-то всех мужчин их семьи привлекали необычные женские имена. Они долго из-за этого спорили, а потом у них родились двойняшки, и они назвали сына Ваней, а для дочки в самом деле придумали имя, какого никогда и не слышали… Это воспоминание так ударило Нэле в сердце, что она чуть не заплакала. Оно совсем не соединялось с тем, что так неожиданно оказалось жизнью. Взрослой жизнью.
«Я не хочу! – вздрогнув, подумала она. – Я… Зачем я из дому уехала?!»
Взрослая жизнь расстилалась вокруг, как стремительно темнеющее море, и люди, встречающие Нэлу в этой жизни, не вызывали ни малейшей приязни.
Она поднялась, чтобы уйти, но длинный быстро схватил ее за руку, усадил обратно и сказал:
– Ну чё ты? Брезгуешь?
– Нет, – машинально ответила Нэла.
«Я совсем не умею вести себя с людьми, – подумала она. – Как же так?»
И это тоже было с ней впервые – даже слов таких, «вести себя с людьми», не бывало прежде в ее мыслях. Она просто жила, и ей было легко, и ничего не надо было рассчитывать, потому что от людей, которые ее окружали, или просто встречались ей, или могли встретиться, невозможно было ожидать зла.
А теперь и это изменилось, и, может быть, изменилось навсегда.
Широкий взглянул на Нэлу – ей показалось, что он прочитал ее мысли, хотя это вряд ли могло быть так, он не производил впечатления проницательного человека – и протянул ей стакан с водкой, сказав:
– Давай одним духом. Я после тебя. А то посуды больше нету.
Водочный запах оказался таким едким, что, когда Нэла поднесла стакан ко рту – а зачем поднесла, пить собралась, что ли? – у нее защипало глаза. Она покачала головой и вернула стакан широкому.
– Брезгует, – усмехнулся второй, Петро. – А вот зря…
Он произнес это таким зловещим тоном, что Нэле показалось, он хочет ее ударить. Конечно, этого не могло быть, с какой стати он стал бы этого хотеть? И все-таки в его голосе, в его взгляде исподлобья она увидела ненависть, необъяснимую ненависть к ней, к совершенно незнакомому человеку, к девчонке. Да, Нэла вдруг перестала чувствовать себя взрослой, как это было всегда, сколько она себя помнила, а поняла, что она просто беспомощная девчонка, которая непонятно почему оказалась в каком-то дальнем и укромном углу корабля наедине с пьяными – только теперь она заметила, что за скрученным канатом лежит еще одна водочная бутылка, уже пустая, – и что им, пьяным, в голову взбредет, во что выльется их непонятная к ней ненависть, предвидеть невозможно.
Нэла снова попыталась встать, но Петро держал ее за руку крепко. Свободной рукой он опрокинул в рот водку, поставил пустой стакан на полотенце, взял пирожок и, морщась, сказал с необъяснимой своей ненавистью:
– Налепили французики хрен знает чего! У нас пельмени больше, чем ихние пироги.
– Ну, вы тут отдыхайте, – сказал широкий, поднимаясь со скрученного каната. – Я пойду отолью, а то аж из ушей прет. Зря пива надулся перед водкой.
Он произнес это примирительным тоном, и именно тон особенно рассердил Нэлу. Зачем ей знать подробности физиологии этого парня, похожего то ли на сома, то ли на дыню «колхозница»?
Широкий ушел, а Петро разлил по стаканам очередную порцию водки. Для этого ему пришлось выпустить Нэлину руку из своей, и Нэла сразу же вскочила. При этом она опрокинула один из стаканов, водка вылилась ей на босоножки, а Петро громко выматерился. Не обращая на него больше внимания, Нэла перепрыгнула через брус, на котором он сидел, и бросилась бежать.
Но оказалось, напрасно она думала, что он только и способен гудеть непонятное, как камыш.
Петро не вскочил даже, а взвился в воздух и Нэлу догнал в два шага.
– К-куда?.. – прорычал он, хватая ее за плечи.
– Пусти! – Она расслышала в своем голосе слезы. – Что тебе надо от меня?
Как же глупо было воображать, что все понимаешь в жизни, потому что в десять лет прочитала «Анну Каренину» и знаешь, чем Сезанн отличается от Гогена! Собственная чудовищная глупость стала для Нэлы очевидной так мгновенно, как если бы ее ударило молнией.
– А чё ты выделываешься вообще? – Петро развернул ее лицом к себе и дохнул прямо в лицо густым водочным духом. – Типа ты вся такая, а я типа быдло?
Он сжал ее плечи так, что она вскрикнула. И наконец испугалась по-настоящему. До сих пор ей было только противно – от его хваткой руки, от мата, от того, что у него воняет изо рта, – а теперь она поняла, что он разъярен и в припадке ярости может сделать с ней что угодно, потому что чужая жизнь ничего для него не значит. Изнасиловать может и за борт бросить… И когда ее хватятся, и что толку, если потом разберутся, если его изобличат? Она-то уже акул будет на дне кормить, или какие в Балтийском море бывают ужасные рыбы!
Нэла рванулась, уже не чувствуя даже боли от того, что он стиснул ее плечи. Но с таким же успехом она могла рваться из железных оков. Петро не выглядел сильным, но пальцы у него были именно железные.
Она судорожно вдохнула побольше воздуха – поняла, что единственно правильное сейчас это заорать во весь голос. Но он тоже сообразил, что она собирается делать, и, отпустив одно ее плечо, мгновенно зажал ей рот освободившейся рукой. Притом так зажал, чтобы она не могла его укусить; как-то очень ловко и опытно он это сделал. А чтобы она не вырвалась, прижал ее спиной к металлической лесенке. Лесенка спускалась сверху, с какого-то сооружения вроде рубки.
Ступеньки впились Нэле в позвоночник так, что, казалось, вот-вот его переломят, она не могла кричать, она задыхалась, ей было страшно… Но сильнее удушья и страха все-таки было другое – унижение. Никто никогда не унижал ее, тем более вот так, физически, она даже представить не могла, что это возможно, и не на войне где-нибудь, а просто на пустом месте, и чтобы так вел себя не ярый враг, а человек, о существовании которого она всего полчаса назад даже понятия не имела!
Она все-таки закричала «пусти», но вместо крика из-под ладони Петра вырвалось только мычание.
– Чего-чего? – ухмыльнулся он. – Скажи лучше: дядя, прости маленькую засранку. Поняла? Ну!
Слезы брызнули у Нэлы из глаз, она забилась, уже не чувствуя даже боли от вдавившихся в спину ступенек…
И вдруг услышала:
– Петька, ты чего? А ну пусти ее!
Голос донесся сверху, раскатом, как глас с небес. Но шел он, конечно, не с небес, и грохот, который его сопровождал, был не громом небесным.
Загрохотали ступеньки, нависла сверху тень, мелькнула над Нэлиной головой подошва ботинка – и Петро грохнулся на спину с таким звуком, как будто был набит булыжниками, а Нэла упала на него.
Сразу же, как кошка, она вскочила на ноги, отпрыгнула в сторону и увидела, что, лежа на палубе, Петро держится обеими руками за лоб и воет, а по звонкой лесенке спускается очередной неизвестный ей парень.
Никаких незнакомцев она видеть больше не хотела, поэтому, конечно, убежала бы, если бы не странность, которая с ней произошла. Странность заключалась в том, что она не могла сделать ни шагу. Впервые в жизни Нэла поняла, что слова «ноги к земле приросли» не сомнительное преувеличение, а чистая правда. Ноги у нее не подогнулись в коленях, не ослабели, а наоборот, сделались тяжелыми, как чугунные болванки, и всех ее сил было недостаточно, чтобы сдвинуть их с места.
Пока она стояла, застыв в этом неожиданном положении, события разворачивались перед ней стремительно.
Петро отнял руки ото лба, оперся о палубу и поднялся на ноги. Длинный, костистый, он был похож на весеннего медведя, голодного после спячки и потому особенно опасного. И звук, вырвавшийся из его горла, тоже напоминал медвежий рык.
– Убью-у-у! – угрожающе взревел он.
Нэла вздрогнула, хотя понятно было, что угроза относится не к ней. Угроза, ярость, ненависть – все это предназначалось теперь тому самому незнакомцу, который ударил Петра ногой в лоб и стоял перед ним, как будто ожидая, что будет происходить дальше.
На его месте Нэла ожидать ничего не стала бы, а бросилась бы бежать куда глаза глядят, потому что Петро был на голову выше и его плечи хоть и состояли, кажется, из одних только костей, но были какие-то длинные, как и руки, будто шарнирами к плечам приделанные. Руки эти вращались, как лопасти мельниц, а незнакомец подныривал под них, чтобы они не снесли ему голову.
Да, на его месте Нэла, может, и убежала бы, но на своем… Невозможно же убежать, когда на человека, который тебя спас – непонятно от чего, но от чего-то ужасного точно, – надвигается, выкрикивая нечленораздельные угрозы, осатаневший Петро.
И не только он, как тут же выяснилось.
– Э!.. – раздалось от того места, где узкий палубный проход сворачивал за рубку, или как все-таки называлось сооружение, за которое Петро с приятелем зашли, чтобы выпить, а Нэла неизвестно зачем. – Чё у вас тут за базар?!
Широкий приятель Петра показался из-за поворота, и вид у него был теперь не дынно-рыбий, а угрожающий. Он явно настроен был не разбираться, кто прав, кто виноват и что вообще случилось, а размазать противника по палубе.
Непонятно, как Нэла это сообразила – никогда в жизни ей не приходилось оценивать намерения дерущихся людей, – однако сейчас она понимала эти намерения так ясно, будто каждый из участников драки высказал их вслух.
Но что было толку от ее понимания? Ничего она не могла сделать и даже крикнуть не могла: не только ноги у нее стали чугунными, но и губы онемели.
Теперь уже двое надвигались на Нэлиного спасителя, и справиться с обоими он точно не смог бы.
Она смотрела на всех троих сбоку. То есть на Петра и широкого она вообще не смотрела, а вот их противника видела в последних закатных лучах ясно, как на картине.
Сначала она видела только его профиль – он был очерчен лихо, как будто прорисовала его, не отрываясь, талантливая рука. Потом он повернул голову и Нэла увидела глаза – синие, как море, только не это море, темное, стальное, а Средиземное море у греческих островов. Нэла подумала именно так, потому что морская синева возле острова Санторини – она была там с родителями и братом год назад – произвела на нее очень сильное впечатление, и такое же сильное впечатление производил сейчас этот человек.
Стоило ей обо всем этом подумать – несколько секунд заняли ее мысли, их и мыслями невозможно было назвать, так, порывы чувств, – как он словно перехватил их в ее взгляде. Подмигнул ей ярким глазом, тут же наклонился, схватил стакан, стоящий на полотенце у его ног, и мгновенным движением плеснул водку из этого стакана прямо в лицо широкому Петрову приятелю. Тот взвыл, принялся тереть глаза – ему явно стало не до драки.