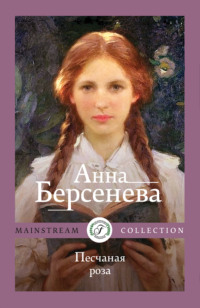Полная версия
Кристалл Авроры
Когда-то в детстве они с братом читали одни и те же книжки и думали обо всем одинаково, потом он стал читать другое и думать иначе – проявился аналитический, системный склад его ума, совсем с Нэлиным не схожий, и профессия его инженерная этому соответствовала. А потом, когда круг его жизни вдруг замкнулся непроницаемой чертой и оказалось, что профессии больше нет и только внутри этого замкнутого круга ему приходится существовать, – все переменилось в нем, и он стал видеть людей не аналитически, а более тонким образом, чем видела их даже Нэла, которой тоже проницательности было не занимать.
– Ничего, Вань, – сказала она. – Он же левертовский мальчик. У него в собственной крови опор достаточно.
– Это да, – кивнул брат.
То, что она сказала, было ему понятно, а кроме него, пожалуй, больше никто ее слов не понял бы.
– Как он вас с Таней называет? – спросила Нэла.
– Таню по имени. Меня Иваном Николаевичем звал, а сейчас никак. По-моему, хочет папой называть, но не решается.
– А ты его не торопишь.
– Конечно.
Она хотела спросить, как дела у Вадьки в Америке, но не стала спрашивать. Можно и у родителей потом выяснить, а для Вани едва ли за год стало безболезненным, когда задевают эту струну.
И все-таки он счастлив, он слегка ошалел от неожиданности своего счастья, это так заметно, что и проницательности никакой не нужно. Глаза у него всегда были внимательные, а сейчас внимание не просто ощутимо в них – оно подсвечено счастьем, как сильным и ясным огнем, и надо не иметь ни сердца, ни ума, чтобы своей внутренней смутой мешать этому огню разгораться все сильнее.
– А родители где? – спросила Нэла. – Я им с дороги звонила, но у них телефоны выключены почему-то.
– Они в американском посольстве, потому и выключены. За визой пошли, – ответил брат. – Папу в Нью-Йорк пригласили на год, в Колумбийском университете преподавать.
– Скоро уезжают?
– Через три дня. Если визу дадут. Сейчас же с этим сложности, под лупой каждого разглядывают. – Он сердито крутнул головой. – И как мы в такое превратились? На весь мир стыдобище.
Ваня принес фаянсовую миску с длинными темно-синими ягодами жимолости. В детстве Нэла любила ягоды из левертовского сада – Евгения Вениаминовна всегда угощала ими, потому что у Гербольдов росла только смородина, и ту все ленились собирать.
Они ели и разговаривали. Вернее, Ваня рассказывал о своей новой жизни – действительно совершенно новой, как будто он вышел преображенным из кипятка своего долгого горя.
Он рассказывал об Алике, о своей командировке на Урал, где делали для самолетов детали, которые он конструировал, о Тане… О Тане он говорил словно бы между делом, но, глядя на него, Нэла понимала, что это самое главное в его жизни и есть – Таня. Что это счастье его и есть.
И так же ясно она понимала, что брат отделен от нее своим счастьем, как прежде был отделен горем. Прежнее печалило ее, нынешнее радовало, но было в том и другом общее, и это общее было – ее от него отдельность. Она его любила, она знала в нем все, но при этом так же не могла приблизиться к нему, как не могла бы приблизиться к любому случайному, лишь краем проходящему по ее жизни человеку, и дело было, значит, совсем не в нем.
В ней было дело, только в ней, но почему – ускользало от ее понимания.
Глава 3
Впервые она смотрела на Москву глазами приезжего.
Если ты уехал из дому сразу после школы, то следует, наверное, удивляться, что это произошло только теперь, двадцать лет спустя. Но Нэла удивилась тому, что это вообще произошло – как только вышла из метро на Пушкинской, ощущение чужого города стало таким острым, что она даже растерялась.
Впрочем, растерянность у нее никогда не длилась долго, а сейчас причины растерянности были так очевидны, что Нэла выдернула себя из нее одним движением, как морковку из грядки.
Тверская улица преобразилась совершенно. Нэла давно и тщательно устроила свою жизнь таким образом, чтобы у нее перед глазами не появлялись уродливые предметы – ни в квартирах, ни в городах, где она жила. Квартиры и города менялись, но это условие оставалось неизменным, за этим она следила.
И странно было бы, если бы она не заметила, что Тверская теперь представляет собою какую-то диковатую смесь детсадовского утренника с престижным кладбищем. Вдоль всей улицы, Тверского бульвара и в Новопушкинском сквере высились пластиковые цветы и какие-то фигуры в человеческий рост – приглядевшись, Нэла опознала в них зайцев и расписные яйца. Памятник Пушкину был отгорожен от улицы арками, увитыми искусственными гирляндами, от ядовитого цвета которых она почувствовала на зубах оскомину. Уличные скамейки были гранитными, как и тротуары, и в гранитных же монументальных вазонах торчали какие-то чахлые растения.
Конечно, она и читала, и слышала, каким образом перестраивается Москва, но то ли забыла об этом, то ли читать и даже разглядывать на фотографиях это одно, а увидеть собственными, да еще отвыкшими от безвкусицы глазами, совсем другое. Как бы там ни было, но преображенная Тверская оказалась для нее неожиданным зрелищем.
– Знаешь ли, Нэлка, все эти причитания по поводу знакомых с детства переулочков, по-моему, признак старости и больше ничего, – говорила одноклассница Наташка Парфенова. – Жизнь не стоит на месте, у людей потребности растут, им нужно новое, и это нормально.
С Наташкой случайно встретились весной на набережной Ниццы, и именно в ее смартфоне Нэла рассматривала фотографии московских улиц, пока пили кофе в «Негреско».
Они не виделись лет десять, но в первые же десять минут Наташка сообщила о себе все – что они с мужем всегда приезжают в Ниццу в начале апреля, пока толпы нет, что муж ее работает в московской мэрии, что море уже теплое, да хоть бы и холодное, Витасик у нее морж и окунается в крещенскую купель, что Москву теперь не узнать, такая она стала шикарная и современная. Нэла не собиралась воспитывать у Наташки вкус, поэтому не стала высказывать, что думает о новом московском шике и о том, нужны или не нужны знакомые с детства переулочки. Вся Ницца, да и вся Франция была вообще-то одним сплошным на это ответом, но Наташка была не из тех, кто способен такой ответ услышать.
И вот теперь Нэла шла по Большой Бронной к Патриаршим и не то что не узнавала улицу – гротескно расширенные тротуары все-таки не до такой степени изменили Большую Бронную, чтобы ее нельзя было узнать, – но ни разум ее, ни сердце не отзывались тому, что она видела. И догадка, что дело совсем не в новоявленном урбанизме, а только в ней самой, тревожила ее.
Антон сидел на открытой ресторанной веранде у пруда и читал что-то в айпаде. Неизвестно, изменился ли он за те годы, что они не виделись, но затылок у него не изменился точно. В затылке было упрямство; Нэла не объяснила бы, каким образом оно выражается именно в затылке, но видела его отчетливо.
В вихре надо лбом лихое его упрямство было тоже. Когда Нэла обошла столик и села напротив Антона, а он поднял взгляд, она сразу это увидела.
– Привет, – сказала Нэла. – Ты не изменился.
– Ты тоже, – ответил он. – Нет чтоб сначала поболтать о том о сем, разговор завязать. Привет, Нэлка.
Неизвестно, правда или нет, что человек полностью меняется каждые семь лет своей жизни, но даже если это так, все равно никогда не покажется тебе посторонним тот, с кем ты был близок в юности. Это только что подтвердилось при встрече с Марион и сейчас подтверждалось снова: Нэла обрадовалась, увидев бывшего мужа. Правда, она обрадовалась и увидев в Ницце одноклассницу Наташку – просто потому, что сразу вспомнилось, как в пятом классе сбежали с уроков играть в казаки-разбойники и они с Наташкой спрятались в беседке на Звездочке, а мальчишки не могли их найти.
С Антоном она в казаки-разбойники не играла, но, выражаясь высоким стилем, делила пищу и кров в те годы, когда складываются житейские привычки, так что вряд ли он когда-нибудь покажется ей постороним.
И точно так же это ничего не означает, как и мгновенная радость от встречи с бывшей одноклассницей.
Но все-таки она обрадовалась, увидев его.
– Что тебе заказать? – спросил Антон.
– Макиато.
– А пообедать? – удивился он. – Я специально этот ресторан выбрал, здесь эклектическая кухня, и вкусно. После Италии трудно удивить, я понимаю. Но в Москве теперь не хуже кормят, чем в Европе, любой тебе скажет.
– Ну давай пообедаем, – пожала плечами Нэла.
И тут же с удивлением поняла, что действительно проголодалась, хотя пять минут назад никакого голода не испытывала. И тут же вспомнила про Антонову способность убеждать не логикой, а каким-то другим, неуловимым и мгновенным способом. Это привлекло ее в нем когда-то. Впрочем, не только это.
Сейчас он немного рисовался перед нею – заказывал еду с такой непринужденностью, которая, Нэла знала, не была присуща ему сама собою, а значит, тщательно им в себе взращивалась.
«Ресторанных критиков читает, наверное», – весело подумала она.
Антон всегда умел тронуть всяческой ерундой, и это не изменилось тоже.
– Пить что будешь? – спросил он.
– Что закажешь, – еле сдерживая смех, ответила она.
Он поймал ее взгляд, засмеялся и заказал шампанское.
В общем, они оба были рады встрече и не считали нужным скрывать это друг от друга.
– Долго в Москве пробудешь? – спросил Антон.
Нэла вспомнила, что он не предложил ей приехать, но лишь спросил, не будет ли она в Москве в июне, а когда она ответила, что будет, то поинтересовался, могут ли они встретиться. И получается таким образом, что встреча их хоть и не совсем случайна, однако назначена словно бы мимоходом, а потому надо делать вид, что эта встреча не имеет для нее значения.
Но играть в такие игры с человеком, которого знаешь как себя, Нэла считала излишним.
– Ты зачем меня позвал, Антон? – спросила она.
– Работу хочу предложить, – ответил он.
Что ж, значит, и он ничего про нее не забыл. Во всяком случае помнит, что с ней лучше говорить без обиняков.
– И какую же? – усмехнулась Нэла. – В Госдуме?
– Что вспомнила! Я там сто лет уже не работаю.
– А где работаешь?
– У меня архитектурное бюро.
Если бы он сказал, что выступает в цирке, она удивилась бы меньше. Или по крайней мере так же.
Ее удивление понравилось ему, это было заметно. Только неправильно он ее удивление понял.
– Ты-то при чем к архитектуре? – поинтересовалась Нэла.
– При том, что здание не только нарисовать надо, но и построить. – Он обиделся на ее вопрос, хоть и постарался не подать виду. – А это, знаешь ли, не так-то просто. Особенно в Москве.
– Так ты строишь, что ли? – снова удивилась она.
Может, зря удивилась: образования, которое позволяло бы что-либо рисовать или строить, у него нет, но ведь к сорока годам человек может приобрести самые разнообразные навыки. В Госдуме Антон работал помощником депутата, но мало ли чем занимался после этого. Они не виделись, не перезванивались, не переписывались – Нэла ничего не знала о нем. И если бы он вдруг не объявился в одном из ее мессенджеров, то и не узнала бы, а если бы не узнала перед поездкой в Берлин, то и не думала бы о нем, глядя в темную воду Шпрее, а если бы не думала о нем в тот вечер, то и не поехала бы в Москву и не встретилась бы с ним сегодня.
– Я не строю, – сказал Антон. – Я добиваюсь, чтобы было построено. Это еще на стадии замысла надо предусматривать.
– Не слишком заноситься?
– Или наоборот.
– Будьте реалистами – требуйте невозможного? – засмеялась она.
– У меня чаще так, – кивнул он. – Во всяком случае, я стараюсь максимально это обеспечить.
– Что за шрам у тебя? – спросила она.
– Где? – Антон быстро коснулся ладонью скулы. – А!.. Это давно уже. Столкновение с действительностью.
Нэла видела: он обрадовался, что она спросила о шраме. Он хочет быть ей небезразличен, это она поняла и по трогательной небрежности, с которой он заказывал для нее обед, и по вот этой его броской фразочке о столкновении с действительностью.
И это вызвало легкий душевный трепет, который обрадовал ее. Надоела собственная неприкаянность; только сейчас Нэла нашла точное обозначение для снедавшего ее беспокойства.
– У меня нормальный бизнес, не бойся, – сказал Антон.
Нэла рассмеялась и сказала:
– Не боюсь. Но удивляюсь.
– Чему?
– Не помню, чтобы ты когда-нибудь интересовался архитектурой.
Она не только этого не помнила, но помнила как раз обратное: он ненавидел праздные прогулки по городу – по любым городам – и не понимал, что интересного в том, чтобы глазеть на дома. Город был для него местом, в котором он мог или не мог осуществлять какую-нибудь деятельность, и любое здание, да и вообще любой предмет внешней среды он воспринимал только с той точки зрения, мешает этот предмет его деятельности или помогает. Кёльнский собор или Гранд-опера не мешали и не помогали, а следовательно, не существовали для него вовсе – он не обращал на них внимания так же, как на пятиэтажку в Чертанове. Как Нэла ни старалась когда-то, его прагматизм был неистребим, ничего с ним нельзя было поделать. Потому она и удивилась, что в его жизни возникла именно архитектура. Уж скорее и правда в цирке стал бы выступать – летать под куполом или шпаги глотать.
– Я ею и не интересовался, – кивнул Антон. – Работал в мэрии, а…
– Что-то вы все в мэрии работаете, – заметила Нэла. – В крещенскую купель не окунаешься?
– При чем тут купель? – не понял Антон. – А что в мэрии… Ну а где еще работать?
– Интересный подход, – усмехнулась она. – Есть и другие места, я думаю.
– Нет других мест. – Его глаза, синева которых поразила ее когда-то и не выцвела до сих пор, мгновенно стали ледяными. – Про все эти штуки, когда на хорошем деле можно было подняться, ты забудь. Теперь – только с бюджетом грамотно работать, все серьезные деньги так или иначе оттуда. Мэрия наиболее приемлемый вариант. И денежно, и… Приемлемо, в общем, – повторил он.
– Ты меня звал, чтобы это сообщить? – пожала плечами Нэла. – Спасибо. Меня это не интересует. Что дальше?
– Нэлка, ты что? – Он взъерошил вихор, проведя по нему пятерней, это всегда было у него признаком волнения. – Я совсем не то хотел сказать. Черт, сама же меня не туда завела! Вечно ты к какой-нибудь ерунде прицепишься. С мэрией я уже три года как расстался, не о чем вообще… Но когда еще работал, стал высматривать, чем бы таким заняться… Перспективным. Ну и нашел этих ребят, сотрудников своих теперешних. Они как раз Архитектурный закончили, свое бюро собирались открывать. Но потом на мое предложение согласились.
– Почему согласились? – быстро спросила Нэла.
– Я их не шантажировал и вокруг пальца не обводил, – догадливо ответил Антон. – Просто ребята толковые. Сообразили, что на одном таланте далеко не уедут. Связи нужны, возможности. Деньги, кредиты. Я им все это предложил – они согласились. С троих началось, а теперь пятьдесят человек у меня работают. И заказов, скажу тебе, хватает. Архитектурный рынок растет, что естественно. Москва – это пространства. Мировая столица.
– Эту часть можешь пропустить, – сказала Нэла. – Я тебе зачем?
Он не ответил. Но в его глазах она читала по-прежнему, и тот ответ, который прочитала сейчас, был ей приятен.
– Ты же во всем разбираешься, – наконец произнес он. – Я-то… Ну, про меня ты знаешь. Но и ребятам моим, хоть в архитектуре они как надо рубят, широты образования все-таки не хватает. Молодые они.
– Это был мне комплимент? – Нэла рассмеялась так, что даже слезы выступили. – Не меняешься ты, Антон!
– Нэлка! – воскликнул он; синева из глаз так и брызнула. – Ну что ты переворачиваешь! Я же совсем не про то… Учат сейчас плохо, вот я про что. Или учат хорошо, да они учиться не умеют, молодые потому что. Но знаний у них мало, это мне уже понятно.
– А мне не понятно, – пожала плечами Нэла. – Ты меня, что ли, приглашаешь их культурный уровень повышать?
– Не мучай ты меня, – сказал он почти жалобно. – Придумаем, как твою работу назвать. Ты мне нужна, Нэлка, – вдруг, совсем без перехода, выпалил он. – Так нужна, что аж зубы сводит.
Одно дело взгляд, неясная материя, и совсем другое – слова, смысл которых предельно ясен. Таких прямых слов она все-таки от него не ожидала. И вряд ли хотела. Что на них ответить?
К счастью, официант принес тарелки с закусками.
– Видишь, и обслуживают здесь быстро, – сказал Антон.
Что быстро, это точно. Какие-нибудь десять минут ему понадобилось, чтобы решиться на признание в любви. Или это не было признанием в любви? Да, может, и не было. Во всяком случае, теперь вид у него уже вполне спокойный. Обычный сорокалетний мужчина, обедающий со старой знакомой. Неплохо, надо признать, выглядящий мужчина. Не располнел, не заматерел, не опустился. Живость сохранил в общении. Следит за собой. Одет со вкусом.
То, что она оценивает его с отвлеченной приметливостью, нисколько Нэлу не смущало. Она ехала на встречу с ним, чтобы проверить, не получится ли у них возобновить отношения. Как выяснилось, он тоже имел в виду именно это. Значит, стоит все объективно взвесить, потому что им не восемнадцать лет, чтобы строить отношения на такой зыбкой почве, как мгновенно вспыхнувшая страсть. Тем более что и в восемнадцать лет это ничем толковым не закончилось. Да и нет сейчас никакой страсти, во всяком случае, у Нэлы. Так что оценить его стоит, и именно беспристрастно, раз уж она собирается попробовать с ним что-то – что именно, пока неясно – снова.
За кофе Антон рассказал о своем архитектурном бюро подробнее – что назвал он его «Дайнхаус» в память о своей немецкой юности, что рентабельность процентов тридцать, что с первыми ребятами из тех, которые у него теперь работают, он познакомился четыре года назад…
– Сразу понял, что они такое, – сказал Антон. – Я, может, словами и не назову, в чем тут дело, но где талант, а где понты, не перепутаю. Они мне загородный дом построили, – добавил он. – Сама увидишь.
Последнее он высказал словно бы между прочим и как само собой разумеющееся, но Нэла расслышала в его голосе вопросительный оттенок. Отвечать на этот полувопрос она не стала.
– Тебе у меня понравится, – сказал Антон. И поспешно пояснил: – Работать, в смысле. – Нэла еле сдержала улыбку, так трогательно он старался соблюдать дистанцию; она-то знала, как мало ему это свойственно. – В работе моей, понимаешь, общение – огромное дело.
– Почему? – машинально спросила Нэла.
На самом деле она не слишком вникала в смысл его слов. Антон знает, что она может, что нет, и раз предлагает работу, значит, она с ней справится.
Она не слушала его слов, но вслушивалась в интонации, всматривалась в лицо и жесты. Ей надо было понять, изменилось ли в нем то, что заставило их расстаться, и если изменилось, то как – ослабело, исчезло совсем или, наоборот, усилилось? Это было решающе важно, но пока оставалось ей непонятным.
– Потому что без общения заказов не получишь, – ответил Антон. – Отчасти, конечно, старые мои связи работают, но чтобы на закрытые тендеры приглашали, надо действовать сегодня, а не жить вчерашним днем. На открытых конкурсах проекты не больно-то ищут, – пояснил он. – Там заявок море и всякая шушера вьется. Серьезные заказчики отбирают несколько архитектурных бюро, организуют для них закрытый конкурс и на нем проекты рассматривают. Чтобы нам из этого пула не выпасть, что надо?
– Ну что? – улыбнулась Нэла.
Загорается по-прежнему. Интереса к жизни не утратил. Это хорошо. Беспрестанно тормошить вялого мужчину и знать, что без твоих усилий он немедленно превратится в бесформенный ком… Нелегкая это работа, из болота тащить бегемота, и ей это совершенно не нужно.
– Постоянно на виду надо быть, вот что, – ответил Антон. – Во всяком случае, от тебя я ожидаю именно этого. Быть на виду, производить впечатление, быстро реагировать. Оценивать, что хочет заказчик, внушать ему, что хочешь ты, и так внушать, чтобы он был уверен, что сам этого захотел. Ты это умеешь.
– Думаешь, умею?
– Не думаю, а знаю.
«Что-то не припомню, чтобы мне удалось тебе внушить, чего ты сам не хотел, – подумала Нэла. – Даже наоборот».
Но высказывать это Антону она не стала. С чистого листа – значит, с чистого. Кто старое помянет, тому глаз вон. Правда, кто забудет, тому оба долой, но сейчас стоит ограничиться первой частью народной мудрости.
Нэла допила кофе, Антон расплатился, и, сойдя с ресторанной веранды, они пошли по аллее вдоль пруда.
Многое здесь переменилось, но Патриаршие, видимо, были из числа таких мест, которые трудно изменить до неузнаваемости – слишком сильна их собственная энергия, слишком глубоко уходит в прошлое. По всему периметру пруда тянулись рестораны, из них доносилась музыка, множество людей сидели на открытых верандах и лавочках или фланировали по дорожкам, но ощущение покоя, ясного и трепетного, как воздух над водой, было точно таким же, как тридцать лет назад, когда Нэла и Ванька приезжали в гости к тете Зое, папиной старшей сестре, и, пока родители сидели за чаем и скучными взрослыми разговорами у нее дома – вон в том доме с фигурами львов у входа – убегали играть на детскую площадку возле памятника Крылову. В Нэлу тогда влюбился мальчик из Ермолаевского переулка, в нее всегда кто-нибудь влюблялся – Ванька говорил, это потому, что она как спичка, она всегда думала, что брат имеет в виду ее телосложение, и лишь недавно он объяснил, что имел в виду ее способность поджигать своим задором.
Только Антона поджигать не требовалось. Может, поэтому у них ничего и не вышло когда-то.
– Подожди здесь, я минут через десять за тобой подъеду, – сказал он, когда дошли до угла. – Места поблизости не было, машину черт знает где пришлось оставить.
– Комфортная среда? – усмехнулась Нэла.
– Ну а что, лучше было, когда в три ряда на газонах парковались? – пожал плечами Антон. – У нас тут теперь как в Европе.
Насчет газонов он был прав, но она рассердилась. Была какая-то неточность в его словах, но в чем она состоит, объяснить Нэла не могла, это и злило.
– Не подъезжай, – сказала она. – Я в метро.
Он, конечно, сразу заметил, что она рассердилась, но не расстроился, а замкнулся – глаза стали холодные. Ну и ладно. Было бы не только глупо, но и просто нечестно с ее стороны пытаться произвести на него впечатление получше. Он ведь тоже, наверное, оценивает, изменилась ли она, чтобы понять, стоит ли затевать с ней отношения заново. Вот и пусть оценивает объективно.
Дома стоял кавардак, обычный для гербольдовского дома вообще, а перед долгим путешествием особенно.
Папы, правда, не было: он терпеть не мог сборов и никогда в них не участвовал, полностью передоверяя это маме. Что мама способна на какое-либо системное действие, должно было казаться странным любому, кто ее знал, но только тому любому, кто знал ее поверхностно. Знавшие же ее близко, может, и удивлялись, как эта способность сочетается в ней с созерцательностью, безалаберностью, фантазиями и прочими подобными чертами, но знали также и то, что устраивать быт она умеет, хотя и с причудливым своеобразием.
Посередине гостиной, у ног Венеры Милосской, стояли два открытых чемодана, а по стульям, креслам, табуреткам и перилам ведущей наверх лестницы мама вчера вечером и сегодня утром раскладывала вещи, вынимая их из шкафов и ящиков. Вещей набралось много, и теперь она обходила комнату по периметру, собирала их, как грибы, и слоями складывала в чемоданы, свой и папин, или откладывала в сторону.
За этим занятием застала ее Нэла.
– Помочь? – на всякий случай спросила она.
– Зачем? – пожала плечами мама. – Через полчаса я закончу, чаю выпьем. Обеда, правда, нет.
– Я в городе пообедала.
– Посмотри пока фотографии. – Мама кивнула на лежащий на столе альбом. – Случайно в комоде нашла. Знаешь, в том, прадедушкином, который в мастерскую вынесли.
Случайно в доме могло найтись что угодно – и вследствие характера его обитателей, и просто потому, что это вообще естественно для дома, в котором почти сто лет живет одна и та же семья, притом насыщенно живет каждым своим поколением. Альбомов и с фотографиями, и с графическими или пастельными портретами даже без вновь найденного было такое количество, что Нэла различала большинство запечатленных родственников не по лицам, а по одежде; пригодился курс истории моды, который она брала в университете.
Альбом лежал на ломберном столике, неизвестно откуда взявшемся когда-то в гостиной; дом был построен в те времена, когда в такие игры уже не должны были бы играть. А может, все-таки играли, ведь поселок Сокол строился при нэпе, когда казалось, что нормальная жизнь возвращается.
Нэла открыла альбом, перевернула несколько страниц, переложенных пожелтевшей папиросной бумагой. Прадеда узнала сразу – видела его фотографии раньше, да и Ваня был на него похож, он вообще удался в отцовскую линию. Линия эта, надо сказать, выглядела эффектно, во всяком случае, в мужском ее проявлении: все Гербольды-мужчины были высоки ростом, широки в плечах, и даже при полном несходстве характеров лица их имели одинаково правильные черты, а серые глаза – внимательное выражение. Хотя если Ваньке, например, в самом деле было присуще внимание к окружающим, то папа всегда был внимателен к одному лишь себе, и непонятно было, является такое его свойство признаком эгоизма или таланта. Как бы там ни было, о мужчинах своего семейства Нэла считала правильным судить по брату, а о женщинах если и хотела бы судить по себе, то едва ли это было бы правильно: внешностью и характером она непонятно, в кого удалась – может, в какую-нибудь прабабушку из понтийских греков; была в мамином роду и такая кровь.