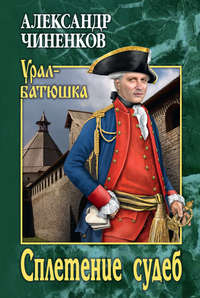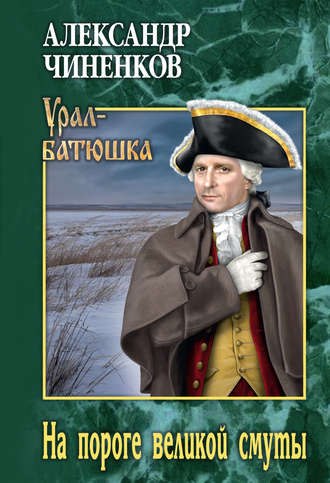
Полная версия
На пороге великой смуты
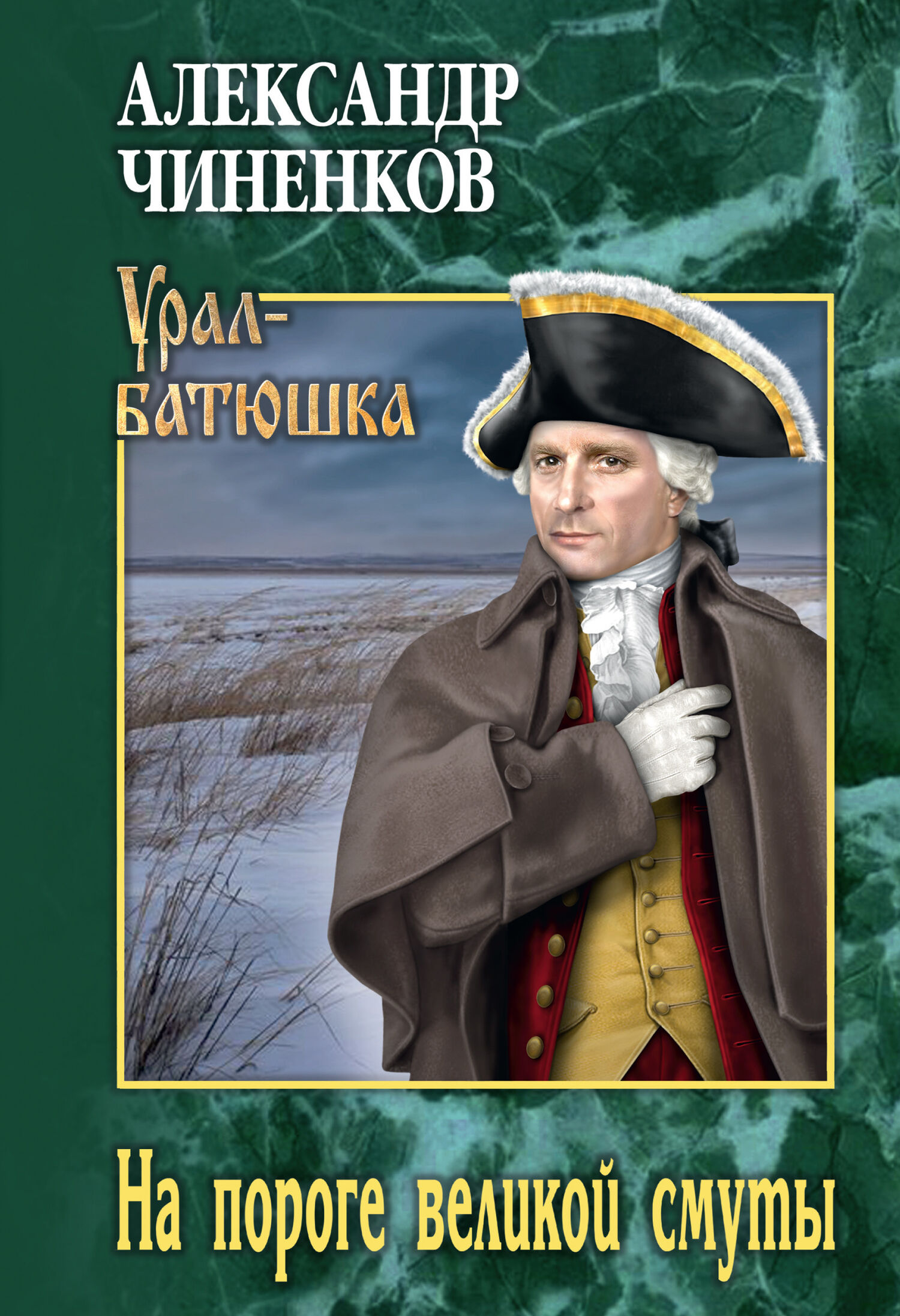
Александр Чиненков
На пороге великой смуты
Часть первая
Степные огни
Глава 1
Наступила зима. От мороза схватывало дыхание. На Сакмаре забереги всё увеличивались, течение несло ледяное «сало», и казалось, вот-вот река встанет у всех на виду. Но она встала для всех незаметно, ночью, – посмотрели утром, а перед глазами корявое ледяное поле, и свежий снежок посыпает его, ровняя поверхность.
Рождество в этом году было снежным. Снег шёл всю ночь. Деревья в лесу стояли под толстыми белыми шапками. Крепкий морозец при полном безветрии приятно пощипывал лица казаков.
Народ давно прошёл от утрени.
У атамановой избы, на базарной площади стояло не менее десятка троек. Сани и лошади были украшены разноцветными лентами.
Светлая передняя избы с многочисленными вешалками была завалена шубами, полушубками и азямами (азям – крытый овчинный тулуп). Несмотря на то что на улице сверкал яркий солнечный день, изба была освещена многочисленными свечами.
Гостей встречал сам атаман Данила Донской с супругой и поп Серафим. По случаю рождественского приёма атаман был одет в парадный мундир.
Все сакмарские казаки уже сидели за столом. А казаки, как всему миру известно, любят пировать шумно, открыто – «всем ворогам назло и соседям на зависть». Обычно в Сакмарском городке свадьбу гуляли неделю, именины, крестины – не менее двух дней, ну а Рождество справляли один день. Но зато как!
Так жили прадеды, деды. Не одним десятком лет освящены нерушимые обычаи.
По случаю наступившего Рождества вино и водка лились рекой, столы ломились от яств, а казаки и казачки веселились от всей души!
В избе залихвасто бренчала балалайка, ей подыгрывали деревянные ложки, а жена атамана Степанида, красивая полногрудая казачка, выплясывала в паре с Петром Беловым.
Подвыпившие изрядно зрители хватались за животы. А Степанида выплясывала и вихревой присядкой, и забористой чечёткой, и готова была, кажется, встать на голову, чтобы поразить своим удальством любовавшихся её пляской гуляк.
Белов вовсю старался не уступать «атаманше». Он плясал так забористо, что казалось, его ноги едва касаются пола. Урядник прищёлкивал, присвистывал и выкрикивал задиристые припляски: «Э-э-эх, пропади земля и небо. Я на кочке проживу!..»
Добродушный гуляка, танцор и балагур, Белов был незаменим на всех гулянках и торжествах в Сакмарске. Он не отказывал никому в своём таланте увеселять пьяных земляков.
Но вот ноги атаманши начали путаться, и она остановилась, повелительно сдвинув соболиные брови. Балалайка и перестук ложек моментально смолкли. Гости замерли за столом. А Степанида, чувствуя всеобщее внимание, вдруг запела.
Мелодия родилась сама собою, и слова пришли сами, простые и грустные, – потом она никак не могла вспомнить, что пела. Степанида слушала свой голос, летевший над потолком избы, – сильный, глубокий, свободный. Ей случалось петь не единожды, но она никогда не вслушивалась, как звучит её пение.
Она вздрогнула и смолкла, потому что подошедший сзади атаман, неловко повернувшись, задел её локтем.
– Кто это там? – крикнула она недовольно.
– Господи, не серчай, душенька, не хотел я, – пробормотал виновато Данила.
Степанида уже готова была ответить привычной резкостью (они с мужем постоянно пререкались). Но атаман присел рядом на табурет и попросил:
– Ты продолжай, Степанидушка. Я ведь не мешаю.
Он был настолько растроган пением жены, что напрочь позабыл сказать что-либо язвительное.
Степанида помолчала и запела старинную казачью песню. Её щёки порозовели. Она наслаждалась звуками своего голоса и захотела услышать восторженную похвалу.
И она добилась своего. Её песни, её необыкновенный голос поразили всех. Казаки хлопали, не жалея ладоней. К Степаниде неслись возгласы удивления, похвал, восхищения…
А потом снова грянула плясовая. Весело забренчала балалайка, и в такт ей застучали ложки.
Пока в избе шло веселье, атаман, Гордей Тушканов и Матвей Куракин вышли на крыльцо.
– А ты его рыло хорошо запомнил? – спросил атаман у Куракина, продолжая начатый в избе разговор.
– Ни в жисть не зрил его в глаза, – ответил тот.
– Чернобровый, стройный такой, – попытался помочь ему вспомнить Тушканов.
– Не-е-е, этот чужак другого обличья был. Неприметный какой-то. А рыло своё он всё платком закрывал. Вот только зенки его узкие, будто азиатские. Такие юркие, колючие и беспокойные. – Куракин посмотрел вдаль, припоминая холодную стеклянность неприятных глаз встреченного им ночного путника. – На башке у него шапка лисья, на ногах сапоги тёплые. А ещё в шубу одет, мехом лисицы подбитую.
– А что он тебе балакал? – поинтересовался атаман.
– Всё больше помалкивал, – ответил казак. – Я ещё сказал ему, что не местный ты, как я погляжу. Заплутать могешь. Айда, дескать, в городок к нам, заночуешь, а утрась и в город зараз подашься. А он, вражина эта, как зыркнет. И зло так буркнул: «Я дорогу знаю. А беды мне никто причинить не осмелится!» Вот почитай и все. Я подстегнул свою Ворону, и айда в городок. А он и подался дальше по дороге, что на слободу Сеитову ведёт. Я ещё вчерась о том обсказать хотел тебе, атаман, да вот закружился как-то…
Казаки задумались.
– Дня два назад какие-то сабарманы Янгизский умёт разграбили, – сказал Тушканов. – Казаков побили, скот увели.
– Жаль вот, домой спешил, – вздохнул Куракин. – А то бы до места его довёз и прознал, кто есть он.
– Да не поехал бы он до места с тобою, – сказал атаман. – Могёт быть, лазутчик он сабармановый, раз рыло платком укрывал. А шёл он в свою волчью нору, которую надо бы разыскать и раздавить, ежели где рядышком, чтоб жить спокойно и далее. Верно говорю?
– Эдак верно, атаман, – поддержали его собеседники.
Дверь, скрипнув, открылась, и из избы вышли Никодим и Прасковья Барсуковы. У Прасковьи был узелок в руках.
– Куда это вы? – спросил Тушканов. – Ещё гульба в самом разгаре?
– Некогда нам рассиживаться, – вздохнул Никодим. – Груню навестить надо, гостинцев ей снесть.
– Как она поживат? – спросил атаман.
– Взял бы вот сам и сходил, – озлобленно буркнула Прасковья. – Сам на похоронах подсоблять обещал, а теперь и носа казать не хочешь.
– Цыц, Прасковья! – крикнул Никодим. – Сами управимся. Нечего атамана от дел отрывать!
– Дык что с ней? – спросил Донской.
– Да ничего, – ответил Никодим. – Из избы, акромя как на кладбище, более никуда не выходит. Она уже не найдёт себе утехи. Ни сегодня, ни опосля.
– Зайду к ней завтра утром, – сказал атаман, – попроведаю!
Долго ещё не расходились казаки, всем миром празднуя Рождество.
Наконец начали подниматься. Первым вышел поп Серафим. Он был розовый от выпитого вина, пышногривый, величественно-красивый. Его заметно качало. Он с трудом спустился с крыльца. Подоспевший дьяк помог усесться в сани и взял в руки вожжи. Пара гнедых взяла с места размашистой рысью.
Вслед за попом разъехались ещё несколько казаков с жёнами. Наконец на крыльце показались одновременно атаман с супругой, едва стоявший на ногах, в полушубке, одетом только в один рукав, без шапки, бравый казак Григорий Мастрюков. В правой руке он держал недопитую четверть с водкой.
Сын Мастрюкова подал к крыльцу раскормленного жеребца, запряженного в сани. Григорий и атаман о чём-то громко заспорили. Неожиданно разгорячившийся Мастрюков передал четверть своей супруге Софье и замахнулся на Донского. Вышедший в это время из избы Матвей Куракин перехватил руку Мастрюкова, и на крыльце началась драка.
А нагулявшиеся казаки всё выходили и выходили из избы и вскоре драчунов разняли. Мастрюкова насильно впихнули в сани, и сын увёз горланящего песни и зовущего всех к себе в гости отца вместе с матерью домой.
Спустя четверть часа изба опустела. Последними вышли Гордей Тушканов и его супруга Глаша.
– Гланька, куда стопы править будем? – пьяно выкрикнул Гордей.
– До избы, куда же ещё, – придерживая его под руку, ответила супруга.
– А сани где? – огляделся писарь.
– Дома, где ж ещё, – хохотнула Глаша. – Мы ж пешком пришли, али запамятовал?
– Да? Ну всё не как у людей! – возмутился Гордей и тут же махнул рукой. – Сигай на меня верхом, Гланька. Зараз довезу до избы, не хуже мерина нашего! Ха-ха-ха…
* * *Во время общего гулянья Мариула находилась дома. Минувшая ночь принесла ей столько потрясений, что утром она вынуждена была отказаться от приглашения. Выпив настойки, снимавшей головную боль, она прилегла на постель и задумалась, вспоминая события прошедшей ночи.
Весь день, до позднего вечера, она выпекала к празднику пироги и шаньги. Вдруг прямо перед ней словно из-под земли появилась покойная мама. Мариула не испугалась, просто сильно удивилась. Мама держала в руке её детские варежки и с грустью смотрела на неё.
– Послухай, – обратилась Мариула, – ты страсть как похожа на мою матушку-покойницу! Не обессудь, но мне так хочется поцеловать тебя…
Ночная гостья заулыбалась и приблизилась к Мариуле, и та крепко обняла её и поцеловала сначала в левую щёку, а потом – в правую. Сердце у ведуньи защемило: она всей душой ощутила, что расцеловала родную мать.
– Как же ты похожа на живую! – со слезами воскликнула она. Но гостья молчала, и вскоре призрак растаял в воздухе, а Мариула осталась сидеть в полной растерянности и никак не могла понять, что же это было, если она явственно ощущала тепло щёк своей мамы, когда обнимала и целовала её, прижимала к себе.
Но рождественские чудеса на этом не кончились. Когда Мариула пришла в себя, решила накрыть на стол. Наступила полночь, Мариула встала из-за стола и сказала:
– Ну и что с того, что в эту ночь я осталась одна! Никто не пришёл нынче ко мне в гости, да и я ни к кому не пошла, потому что идтить не захотела. Уж коли не довелось встретить Рождество с живыми, буду встречать с мёртвыми!
Затем открыла дверь, ведущую из сеней на двор, и поклонилась:
– Заходите те, кто любил и чтил меня при своей жизни!
Постояла немного и хотела захлопнуть дверь. Но не тут-то было!
Внезапно в дом один за другим зашли… атаман Василий Арапов, есаул Пётр Кочегуров, Фома Сибиряков, Никифор, Гурьян Куракин. Они стали снимать верхнюю одежду и разуваться. Последним пришёл муж Мариулы Степан. Ведунья стояла в углу, не в силах вымолвить ни слова. Лишь с изумлением смотрела на их необыкновенно красивые одеяния. Справившись с волнением, она сказала:
– Здравствуйте, гости дорогие! У вас чудная одежда. Блестящая, переливающаяся… Заморская, что ли?
Но они, словно не замечая её и не слыша расспросов, молча прошли в избу и стали садиться за стол. Мариула достала из шкафчика шесть рюмочек, хотела налить в них водки, но не смогла открыть бутылку:
– Может быть, кто-нибудь из вас откупорит?
Все по-прежнему молчали, словно набрав в рот воды.
– Ладно, – сказала Мариула. – Будем пить наливочку.
Принесла из сеней бутылку, разлила наливку по рюмкам, все чокнулись. Когда стали закусывать, отчётливо послышалось чавканье. Потом она поставила самовар, принесла мёд и пироги. Но как только «гости» взяли в руки чашки с чаем, в сарае прокукарекал петух.
Обернулась Мариула к своим гостям – никого нет за столом! Рюмки с наливкой стоят нетронутые, на тарелках разложены куски пирога. Она бросилась в сени, но дверь оказалась запертой на задвижку, а на вешалке не было никакой одежды, кроме её шубейки. До утра Мариула просидела за столом сама не своя, крестилась, молилась и ругала себя: «Вот дура старая, встретила Рождество в компании с покойниками. Как я могла позабыть, что мир теней шутковать не любит…»
В дом Мариулы вбежала Лиза Бочкарёва, жившая по соседству. Она была необычно возбуждена.
– Мариула, – сказала она поспешно, – к нам только что прибыл казак яицкий Иван Ковригин с вестью худой.
– Что стряслось? – спросила Мариула взволнованно, побледнев.
– Сыночек твой Егорушка погиб на войне турецкой, – ответила Лиза.
– Погиб? На войне? – прошептала Мариула, поднимаясь с постели. – А что он там делал? Ведь оренбургских казаков на войну не призывали?
– А может, забрили в солдаты за провинность какую, ты ж не знашь? – насторожилась соседка. – Он же в Бердах жил, а ты здесь?
– Ежели бы забрили, я бы знала, – уверенно ответила Мариула. – Но ты сказывай, что тебе гость твой поведал.
– В плену турецком сгинул сынок твой. Эдак Ивашка сказывал.
– А он, Ивашка, откель взялся?
«А может, и взаправду всё?» – подумала Мариула, и слёзы навернулись на глаза. Эта недобрая весть тисками сдавила душу.
Её сын проживал с семьёю в Бердах и часто навешал мать. А теперь его давно не было. Даже к празднику весточку о себе и внуках не прислал.
– Не плачь, Мариула. – Бочкарёва обняла поникшую женщину и прослезилась сама. – На войну-то не призывают, верно сказала. А сколько наших сакмарцев забрили за провинности малые? Да у тебя ещё внуки есть. Красавцы здоровенные…
– Это верно, – вздохнула Мариула. – Никогда бы не подумала, что Егорушку в солдаты забреют. Послушный он был у меня и богобоязненный.
– Да, – согласилась соседка. – Таков он был, ведаю я.
– Почему это был? – вздрогнула Мариула. – Он был, есть и будет, а твой гость нынешний – враль несусветный!
– Как это враль? – удивилась Лиза.
– Бродяга он голодный или беглый. Покушать захотел, вот и выдумал небылицу, чтоб от порога не прогнали.
– А откуда он знат, как звать-величать сродственников наших?
– Ой, Господи, да разговор, мож, чей подслухал? – Мариула всхлипнула, вытерла глаза платком:
– Вот мне и сон в руку. Не зря, видать, покойники всю ночь у меня в доме гостили.
– О чём это ты? – вскинула удивлённо брови Лиза.
– Да я так это, – неохотно ответила Мариула и схватила соседку за руку. – Где ж этот вестник-то чёрный? Ещё у тебя али ушёл?
– Привести его?
– Веди!
Бочкарёва вышла и вскоре привела в избу болезненного вида, плохенько одетого мужичка. Тот, войдя в дом, остановился на пороге, поглядывая исподтишка то на Мариулу, то на Лизу, которая села на табурет и с беспокойством разглядывала его.
– Здравия желаю избе вашей! – И Ковригин поклонился. – Не серчайте ради Христа за весть недобрую, что я зараз к вам привёз.
– Где добыл ты её? – спросила Мариула. – Может, сбрехнул кто со зла?
– Верный человек о том сказывал. – Ковригин изобразил на бледном лице печаль. – Я когда домой из госпиталя собирался, земляка вашего встренул. Вот он и просил меня в городок Сакмарский попутно заглянуть!
– А кто он? – полюбопытствовала Мариула.
– Да брат мой, Фрол, – ответила за казака Лиза. – Его встретил Иван в госпитале.
– Фрол?! – воскликнула Мариула, покраснев, и вскочила на ноги, но Лиза схватила её за руку и усадила на кровать. – Что ещё ведаешь? – спросила она, буравя гостя суровым взглядом.
– Эх, ведаю я много чего, да лучше б вам о том не знать. – И Ковригин опустил голову. – Хоть я и пропащая душа, помру, видать, скоро, но не поведать не могу. Аким сказывал, что будто видал сам, как Егорку-то турки штыками кололи.
– И что, до смерти прям? – спросила язвительно Мариула.
– Акимка сказывал, что до смерти. Его турки в плен взять чаяли, а он в драку с пашой ихнем ввязался. Вот потому-то его штыками-то и колоть начали!
– А про какого Акимку ты нам сейчас сказываешь? – усмехнулась Мариула. – Вначале ты про Фролку Лизиного обмолвился?
– Ой, что это я, – покраснел мужичок. – Ну, конечно же, Фролка. А Акимка, это так. Со мной из госпиталя шёл.
– А Фролка мой как выжил? – спросила Лиза. – Как он в госпиталь угодил?
– Нечестивые турки, – продолжил Ковригин, – так изгаляются над пленными христианами, что сердце кровью обливается. Вот Фролка всё своими глазами зрил, а я только со слов обсказываю. Будь они прокляты, супостаты магометанские! – И мужичок топнул ногой о пол, в то время как Мариула не спускала с него глаз.
– Фролке утечь от турок удалося, – продолжил Ковригин слезливым голосом. – От болезни сознание потерял он, а турки ево мёртвым сочли и выбросили. А он опосля очухался и зараз к своим уполз!
– А сына моего, Егорушку, только штыками нехристи кололи? – еле сдерживаясь от смеха, спросила Мариула.
– Ещё башку срубили! – ответил тот, беспокойно посмотрев на неё.
– Ой! – отчаянно вскрикнула Лиза и, не в силах совладать с подступившей к горлу рвотой, побежала к двери.
– Кто это тебе обсказал? – строго спросила Мариула. – Фролка, что ли?
– Уже запамятовал, – пожал плечами Ковригин. – Просто турки всем бошки рубят. И живым-раненым, и мертвякам даже.
– А ты не брешешь?
– Спасением своим клянуся! – И мужичок приложил к груди правую руку.
– А теперь я вот что тебе скажу, враль несусветный и бродяга неприкаянный. – Мариула презрительно посмотрела в бегающие глазки «гостя». – Ты вот спасением своим поклялся, а не пужаешься гнева Божьего?
– О чём это ты? – побледнев, пролепетал мужичок.
– О том, что выдумка твоя не в те уши сказана.
– Как знал, эдак и сказал.
– Красиво врал, да не знал, что по указу царицы оренбургских казаков на турецкую войну не призывают, – прищурилась, разглядывая Ивана, Мариула. – У нас в Сакмарске только Фролку Бочкарёва и ещё несколько казаков за провинность в солдаты забрили, а вот сыночка моего… Скажи, ежели жизнь дорога, когда ты всё это выдумать успел?
Ковригин занервничал. Его пальцы побелели, крутя шапку, словно выжимая из неё воду.
– Я на базаре в Оренбурге побирался, – начал он, – и подслухал разговор казаков про войну турецкую. Там и узнал я, что Фролка Бочкарёв в госпитале лежит. А о том сынок твой кому-то сказывал.
– И ты решил к Лизке идти, штоб разжалобить её? – спросила Мариула.
– Я только зиму пережить у неё хотел, – сознался мужичок.
– А Егорушку моего пошто приплёл?
– Да так, к слову пришлось!
Мариула прикрыла глаза, прерывисто вздохнула, после чего сказала:
– Ступай из городка нашего подобру-поздорову, грешник неприкаянный! Ты людям горе принёс, чтоб самому хорошо было. Ежели прямо сейчас из Сакмарска не уберёшься, я порчу нашлю на жизнь твою, и без тово поганую!
В это время в избу вошла опроставшая желудок Лиза:
– Ну что, всё обспросила?
– Всё, об чём интерес имела, – улыбнулась ей Мариула. – Скажи своему гостю непрошеному, что пущай исполнит всё, что сказала ему я.
– А ты что развеселилась? – удивилась Лиза.
– Да причин для тоски не углядываю. Жив и здоров Егорушка мой и на войне никогда не был!
– Это кто тебе эдакое без меня поведал?
– Никто, это сердечко моё материнское знать дало. Не чует беды оно – знать, и нету её вовсе!
Глава 2
Рождество они встретили вместе, и даже приятно. У них царила полная гармония. Этому немало способствовала Жаклин. Казалось, она позабыла о своей слабости к Архипу. Капитан Барков был очарован. Она снова показалась ему очень умной и красивой женщиной, к тому же её несчастье давало ей, по его мнению, право на его сочувствие.
Но Жаклин по-прежнему не была в него влюблена. Она провела уже много времени вместе с Барковым, и он был неизменно внимателен к ней. А сегодня он всю праздничную ночь почему-то рассказывал о другой женщине, которую Жаклин не знала и никогда не видела.
Женщине не надо быть влюблённой, чтобы при подобных обстоятельствах почувствовать досаду, ей даже не надо признаваться себе, что это её задевает. Жаклин не сознавала причины своей досады. Просто восхищение, с каким капитан рассказывал о той, другой из Петербурга, нервировало её.
Но Жаклин недолго сердилась на Баркова, и к утру они снова стали добрыми друзьями. Он не мог ей не нравиться, так как с ним сегодня было приятно разговаривать. И всё же он не совсем ей нравился, так как ей казалось, что он разговаривает с ней несерьёзно. Он как будто играл с ней. Она узнала его достаточно хорошо и понимала, что он на самом деле серьёзный, склонный к раздумьям человек, способный на глубокие душевные терзания из-за своих убеждений. Но с ней он всегда был мягко шутлив. Если бы улыбка хоть однажды исчезла из его глаз, она, быть может, могла бы попробовать полюбить его…
Барков чувствовал себя рядом с Жаклин таким сильным и крепким, что она представлялась ему страшно слабенькой. Она так мала, так непрочна, у неё такие нежные косточки, такие слабые мускулы, такие маленькие ножки. Её слабость умиляла его и притягивала. Он твёрдо верил, что обязанности его, как мужчины, охранять её, брать на себя все заботы, быть защитником и помощником. И вот она рядом… Жаклин – эта неизвестная красивая женщина, далеко не напоминающая коварную жестокую преступницу, на которую велась охота, – одна, с кучей навалившихся на неё забот. Он так ясно представлял себе её беспомощность среди нахлынувших житейских дел. Кто поможет ей вырваться из порочного круга, в который она попала, быть может, и не по своей вине? Кто спасёт её, если вдруг реальная опасность будет угрожать её жизни?
Барков потянулся в кресле, удручённый чужим горем. Он подыскивал слова, которые должен прямо сейчас сказать думавшей о чём-то своём Жаклин, чтобы утешить её: «Не печалься, дорогая, всё не так уж плохо, как ты думаешь. Хочешь, я вытру твои слёзы, милая госпожа».
Нет, эти слова не годились, их стыдно говорить Жаклин, не зная, нуждается ли она в них? Но Барков придумывал новые, ещё более нежные: ему было приятно мысленно повторять их и горько сознавать, что вряд ли придётся их озвучить.
– Господи, как мне всё надоело! – вдруг воскликнула Жаклин, вставая с кресла и направляясь к столу.
– Что именно? – тут же спросил Барков, наблюдая, как она схватила графин и наливает в бокал вино.
– Всё, всё, всё! – ответила Жаклин. – Надоел этот проклятый городишко; надоел страх, который я испытываю, ожидая возвращения проклятого Анжели; надоело ожидать смерти от руки проклятого Садыка, который может в любой момент явиться, чтобы отомстить нам. Всё! Всё мне надоело и осточертело!
– Чем я могу вам помочь, госпожа?
– Да что ты можешь! – раздражённо бросила Жаклин. – Тебя, наверное, самого уже разыскивают семью собаками. Или ты всё ещё думаешь, что твоё непоявление в Самаре осталось незамеченным?
– Нет, я так не думаю, – вздохнув, признался Барков. – Но я считаю, что всё ещё много чего стою как мужчина, способный вас защитить!
– Я бы на твоём месте помолчала, «мужчина»! – окончательно разозлилась Жаклин. – По твоей милости сбежал этот негодяй Садык, сбежал Архип, сбежала девчонка. Ох, попадись они мне сейчас в руки. Сама даже не знаю, что бы с ними сделала!
– Госпожа, – улыбнулся Барков, – зачем выдвигать против человека обвинения, заранее зная, что они безосновательны?
– Это ты так считаешь, а я нет! – отрезала она.
– Во-первых, узника из подвала освободил не я, а Нага, – начал перечислять Барков. – Я даже не имел понятия, что кто-то сидит на цепи в вашем доме. Да я и вообще ни сном ни духом не ведал, что под шляпным салоном находится подвал.
– А что во-вторых? – выкрикнула Жаклин, осушив бокал и наполняя его снова.
– Во-вторых, я не знаю, почему сбежала Ания, – ответил Барков. – Вы же с Нагой не посвятили меня до конца в свои планы.
– А Нага? Ты же запер его в подвале? Почему он смог выбраться из него?
– Здесь я признаю свою вину, но лишь частично!
– Частично?
– Именно так.
– Да ты с ума сошёл?!
– Может быть, и так, госпожа, – ухмыльнулся Барков. – Пока вы, одураченные своим же слугой, путешествовали вокруг городского кладбища, я сумел разгадать его козни, проследил за ним и запер его в подвале. Но разве я мог предположить, что стенная перегородка между камерами столь непрочна? Вашему слуге оказалось достаточным кинжала, которым он за ночь сумел выдолбить в перегородке дыру, протиснуться через неё в покинутую Архипом камеру и спокойно выйти из неё через незапертую дверь! А теперь позвольте вас спросить, в чём же я виновен по вашему пониманию?
– Хорошо, я не права, простите меня, Александр Васильевич, – всхлипнула Жаклин. – Но почему мы всё ещё в Оренбурге? Что нас здесь держит?
– Бесподобный вопрос, госпожа, – ответил Барков. – Если хотите, то я кое-что поясню по данному поводу.
– Сделайте милость, Александр Васильевич.
Прежде чем удовлетворить любопытство Жаклин, он подошёл к столу и тоже налил вина в свой бокал.
– Так вот, – начал он, – скажу сразу, что вам бояться нечего, госпожа.
– Приятно слышать, но верится с трудом, – хмыкнула Жаклин пренебрежительно. – Садык…
– Будем называть его по-прежнему Нага, – не очень-то вежливо перебил Барков. – Так вот, одурачивший вас азиат едва ли бродит где-то поблизости. Даже если он и решил отомстить нам обоим, то упустил свой верный шанс. Ему надо было сразу, после выхода из подвала, подняться в ваши покои и прирезать нас обоих! Мы оба не смогли бы ему противостоять. Я был ранен, а вы… женщина, Жаклин, и этим всё сказано!