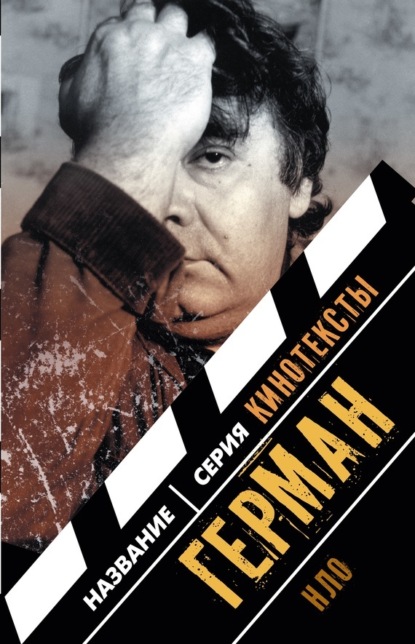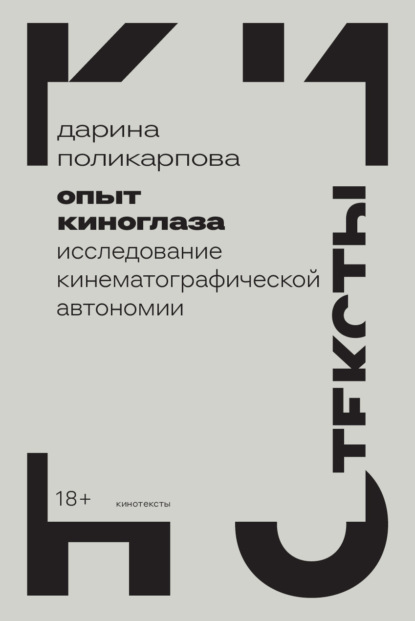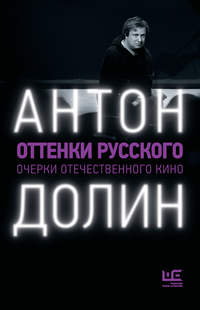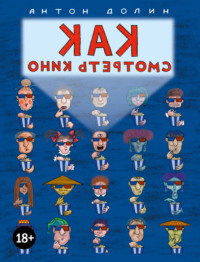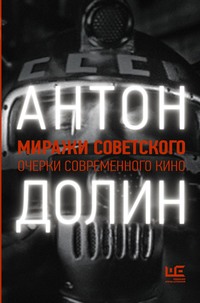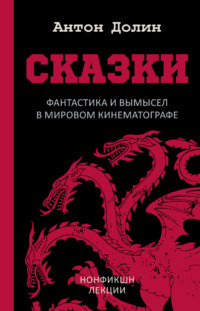Полная версия
Ларс фон Триер. Контрольные работы
Ларс фон Триер никогда не выходит на люди, даже в родном Копенгагене, но это не мешает ему оставаться настоящей звездой. Победа «Танцующей в темноте» в Каннах сравнивалась газетчиками с победой датской футбольной сборной. Дошло до того, что в прокате с успехом прошли документальные фильмы известного режиссера Йеспера Яргиля о Триере и методах его работы (особенно «Униженные» – дневник съемок «Идиотов»). При упоминании национального гения № 1 – Дрейера – почти каждый устало закатит глаза к потолку, от имени Билле Аугуста презрительно сощурится – променял своих на «Оскар», а назовешь Триера, и глаза загорятся. «Ларс, он такой скромный!» – говорят с умиленной улыбкой датчане, любящие Триера братской любовью.
Братьями Ларс фон Триер окрестил троих своих товарищей по манифесту «Догма», неизменно оставаясь – хотя бы на правах автора идеи – старшим. «Я с самого начала не понимала, в чем смысл последнего пункта манифеста “Догмы”, почему имя режиссера не должно быть упомянуто в титрах – кажется, чистый выпендреж, – утверждает продюсер «Идиотов» Винка Видеман, – но в Каннах я внезапно все поняла: когда Томас Винтерберг вышел получать награду за “Торжество”, он поблагодарил со сцены жюри, он был горд и, только сойдя со сцены, вдруг понял, что забыл о главном – сказать спасибо братьям по “Догме”. Думаю, смысл в этом: в усмирении личной гордыни». Специфический коллективизм – плод «обета целомудрия», который, возможно, мог родиться только на датской земле.
Ведь первое свойство датского кино, которое бросается в глаза, – это его семейственность. Даже попросту посмотрев внимательно на титры нескольких датских фильмов, можно увидеть постоянно повторяющиеся фамилии: речь идет вовсе не об однофамильцах, а о родственниках, мужьях и женах, братьях, сестрах. Разве что не отцах, поскольку современное датское кино – явление молодое, и все основные его представители – люди одного поколения. Недаром Сесилия Хольбек-Триер оставила фамилию бывшего мужа: это свидетельствует и об авторитете бывшего «анфан террибля», и об общей ориентации на семейные ценности. А принадлежность Триера к «семье», как в буквальном, так и в «мафиозном» смысле, объясняется прежде всего общими корнями: все, за незначительным исключением, датские кинематографисты – выпускники Копенгагенской киношколы.
Поступить в эту Киношколу непросто. Здесь идет строгий отбор, платное обучение не предусмотрено вовсе. Все курсы читают на датском, и иностранных студентов тут никогда не было. Наконец, каждый абитуриент обязан представить как минимум две киноработы: другими словами, неофитам или чужакам сюда проникнуть нелегко. Правда, в Дании существует немало киноателье («workshop’ов»), куда, по идее, может прийти со своим проектом любой. Его научат снимать кино и помогут с профессиональным оборудованием. Только денег не дадут. Искусство требует если и не жертв, то вложения энергии и таланта. Самое известное из таких ателье функционирует непосредственно в здании Киноинститута – сюда открыт доступ любому, кто пройдет со своим проектом комиссию, состоящую большей частью не из продюсеров, а из собратьев-режиссеров. Никаких ограничений на тематику или жанр нет: хоть анимация, хоть рекламный ролик или видеоклип, тем более игровой или документальный, короткометражный или полнометражный фильм. Будь талантлив, остальное приложится. Обстановка в ателье на верхнем этаже Киноинститута сведет с ума любого неподготовленного визитера: молодые (по преимуществу) люди снуют туда-сюда, между монтажными и звуковыми студиями, что-то пишут на компьютерах, вглядываются в экраны, на которых пытаются разобрать результаты собственного труда. Вещи в беспорядке набросаны на старую софу, которую не выбрасывают уже лет тридцать. Она тут на правах музейного экспоната – на ней когда-то спал Ларс фон Триер. Впрочем, обстановка в основных помещениях Киноинститута мало чем отличается: повсюду творческий беспорядок и висят боксерские груши. «Чтобы режиссеры, которым отказали в их проекте, могли срывать зло не на нас», – шутят здесь.
Чуть более упорядоченной выглядит сама легендарная Киношкола – небольшое двухэтажное здание, увитое плющом, рядом с которым можно наблюдать живописную стоянку велосипедов. Центральный холл открывается входящему сразу; здесь же перекусывают во время больших перемен студенты, тут находится и предмет гордости – огромная полукруглая аудитория, она же кинозал. У входа – старый, на вид корабельный, колокол, который возвещает о начале занятий. Или очередного сеанса. Простор, открытость природе – многие учащиеся с задумчивым видом бродят по внутреннему дворику, – распространенность вширь, а не ввысь сразу бросаются в глаза. На нескольких факультетах обучаются всем кинопрофессиям, кроме актерской. Все актеры датского кино – выпускники Театральной школы, которая находится здесь же рядом. Студенты двух учебных заведений проходят обязательную стажировку друг у друга. Самый известный из факультетов Киношколы – сценарный, возглавляемый живой легендой, учителем всех без исключения датских кинематографистов Могенсом Руковом (он не только учил Триера, но и помогал ему во многих начинаниях, был консультантом на съемках «Идиотов» и придумал название «Догвилль»). Сегодня Руков больше разъезжает по разным странам с семинарами и учебными программами по датскому кино, чем преподает на родине. Что, впрочем, никак не сказывается на его престиже в Киношколе. Кстати говоря, отчасти благодаря ему просветительско-миссионерская деятельность стала одним из главных направлений работы датского Киноинститута: под началом Рукова группы датских кинематографистов разъезжают по всему миру (после Лондона и Парижа они приезжали в Москву, а затем и в Петербург), объясняя коллегам на наглядных примерах феномен своей «новой волны».
Киношкола располагается в самом странном районе Копенгагена, неподалеку от так называемого «свободного государства Кристиания» – тут старые дома были отданы бездомным, которые образовали на свой страх и риск подобие коммуны. Повлиял ли их пример на руководство Киношколы, бог весть, однако основные принципы, исповедуемые нынешним ректором Полом Несгаардом, в чем-то напоминают о Кристиании: преподаватели предоставляют ученикам абсолютную творческую свободу, для дипломной работы может быть выбрана любая тема и форма, зато обязательно воспитываются корпоративная этика и чувство товарищества. Может показаться, что эта установка то ли советская, то ли американская, но факт есть факт: в современном кино, стремящемся к оригинальности и самобытности, датчан выделяет цеховой принцип. Они все – дети правительственной политики 1960-х, когда было принято судьбоносное решение об открытии Киношколы (собственно, феномен Триера стал первым плодотворным итогом действий государства, направленных на выращивание новых кадров в области кино). Они все – равные среди равных.
Вторым по значимости учреждением датского кино является Копенгагенский киноинститут. Его функция – посредническая; он определяет, какие фильмы получат господдержку. Его здание находится в самом центре Копенгагена, в двух шагах от главной пешеходной улицы и непосредственно напротив Королевского парка, где расположен летний дворец правящего семейства. Сотрудники института очень серьезно объясняют, что нарочно выбрали для конференций и встреч зал, огромные окна которого выходят на ворота парка, чтобы в свободные минуты любоваться природой. Эта неожиданная встроенность громоздкого современного здания со множеством переходов и скрытых коридоров (там же находятся архивные помещения и музей кино) в естественный контекст вообще характерна для Дании – ту же гармонию с окружающей средой можно найти в расположении любой из киностудий или Киношколы.
Знаменитая «Zentropa» тоже выглядит как студенческий кампус. Флаг независимого кинематографического конгломерата «Филмбиен» реет над скромным киногородком под Копенгагеном. Здесь работают Ларс фон Триер, Лоне Шерфиг, Томас Винтерберг, Серен Краг-Якобсен, Сусанна Биер и многие другие. Невысокие домики под красной черепицей, идиллическое зрелище бывшего военного лагеря, превращенного в кинематографическую лабораторию. Посреди – столовая со шведским столом, у которого кормятся все здесь работающие, без исключения. Тот же Триер, бегающий от журналистов, ест здесь со всей своей семьей, которая в период особо напряженной работы над картиной буквально поселяется в киногородке.
На постаменте меж павильонов установлен танк времен Второй мировой войны, преподнесенный Дании в дар правительством США. Руководство «Филмбиена» просило у властей разрешения забрать танк себе, но им ответили, что правительство не вправе продавать или отдавать столь дорогой дар. Теперь, вполне в духе склонного к абсурду датского кино, ежегодно на студию приезжают правительственные эксперты, проверяющие, исправна ли техника. Другая здешняя достопримечательность – сауна с бассейном на открытом воздухе: склонный к водным процедурам Триер активно использует их, периодически купаясь даже зимой (рекордным было погружение в минус пять градусов, рассказывают здесь). На лужайке у бассейна стоят малоприличные статуэтки крашеных гномов с обнаженными гениталиями – артефакты, когда-то принадлежавшие тем же американцам.
«Zentropa» – еще и прибыльная студия. Феномен датского кино – не только художественный, но и коммерческий. Над любым датским мультиплексом в первую очередь светятся афиши национальных премьер, а голливудские гиганты нередко получают более скромное место и время в репертуаре. Поделом: ведь и публика предпочитает свое. Ежегодно в десятке самых популярных фильмов оказывается как минимум пять датских, и что самое поразительное – причиной тому не только патриотизм датчан, но и разнообразие репертуара: фильмы для детей и взрослых, анимация, авторское кино, «Догма», семейные комедии, проблемные драмы, даже политические и исторические полотна – ленты на любой вкус.
Фильмы самого Триера становятся кассовыми хитами сравнительно редко. Правда, случаются сенсации, вроде кассового успеха разруганного и провалившегося по всему миру «Антихриста». Однако в целом после сенсационного успеха «Королевства» ни одного подобного чуда больше не случалось. Как ни странно, это ничуть не мешает датчанам воспринимать его как национальное достояние и живого гения. Его многочисленные выходки давно никого не удивляют, хотя традиционно возмущают многих: особенно консерваторов и радикальных либералов (одни критикуют его за вольнодумие, другие – за последовательную неполиткорректность). Но и к этому все уже привыкли. Его решение вернуть королевской семье врученный ему орден Даннеброг – причем вернуть через десять лет после вручения – было воспринято с ухмылкой, без негодования. У датчан слишком хорошее чувство юмора, чтобы обижаться на человека, благодаря которому многие узнали о существовании их страны.
Однажды, приехав в Копенгаген и сняв комнату в большой квартире, я узнал, что дочь хозяев была занята в хореографической массовке «Танцующей в темноте». Другой раз своими впечатлениями от случайной встречи с Триером делилась продавщица в торговом центре. Наконец, продавец шляп рассказал о своей жене, подруге детства режиссера, которую зовут Бесс, как героиню «Рассекая волны»: по уверению шляпника, немалую часть ключевых эпизодов картины Триер уже снимал на любительское видео в школе. Да, Ларс фон Триер – самый главный босс датского кинематографа. Но, как и в одноименном фильме, все подозревают, что он только прикидывается злым начальником, а на самом деле – свой парень и милейшей души человек.
Ларс фон Триер – путешественник
(интервью)
Вы действительно не любите путешествовать?
А вы, что, любите?
Люблю.
А я ненавижу!
Можете объяснить, почему?
Оказываешься непонятно где, тебя уже не окружают знакомые предметы… Я только что приехал из Байройта, где работаю над оперным циклом Вагнера, и в очередной раз понял, как хотел бы никуда не ездить и оставаться дома. Оставаться в своей квартире не в пример приятнее, чем куда-то ехать.
Так это причины рациональные, а не патологический страх авиаперелетов?
Этот страх тоже имеет место: он – часть общей картины. Одна мысль о том, чтобы находиться в самолете… ужас, просто ужас. Самое в этом неприятное – тотальная потеря контроля над происходящим. То же самое происходит, когда оказываешься в огромном городе, которого совершенно не знаешь. Это провал в хаос.
Этим объясняется то, что героем ваших фильмов так часто становится иностранец или путешественник?
Может быть. Помню, когда я был ребенком, у меня часто повторялся один и тот же кошмар: я иностранец, незнакомец, и у меня нет дома. Мои фильмы – своего рода ностальгия по тем снам. Быть бездомным… невыносимо.
Вы начинали с фильмов о Европе. Почему вы покинули ее, чтобы отправиться в иные края – вначале в Шотландию, потом в США?
Шотландия – тоже Европа, хотя и не та, что в моих ранних фильмах. Для меня нет разницы – Шотландия, Америка, Россия: я отправляюсь туда по воле воображения, а оно всегда ведет в места, которых не знаешь. Кстати, Шотландию мне было легко полюбить – через короткое время я чувствовал себя там как дома. Замечательная страна, где живут чудесные люди… куда лучше, чем Англия. Я чувствую себя гораздо хуже, когда оказываюсь в Восточной Европе. Например, в Польше, где я снимал «Европу».
Откуда пришел образ той, абстрактной Европы, где происходит действие трех первых ваших картин?
Мой интерес к Европе в те годы определялся вкусами моего соавтора Нильса Ворселя – очень интересного человека. У него было немало любопытных мыслей о Европе вообще и Германии в частности… Он очень интересовался Кафкой, Томасом Манном, любил «Волшебную гору». Я, правда, тоже немало читал Кафку и был одержим общими с Нильсом идеями. В ту Европу нас увлекала фантазия. Поначалу мы с Нильсом хотели осуществить экранизацию одной книги, но так и не выкупили права; в итоге появился ряд фильмов по оригинальным сценариям.
Может, это связано с разговорами об объединении Европы? Что вы вообще думаете об этом проекте?
Для людей моего поколения такое объединение было кошмарной идеей – мы считали, что речь идет о проекте богачей, которые хотят заработать еще больше денег, а простые люди при этом окончательно потеряют значение. Но вот что интересно: в последнее время я неоднократно встречал людей из Германии или Франции, которые настаивают на противоположной точке зрения. В основном молодежь. Так вот, по их мнению, именно объединение Европы поможет избежать этих опасностей. Безусловно, объединение – вещь хорошая, но, с другой стороны, когда создается большой союз, мнения многих людей не учитываются, а, по-моему, это плохо.
Многие считают, что вы ненавидите Америку, но так ли это? Ведь ваша увлеченность американской темой свидетельствует, скорее, об обратном…
Мы многое знаем об Америке, многое видели, и глупо было бы утверждать, что все это мне не нравится. Мне не нравятся некоторые американские политические деятели. Наверное, одни американцы пришлись бы лично мне по душе, а другие – нет. Невозможно и бессмысленно говорить, что любишь или ненавидишь ту или иную страну в целом. Но Америка особо интересна, поскольку претендует на то, чтобы быть Новым Миром: это само по себе потрясающе.
«Догвилль» называют антиамериканским фильмом. Вы согласны с этим определением?
«Антиамериканский» – сильно сказано. Я не чувствую, что мой фильм – антиамериканский. Да, я настроен критично по отношению к США, мне не нравится, как там обращаются со слабыми и бедными людьми, – за это отвечает государственная система. Однако к пропаганде близки только финальные титры под песню Дэвида Боуи, которые сопровождаются фотографиями времен депрессии. Самое забавное, что все эти фотоснимки – собственность американского правительства; они сами фотографировали людей в те годы, а теперь эти кадры находятся в свободном доступе, копирайт на них не стоит. Это замечательно интересно: самый антиамериканский материал есть плод деятельности самих американцев.
Если бы это зависело от вас, как бы вы хотели изменить Америку?
Прежде всего я избавился бы от оружия массового поражения. Потом начал бы кампанию «Освободите Америку!». Честно говоря, я удивлен тем, что так мало журналистов обвиняли меня в нападках на США. Это хорошо, потому что я не делал антиамериканский фильм. Как и в случае с «Танцующей в темноте», которая вовсе не была направлена против США. В моих фильмах нередко случаются ужасные вещи, где бы ни происходило действие.
Я хочу всего лишь спасти Америку! Поверьте, для меня это настоящая страна неограниченных возможностей, очень красивая, где живут хорошие люди. Но, по-моему, что-то в Америке не так. Дело не в Буше. Он, конечно, полный идиот, но я не думаю, что он самостоятельно принимает решения. Человек, который может обратиться к нации 11 сентября и сказать: «Ужасно, что эти люди погибли!» Кто, кроме американцев, сочтет это достаточным? Президент констатирует, что случилось что-то ужасное… Я на месте американцев был бы разочарован. Но я уверен… нет, я не уверен ни в чем. Кроме того, что не поеду в Америку.
Не поедете?
Нет-нет, ни в коем случае. И в Россию тоже не поеду. Впрочем, пока я не планирую делать фильм о России. Я родом из маленькой страны, и для меня все большое – настоящий ад. Правда, я был коммунистом. Раньше. Вот и вдохновение для «Догвилля» я черпал в театральной системе и пьесах Бертольда Брехта – например, «Трехгрошовой опере». Кажется, опять становлюсь социалистом… Сделал политический фильм.
А «Танцующая в темноте» не была политическим фильмом?
Не знаю. В некотором смысле к политике имеет отношение буквально все, но в новом фильме больше политической иронии, чего-то в этом духе.
Американское влияние вы тоже ощущали? Или Брехтом дело ограничилось?
Наверное, не ограничилось, но я стараюсь об этом не задумываться. Я пытаюсь закрыться, отгородиться от мира на пару недель, пишу не останавливаясь, пока сценарий не будет окончен. А потом не меняю ни слова. Так я и работаю. Хотя уверен, что на меня повлияли многие, включая Уолта Диснея.
Что, любопытно знать, вы думаете о теперешней деятельности американских кинорежиссеров – Стивена Спилберга или Джорджа Лукаса?
Когда-то они были хороши в своем деле, но сегодня не представляют никакой ценности.
А кто представляет – для вас? В той же Америке?
Я видел «Магнолию», и мне очень понравилось. Этот Пол Томас Андерсон – крайне интересный парень, и у нас в «Догвилле» играют несколько актеров из «Магнолии». Еще мне нравятся фильмы Кассаветиса-младшего.
А как вы относитесь к Дэвиду Линчу – вас, помнится, называли поначалу «европейским Линчем»?
Легко сказать, что на что похоже. Так скажешь, что все вокруг нас – Дэвид Линч. Проблема в том, что если ты очень близок к кому-нибудь… Скажу я вам, что как журналист вы мне напоминаете другого журналиста. Вы, скорее всего, его возненавидите: если вы делаете в той или иной степени одно и то же, теперь вы будете стремиться к чему-то другому. Я по Дэвиду Линчу с ума не схожу, мне он даже не нравится. Может, мы слишком близки? Вот, скажем, если ты делаешь мебель – столы, например: для тебя очевидны отличия твоих столов от остальных, всякие детали… А люди вокруг тебя скажут: «Да это такой же стол, как остальные».
2003Вернемся к путешествиям. Не хотелось бы вам когда-нибудь совершить такое же «виртуальное» путешествие, как в «Догвилле», только не в США, а в Россию?
Мне не нравится ездить в Германию для работы над оперой, но я обязан это делать. Я не хочу ехать в Россию и делать там кино, но, быть может, однажды мне придется это сделать. Такое, знаете, добровольное наказание. Поймите, я действительно терпеть не могу путешествовать, и нет ничего хуже для меня, чем идея оказаться однажды в незнакомом отеле посреди Москвы. Это так клаустрофобично! Хотя я уверен – в России есть потрясающие места.
Но ведь можно просто построить павильон, расчертить пол мелом и создать там вашу версию России!
Почему нет? Это могло бы стать моей специализацией… И почему тогда Россия, а не, скажем, Япония? Наверное, получилось бы нечто ужасно наивное и странное.
Почему так и не удалось реализовать проект фильма по сценарию Фридриха Горенштейна о бароне фон Унгерне, который вы должны были снимать в Сибири?
Это был проект одного немецкого продюсера, который и познакомил нас с Фридрихом. В этом-то и была проблема: слишком продюсерский проект для того, чтобы я за него брался. Лишь однажды я сделал фильм, идея которого пришла не из моей собственной головы, – «Медею» по сценарию Карла Теодора Дрейера. И это было очень трудно. Делать картину с Горенштейном тоже могло бы стать сущим наказанием, если бы проект осуществился, но ведь тогда деньги на него так и не нашлись! С Горенштейном я встречался не раз, и он показался мне любопытной личностью. Он был помешан на кошках. У него их было полным-полно, и он постоянно спрашивал меня о кошачьей еде, которую производят в Дании. И он считал, что смерть Тарковского была результатом проклятия, наложенного на него за смерть лошади, погибшей во время съемок «Андрея Рублева». Лошади, кошки… Он еще жив, Горенштейн?
Нет, он умер.
Как грустно… Интересно, что стало с его кошками?
Неизвестно. Зато точно известно, что проект еще теплится, сценарий существует, только финансирование до сих пор не обеспечено.
Да, потрясающая история и очень странный проект. Это и вселило в меня сомнения: надо ли мне вовлекаться в такую странную историю? Иногда кажется, что какие-то вещи очевидны: например, для Орсона Уэллса вполне естественным было взяться за Кафку, но когда он поставил «Процесс», получилось что-то не то. В нем самом было слишком много от Кафки, и это куда проще почувствовать в «Леди из Шанхая», от которой я просто без ума, чем в «Процессе» – тщетных стараниях американца быть похожим на европейца. Если вы вовлечете режиссера с репутацией безумца в безумную историю, окажется слишком много безумия для одного фильма. Я спрашивал себя – чем я могу дополнить эту фантастическую и странную историю? Ответа не было.
То есть вы предпочитаете самостоятельно выбирать маршрут своих фильмов-путешествий?
Да, поскольку в этом случае я уверен в том, что делаю. У меня есть сценарий в руках, я сам подгоняю съемки под него. А работая с чужим сценарием, ты всегда вынужден осваивать чисто технический подход: как делать эту сцену, как ту… И приходится уважать идеи автора сценария. В итоге возникает слишком сложная система. А может, мне так кажется, потому что я всегда работал иначе.
Значит, у вас нет мечты в один прекрасный день экранизировать какую-нибудь любимую книгу? Не считая, разумеется, сказки «Золотое сердце».
Нет, пожалуй, нет. Хороших книг много, и проблема в том, что они куда лучше фильмов. Лучше уж ставить фильм по слабой книге. Кажется, так и было с «Барри Линдоном» – роман успеха не имел, а фильм получился замечательный.
2003Вы по-прежнему не путешествуете? Россиянам нечего даже надеяться на встречу с вами?
Теоретическая возможность всегда существует… Хотя для меня даже поездка в Канны – настоящий ад.
От которого вы спасаетесь, проживая в самой, как говорят, дорогой в мире гостинице – «Hotel du Cap»?
Выбор был сделан не мной, а моим продюсером Вибеке Винделов. Она богатая женщина, сами понимаете. Но и мне там сразу понравилось, с первого раза. Там я избавлен от клаустрофобии, которая неминуемо настигает меня в Каннах. Вообще-то я бы предпочел отель подешевле, меня роскошь не прельщает, но в «Hotel du Cap» так хорошо! Даже в теннис играется хорошо.
Как вы все-таки добираетесь до тех же Канн из Дании?
На машине. Это занимает три дня. Когда кто-то другой за рулем, меня это не так уж и смущает. Особенно хорошо мне спится во время пересечения немецкой границы.
Но виртуальные путешествия в США вас по-прежнему интересуют? Может, съезди вы туда, ваше критическое отношение к этому государству поугасло бы?
А зачем? По-моему, критическое отношение к чему бы то ни было очень полезно! Я ничего не знаю о Штатах, но кто из режиссеров знает достаточно много о том, что становится темой его фильма? Профессора фильмов не ставят… и знают ли профессора достаточно много? Сомневаюсь.