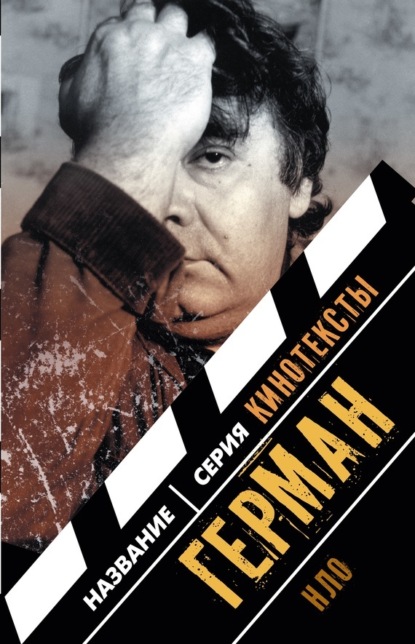Полная версия
Ларс фон Триер. Контрольные работы
Остроумная игра с общими местами заметна и в кастинге картины. Пожилые звезды Голливуда, давно почитаемые Триером, Филип Бейкер Холл и Бен Газзара, были выбраны на роль провинциальных обывателей – более респектабельный Холл стал местным столпом общества, а Газзара получил роль слепого, позволив зрителям сравнить образ агрессивного и самоуверенного слепца на своей территории с беззащитным ослепшим чужаком из «Танцующей в темноте». Шарм кинозвезды старого Голливуда Лорен Бэколл перевоплотился в пошловатую повадку провинциальной торговки, а ее младшей сестрой и подпевалой было суждено стать звезде уже европейской, музе Бергмана Харриет Андерссон. Джеймс Каан отлично подошел на роль главы гангстеров: это уже не импульсивный бешеный мачо, каким он был в роли Сонни в «Крестном отце», а задумчивый философ, доросший до статуса дона Корлеоне. Наконец, фаворитка европейских режиссеров и главная чужеземка современного американского кино, австралийка Николь Кидман, получила роль беглянки Грейс, угнетаемой и используемой коренными жителями США. Французские критики сделали забавное наблюдение: возлюбленного героини Николь Кидман зовут Томом, и наверняка в этом можно прочитать намек на Тома Круза, много лет бывшего мужем актрисы. На протяжении всего фильма она ждет от любимого мужчины помощи – тщетно, а в финале, к общему восторгу, лично подносит пистолет к его виску: «Некоторые вещи приходится делать самой». Думал об этом Триер или нет (известно наверняка, что еще на стадии написания сценария он надеялся взять на главную роль именно Кидман), остается неизвестным.
Всегда найдется место и для более глобальных трактовок: многие прочитали образ Грейс как воплощение Европы, которую Америка спасает от нацизма, чтобы затем многократно унижать и насиловать. Все вроде бы сходится, кроме одного – внимательно посмотрев предыдущие фильмы Триера, любой поймет, что режиссер далек от того, чтобы винить в несчастиях Европы американцев. Те, кого оскорбил «Догвилль», готовились к оскорблению. Недаром эмоциональный шок, в который повергла Европу «Танцующая в темноте», прошел в США вовсе не замеченным – узкий прокат и единственная анекдотическая номинация на «Оскар» за лучшую песню свидетельствуют об этом. Прямые цитаты из «Танцующей…» в «Чикаго» вовсе не были замечены американской прессой, а заслугу Триера в воскрешении моды на ретромюзиклы продолжают отрицать. «Догвилль» заставил одного из американских журналистов написать, что впечатление от фильма сравнимо с просмотром в замедленном воспроизведении документальных кадров с самолетами Усамы бен Ладена, врезающимися в башни Всемирного торгового центра. Разумеется, это комичное преувеличение.
«Дорогая Венди» – следующий «американский» сценарий, написанный Триером после «Догвилля» и до второй части трилогии, «Мандерлей». В нем отдельно взятый американский городок использован как условный плацдарм для развития различных поведенческих моделей – точно так же как и в «Догвилле». Самый непривлекательный из персонажей, играющий в добряка шеф полиции (вновь, после «Танцующей в темноте»), любит разглагольствовать о «судьбах этой страны»: его умозрительный патриотизм, как и умозрительный страх горожан перед мифическими бандитами, позволяет свершиться кровавой бойне в последней сцене. Вновь Триер изображает США как страну утопий или, лучше сказать, страну-утопию, где предполагаемое и воображаемое – счастливые судьбы героев мюзиклов, доброта простых и честных бедняков, равные возможности различных неудачников – занимает место реального. А над этим воображаемым пространством реет звездно-полосатый стяг, эмблему с которым надевают на грудь идущие на смерть стрелки-«денди», готовые сразиться в безнадежном поединке с доблестными правоохранительными органами.
Если включать в заявленную Триером и все-таки им не законченную трилогию «U.S.A.» поставленную по его сценарию Томасом Винтербергом «Дорогую Венди», можно будет считать проект завершенным. А запланированный «Васингтон» так и не был снят из-за провала «Мандерлея». Причиной неуспеха картины – более категорического и явного, чем в случае «Догвилля», радикализм которого впечатлил даже многих из тех, кому фильм не понравился, – стал полный повтор формального решения. Зрителя уже не удивляло пространство – пусть на этот раз начертанное не белым мелом на темном полу павильона, а, наоборот, черным углем на светлом фоне, но при этом организованное точно так же, как в «Догвилле». Сюжет вновь представлял собой путешествие Грейс в обособленный уголок Америки, символически воплощающий США как таковые, и столкновение ее прекраснодушия с суровой реальностью. Желая сделать как лучше, она лишь доводила ситуацию до кризиса, хотя на этот раз эскорт из гангстеров переводил ее из разряда жертв в категорию угнетателей. Даже финальный моральный парадокс мало кого всерьез взволновал.
Один из самых оригинальных и подрывных фильмов Триера может быть (и вновь ошибочно) расценен как первый неподдельно антиамериканский в его карьере. Ведь речь идет о рабовладельческих и рабских инстинктах – наследии самого мрачного периода национальной истории, язвы которого, по версии датского провокатора, не излечены Гражданской войной и реформами ХХ века. Полвека спустя после отмены рабства на плантации Мандерлей рабы по-прежнему служат белым господам, а те хлещут их кнутом и ранжируют по категориям, занесенным в особую книгу, «Закон Мэм» (в роли старой Мэм, умирающей в первых кадрах фильма, вновь занята подружившаяся с режиссером Лорен Бэколл). Взявшись исправить ситуацию, принесшая в Мандерлей демократию Грейс наводит там новые порядки, но ее неспособность изменить человеческое мышление отражается именно в неумении прочесть местные топонимы и разобраться в географии. Она приказывает вырубить «Сад старой дамы», чтобы починить прохудившиеся крыши в хижинах рабов, и в результате пыльная буря приносит на плантацию бурю и неурожай. Схематизм нарисованной на земле усадьбы в данном случае идеально отражен в схематичном мышлении героини-освободительницы и легко с ней соглашающихся зрителей. Так же ошибочно видеть в «Мандерлее» манифест, направленный против лицемерия Америки, не желающей по-настоящему освобождать бывших рабов и признавать их равными. Речь в фильме идет, скорее, о рабской участи любого человека, подчиненного законам общества: падающая в объятия брутального негра-одиночки Тимоти Грейс с наслаждением испытывает это рабство и на себе. Слабость и несовершенство людей – вот единственный закон, куда более жестокий, чем могло бы прийти в голову любому плантатору.
Как обвинять Триера в нападках на Америку, если в каждом новом фильме он уносится фантазией именно туда, становится, по собственному выражению, ею одержим, помещает туда все свои страхи и свои надежды, а значит – неминуемо любит, хотя и по-своему, ту землю? Родную Европу режиссер лишал знакомых очертаний, размывал и деформировал, а Америку он, напротив, творит заново и реконструирует. Не избавляется от нее, как от Европы, – напротив, на свой лад стремится к ней. А желание стать в позу провокатора, чтобы из чистого задора дразнить всесильные США, вызывает, скорее, симпатию.
Пункт назначения: космос
Новый поворот в причудливом маршруте Ларса фон Триера – «Антихрист»: в этом фильме попросту нет места действия (адрес на конверте, если всмотреться, предполагает ту же Америку, но больше ни одного намека на это нет). Пространство предельно условно, даже главные герои, Он и Она, вовсе лишены имен, а по-английски говорят исключительно для удобства зрителя. Ну, и еще потому, что Уиллем Дэфо – американец, а Шарлотта Гэнзбур – наполовину англичанка. В прелюдии к фильму режиссер впервые со времен «Эпидемии» возвращается к стилизованному изысканному черно-белому изображению, то есть демонстративно вновь отсылает к миру воображаемого, которому и посвящена картина.
Пока мужчина и женщина занимаются сексом, их ребенок выбирается из кроватки и залезает на подоконник. Его завораживает снег, медленно падающий с неба, и он делает шаг навстречу снегу – падает из окна и разбивается. Смертельное движение навстречу природе – то самое, вектор которого становится в «Антихристе» решающим. Переживая боль утраты, родители решают отправиться в загородный дом, в лес, где провели с ребенком прошлое лето. Подальше от цивилизации, от умствований, от логики. Поэтому лес, где происходит большая часть действия, хочется написать с большой буквы: Лес. Это пространство, позволяющее героям, в прямом смысле слова, выйти в астрал, забыв о географии, обществе и даже времени (в Лесу нет ни мобильников, ни гаджетов, ни иных видов связи с остальным миром).
Если раньше Триер создавал искусственную Европу из сотен живописных обломков, то теперь он довольствуется найденным в Германии природным ландшафтом, остраняя его при помощи радикального замедления движения: переход в эту сновидческую зону делает угрожающим любое колыхание травы или ветвей на ветру, а обычный дождь начинает казаться вестником апокалипсиса. Главные герои фильма воспринимают Лес по-разному. Для мужчины это пространство, очищенное от дополнительных смыслов, своеобразный детокс для ума. Для женщины, связывающей Лес с воспоминаниями о погибшем сыне, глубинным смыслом наполнен каждый мостик через ручей, пересечение которого вдруг становится серьезным подвигом. Это возвращение символизма по-триеровски, когда ни один из образов не подлежит однозначной расшифровке. Вместо предполагаемого излечения – перехода женщины на рациональную сторону – мужчина-логик заражается безумием, то есть способностью видеть за каждым явлением скрытый смысл. Одушевление природы происходит через сны, видения и галлюцинации, которые с каждой минутой все крепче соединяются с реалистическим пластом происходящего. И вот уже лисья нора оказывается убежищем для мужчины, за которым гонится олицетворенный Антихрист – его сошедшая с ума жена-ведьма.
Бывший рай – недаром герои прозвали свой лесной домик «Эдемом» – осквернен явлением человека, давно изгнанного из всевозможных парадизов: теперь у него, стоит ступить на эту почву, земля горит под ногами, в буквальном смысле. «Природа – церковь Сатаны», – сообщает Она Ему. Безобидные улитки, прячущиеся в траве насекомые, сыплющиеся с ближайшего дуба на крышу домика желуди – все они начинают казаться знамениями грядущего несчастья. Животные же – не менее важные для художественного строя картины, чем актеры-люди, – активно участвуют в происходящем (возможно, Триер таким образом пытается искупить вину перед лошадьми, которых он, по примеру Тарковского, мучил на съемках «Элемента преступления», и безвинно убитым ослом Люцифером на съемках «Мандерлея»). Косуля с мертвым плодом, агрессивная ворона, выпотрошенный лис, произносящий в камеру ключевую реплику: «Хаос правит миром!» – в финальных титрах специально отмечено, что никто из них не пострадал. Все трое суть воплощенная природа, обретшая сознание и голос, ожившее пространство, не согласное быть лишь фоном для человеческих страстей. Неудивительно, что к финалу животные превращаются в олицетворения трех стихий, давших подзаголовки главам, на которые разделен фильм: Скорбь, Боль, Отчаяние (мистификатор Триер также называет их «Тремя нищими»).
Ближе к финалу, в кульминационный момент, обездвиженный множественными травмами герой смотрит в ночное небо и видит, как звезды складываются в силуэты косули, лиса и вороны. «Нет таких созвездий», – протестует он едва слышным голосом. В этом крохотном эпизоде – зародыш следующего проекта режиссера, фильма-катастрофы «Меланхолия». Тот же Лес, превращенный бесконечным замедлением в заколдованное пространство, предстает уже в увертюре к фильму как земное отражение космического парада – явления невесть откуда взявшейся планеты Меланхолии, чья орбита неожиданно пересеклась с орбитой нашей планеты. Отныне Триеру недостаточно вселенной, построенной им на Земле, он управляет и светилами.
«Меланхолия» разделена на две половины. Первая, названная по имени главной героини «Жюстина», рассказывает о ее неудавшейся свадьбе в роскошном замке (фильм снимался в замке Тьолонхольм в Швеции), где живет с мужем и сыном ее родная сестра. Все идет не так, на Жюстину (лучшая роль Кирстен Данст) волнами накатывает депрессия, мать сыплет обвинениями, отец трусливо скрывается, и в итоге она всех посылает подальше – от босса, готового предложить ей повышение, до ни в чем не повинного жениха. Это земная часть. Вторая, названная именем прагматичной сестры Жюстины, семейственной Клэр, – небесная. В ней к Земле приближается космическое тело, столкновение которого с нашей планетой – поначалу маловероятное, в финале уже неотвратимое – приговаривает к высшей мере все живое, но излечивает Жюстину от затяжной депрессии.
Земная, насквозь искусственная, гармония воплощена в картинном поместье на берегу моря и расположенном на его территории поле для игры в гольф – главном предмете гордости владельца замка Джона (Кифер Сазерленд). Именно это регулярное выморочное пространство донельзя раздражает Жюстину, которая постоянно норовит как-то его осквернить: то помочиться в одну из лунок, то заняться на поле сексом с самым ничтожным из гостей, клерком-карьеристом. Именно мертвящее совершенство срежиссированных свадебных ритуалов уничтожает в ней те чувства, которые, как кажется в начале фильма, она еще питает к родным и жениху. Жюстина, конечно, один из многочисленных автопортретов Триера: она разрушает окружающее именно потому, что оно слишком идеально организовано. Зато летящая к Земле Меланхолия не просто интересует, но сексуально возбуждает ее. Нагая, раскинувшись на берегу, она купается в холодном свете голубой планеты-убийцы, призывает ее: совокупление приравнено к смерти и тем самым привлекательно. Под воздействием магнитного поля Меланхолии сбивается и скучная земная регулярность. Насекомые, животные и птицы разлетаются кто куда, почва теряет плотность и превращается в трясину, перестают функционировать даже самые совершенные механизмы, а воздетые к небу пальцы героини освещаются огоньками святого Эльма.
Героиня Шарлотты Гэнзбур в «Антихристе» называла природу церковью Сатаны; Жюстина в «Меланхолии» последовательнее – она называет злом, подлежащим уничтожению, всю жизнь на земле. Однако перед племянником «железная тетя», настаивающая на честности в любой ситуации, решает разыграть последний спектакль: собрать шалаш из собранных в лесу ветвей и убедить ребенка, что это шаткое строение защитит его от верной гибели. Что это – капитуляция Триера перед неизбежной для кинематографа потребностью в утешительном вранье? Вероятно, нет: волшебный домик – метафора умозрительных построек, примером которых является любой из фильмов режиссера. От жестокой жизни и тем более смерти это убежище не спасет никого, но даст иллюзию, которая позволит сохранять спокойствие до самого финала. В этой анекдотичной конструкции – эхо нарисованного мелом Догвилля и начертанного углем Мандерлея, условная Германия «Европы» и стены больничного «Королевства». В ней и ответ на вопрос о том, что человек способен противопоставить приговору безжалостной природы: воображаемое убежище собственной черепной коробки.
Превосходную метафору лабиринта, в котором человек заперт пожизненно и из которого не выберется, пока не разберется в самом себе, представляет декорация первой сцены «Нимфоманки» – третьей части «трилогии депрессии», начатой «Антихристом» и «Меланхолией». Кирпичный двор, который со стороны кажется замкнутым, место финальной конфронтации героини, одержимой сексом Джо (вновь Гэнзбур), с ее бывшим возлюбленным и приемной дочерью. Но пока об этом никак не догадаться: неподвижная, еле дышащая, избитая и униженная женщина лежит на земле под падающим с небес снегом. Выход из этого пространства – диалог с самой собой, со второй, до поры до времени скрытой ипостасью своего я, по-мужски рациональной. Это второе я, которому в «Антихристе» была дана профессия психотерапевта, в «Нимфоманке» оказывается одиноким холостяком Селигманом, приглашающим Джо в свою квартирку – выпить чая с молоком и прийти в себя. Собственно, этот чай – единственное указание на то, что действие, возможно, происходит в Великобритании (позже на экране невзначай мелькнут фунты стерлингов и автомобили с правым рулем).
Комната, больше похожая на монашескую келью, где Джо исповедуется Селигману, – пространство замкнутое, темное, ночное. В нем закоулками и тупиками лабиринта оказываются немногочисленные артефакты, каждый из которых служит зачином для очередной главы жизнеописания Джо: рогалик, кассетный магнитофон, книга, картина, икона, зеркало, искусственная муха для рыбалки. Селигман – тюремщик поневоле, стремящийся использовать каждый из объектов как ключ, чтобы выпустить пленницу. Скажем, муха создает параллель с наживкой, переводя разговор о сексе из опасного морального поля в естественно-физиологическое, а кассетник помогает превратить полигамию героини в полифонию по образцу Баха или Палестрины. Однако сама героиня, пленница собственной природы, жаждет другого освобождения: как замечает она сама, ее единственный грех – склонность ждать от заката «чего-то большего». Умозрительный мирок Селигмана довольствуется, напротив, меньшим, случайно отраженным на кирпичной стене солнечным зайчиком (отсветом того «альпенглюнена», которым наслаждалась в «Догвилле» Грейс). Поэтому финал фильма, парадоксально рифмуясь с зачином, происходит и вовсе в абсолютной тьме, избавляясь от обманчиво-оптимистичного обещания солнца, которым привык довольствоваться Селигман.
В урбанистической «Нимфоманке» почти уничтожены приметы конкретной страны или города. Мир увиден героиней «сквозь тусклое стекло» (если употребить выражение, использованное в Библии и, вслед за ней, Бергманом). Триер дословно переводит метафору в визуальные образы. Сначала это полупрозрачная дверь в купе первого класса, где Джо впервые в жизни займется оральным сексом; потом – дверь в офис ее босса, которым оказывается когда-то лишивший ее невинности Джером; наконец, дверь в коридор дома, где принимает своих клиентов садо-мазо-гуру К. Вырваться к ясности она способна лишь в редких воспоминаниях о детстве, когда боготворимый Джо отец-врач водил ее в ближайший парк любоваться на деревья. Позже, в тяжелые моменты жизни, она утешается, листая альбом с собранным много лет назад гербарием. Каждый фильм Триера – такой же гербарий, напоминание о существующей где-то рядом, прекрасной, но недоступной испорченному и слабому человеку, природе.
Гуляя по парку зимой, отец Джо рассказывает ей о том, что когда опадают листья, обнажаются души деревьев – трогательно некрасивые, заслуживающие любви в еще большей степени. Он показывает ей и ясень, и тополь, и липу, а потом «свое дерево» – дуб. Поиск гармонии и смысла жизни героиней, проходящей через любовь и ревность, распутство и стыд, одиночество и преступления, – это поиски своего дерева, которое удостоверит ее право на естественное, правомочное существование среди не похожих на нее особей. Не случайно многие важные события ее жизни происходят именно там, в парке: она знакомится с новыми любовниками, встречает после долгого перерыва возлюбленного, принимает решение изменять мужу, потом объясняется с подопечной, которую удочерила и которой готовится передать криминальный бизнес. Но дерево удается отыскать в момент самого глубокого кризиса. Оставшись без семьи, друзей и коллег, Джо забирается в безлюдные края и на горе – через пропасть – встречает одинокое, согнутое под гнетом стихий, но не сломленное дерево. Это щемящее окончательное, чисто романтическое – в духе Каспара Давида Фридриха – признание своей неприкаянности и одиночества явно относится не к одной только Джо, но и к ее создателю Ларсу фон Триеру.
Пункт отправления: Дания
Даже управляя вселенной, он остается датчанином до мозга костей. На пике популярности Ларс фон Триер вдруг заявляет о намерении прервать любые путешествия – даже виртуальные, кинематографические – и снять в качестве следующего фильма малобюджетную комедию на датском языке. Премьера «Самого главного босса» назначена на скромнейшем Копенгагенском международном фестивале. Этот фильм – вероятно, наименее претенциозный из всего наследия Триера, – лучше других свидетельствует о его преданности Дании.
«Самый главный босс» – рассказ об одной датской IT-компании, фактический руководитель и владелец которой Равн (сотрудники считают его всего лишь юристом) решает продать бизнес исландцам, забрав все вырученные деньги себе. В том числе деньги за таинственный продукт под названием «Brooker-5», разработанный шестью «стариками», основателями фирмы. Для осуществления незаконной сделки он нанимает безработного актера Кристофера (Йенс Альбинус, игравший в «Идиотах» тезку этого персонажа), который должен сыграть роль приехавшего из Америки «самого главного босса», невидимого начальника: на него Равн привык сваливать все непопулярные решения. Осмотревшись на месте, познакомившись с сотрудниками и проведя первый тур переговоров с вечно недовольным исландским бизнесменом Финнуром, Кристофер понимает, что теперь для него дело чести – как-то помешать мошеннику. Однако его связывает подписанный договор, кроме того, согласно его внутреннему кодексу чести, роль надо сыграть до конца.
Изобретенный Триером трюк с компьютером, заменяющим оператора (так называемый automavision), помогает снимать офисную Данию будто шпионской камерой – неброско, даже неуклюже, с холодным парадоксальным юмором. Голые безликие помещения, где над неизвестными проектами корпят служащие, – те же схематичные павильоны «Догвилля» и «Мандерлея», только без брехтовской позы. Однако, как и там, только люди имеют значение – и их взаимоотношения позволяют выстроить комедию, не погружаясь в профессиональные детали. «Самый главный босс» – вторая, после «Идиотов», попытка (недаром трое актеров пришли в проект оттуда: кроме Альбинуса это Хенрик Прип и Луиза Миериц) нарисовать коллективный портрет датчан. Они наивны и простодушны – как крестьянин Горм (Каспар Кристенсен), бросающийся бить морду неожиданно объявившемуся начальнику, – но отходчивы и добры: стоит показать немного напускного тепла, и стокгольмский синдром берет свое. Одна сотрудница (звезда «Догмы» Ибен Хьеле) готова отдаться боссу, ничего не требуя взамен, другая, более застенчивая (Мия Лине) собирается и вовсе выйти за него замуж, невзирая на перспективу увольнения.
Датчане для Триера – те же дети: на них он смотрит со снисходительной нежностью многодетного отца и симпатией закоренелого инфантила. Такими они представали еще в «Королевстве», где, под презрительными взглядами шведа Хелмера, гонялись за привидениями и боролись с невежеством посредством участия в масонской ложе. Неизменным это качество оставалось в «Идиотах», где, изображая умственно отсталых, хулиганы-интеллектуалы демонстративно и концептуально впадали в детство: дурачились в общественном бассейне, обходили дома с аляповатыми рождественскими поделками, беззастенчиво били на жалость, издеваясь над политкорректными согражданами. В «Самом главном боссе» главной причиной, заставляющей Равна (на его роль не случайно выбран Петер Ганцлер, со времен популярного «Итальянского для начинающих» привыкший играть роли трогательных симпатяг) врать своим коллегам, оказывается не жажда наживы, а желание быть всеобщим любимцем. Договариваясь с Кристофером о встрече на нейтральной территории – Триер пользуется этим для кратких экскурсий по любимым местам датчан, – Равн приводит его то в кино, то к киоску с хот-догами, а один из раундов переговоров происходит на крутящейся карусели, под мороженое. Этот уютный и трогательный тотальный детский сад – Дания, которая в глазах Триера совсем не похожа ни на мифическую Европу, ни на придуманную Америку.
Но со своей натурой режиссер ничего поделать не может. Умиляясь соотечественникам, он время от времени отъезжает вместе с камерой куда-то в сторону, показывая на общем плане уродливое здание (в его недрах и разворачивается почти все действие) и иронически комментируя происходящее. Он, как когда-то Хелмер, а теперь – крикливый и скандальный Финнур, не менее истово ненавидящий датчан за сентиментальность и мягкотелость, готов наказать их за прекраснодушие, как наказывает сама жизнь. Недаром его герой-актер изображает босса, приехавшего издалека – разумеется, из Америки. На самом же деле сам Кристофер – датчанин, который поклоняется иностранному авторитету, мифическому гениальному драматургу Гамбини. В хорошей драматургии роли злодеев всегда привлекательней и интересней ролей героев, так что «самый главный босс» все-таки в итоге покажет себя с худшей стороны. И это тоже типичный Триер, чьим развернутым и откровенным, в немалой степени карикатурным, но от этого не менее правдивым автопортретом остается этот скромный фильм.
Хотел ли Ларс фон Триер быть боссом? Как вышло, что режиссер, очевидно ориентирующийся на классическую модель поведения гения-затворника, оказался вдруг лидером целого движения и главой крупнейшей в стране киностудии? Парадокс или закономерность? Да, он действительно не общается с журналистами, боится путешествий, живет отшельником, позволяет себе неполиткорректные высказывания. Тем не менее, собрав все доступные сведения о нем, понимаешь, что он типичный представитель своего народа, который, если верить путеводителям, придает огромное значение мнению окружающих и включенности каждого в ту или иную общность. Желание быть «одним из» проходит красной нитью через всю биографию Триера, включая полуанекдотические факты, вроде его одержимости иудаизмом, многократных посещений синагоги и соблюдения кашрута в ранней юности. Позже режиссер узнал, что его отец-иудей не был его биологическим родителем, и решил сделаться коммунистом, как мать. Максимально отгородившись от внешнего мира, не приехав даже в Канны, где триумфально прошла премьера фильма «Рассекая волны», а позже он был награжден, два года спустя Триер явился на каннской лестнице с манифестом «Догмы». Представить себе любого из его духовных учителей с радикальным манифестом собственного сочинения невозможно: ни Дрейер, ни Тарковский, ни Бергман никогда не согласились бы будоражить общественность подобным образом.