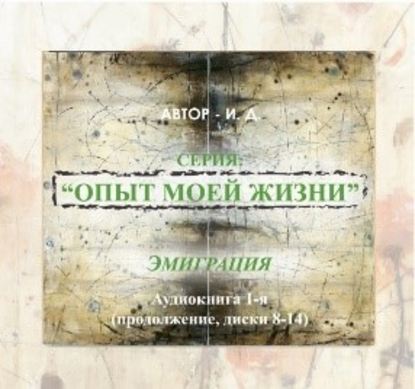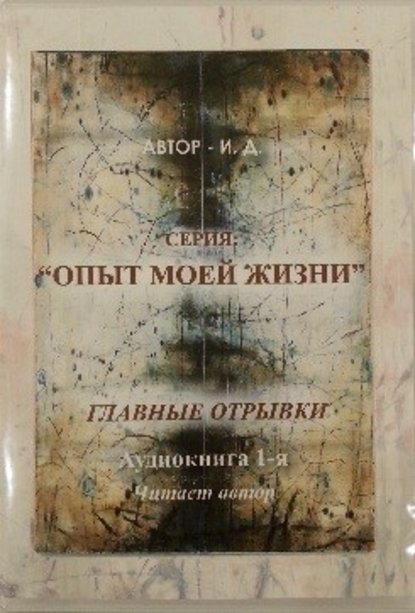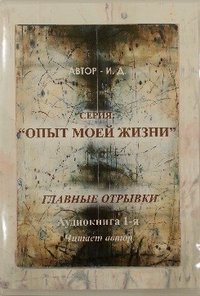Полная версия
Опыт моей жизни. Книга 2. Любовь в Нью-Йорке

И.Д.
Опыт моей жизни. Книга 2. Любовь в Нью-Йорке
© I and I Publishing
* * *«Редкое литературное Явление…»
Ольга Хасти,профессор русской литературы Принстонского университета,«Читать это по-настоящему интересно… Книга написана искренне, стремительно. Из нее хлещет энергия таланта…»
Виктория Токарева,писатель, Россия«Публикация этого произведения будет заметным событием в литературе…
…Роман представляет живой интерес для читателей, независимо от того, в каком мире они росли и к какой культуре принадлежат».
Лазарь Флейшман,профессор русской литературы Стэнфордского университета, СШАВиктория Токарева
Откровенность свободного человека
Если дерево пересадить на другую почву, оно может легко прижиться, может прижиться трудно или не прижиться вообще.
То же самое – эмиграция. Человек тоже имеет свою корневую систему, и, когда она нарушается, происходит разлом души.
Именно об этом пишет И. Д. в своем романе «Эмиграция». В книге исследуются все аспекты эмиграции: моральный и материальный. И душевный.
Семья переезжает из Советского Союза в Америку, из города Нальчик в Нью-Йорк. Родители бросают большой прекрасный дом, родственников, друзей – родных и близких, и переезжают в чужой и чуждый мегаполис Нью-Йорка, селятся в квартиру с тараканами, в чужой язык. Без языка человек теряет восемьдесят процентов своей индивидуальности.
В пятнадцатилетней девочке постоянно висит вопрос: зачем? Кому это было надо? Во имя чего?
Инициатор отъезда – отец. Научный работник, который задыхался в тоталитаризме и жаждал свободы.
Пятнадцатилетняя героиня отчаянно тоскует о прошлой жизни. Именно ей приходится платить за кризис отца. И. Д. погружается в депрессию. Приходится обратиться ко врачу-психоаналитику, и вместе с врачом, который играет роль духовника, шаг за шагом выбираться из пропасти.
Читать это по-настоящему интересно. Детали повествования не выдуманы. Такое нельзя выдумать.
Книга написана искренне, стремительно. Из нее хлещет энергия таланта. Всякое художественное произведение – это мера искренности и таланта. Без таланта ничего не получится. Никто не станет читать. Но и без правды – тоже не будет книги. Ощущение правды как бы входит в талант.
И. Д. ничего не скрывает. Она выворачивает душу, как карман, и вытряхивает наружу все, что в нем есть. Это очень русская манера. Я считаю, что искренность – это основная ценность романа.
Профессор Новиков, наш ведущий литературовед, считает, что литература «про себя» бывает высокой только тогда, когда становится предельно честной и грубой. Полуобнажение тут не пройдет. Только срывание всех и всяческих масок. Как у Толстого. Недаром Лев Толстой – любимый писатель И. Д.
Если уж говорить о себе, то выговаривать все самое тайное, чтобы читатель наедине с книгой мог признаться себе в том, в чем наедине с собой ему признаться трудно.
В автобиографической книге два героя: тот, кто пишет, и тот, кто читает. Читающий должен себя узнавать в авторе, поскольку все люди, несмотря на различия примерно одинаковы. Когда горе – плачут. Когда радость – смеются. Одинаково рождаются, и, наверное, одинаково умирают.
Я как читатель верила каждому слову, сочувствовала героине и любила ее. Я не могла оторваться от страниц. Книга держала меня, втягивала.
Мне кажется, что талант – качество врожденное. Его невозможно добиться трудолюбием, если он не заложен богом, как дискета в компьютер. Человек может ничего не знать об этой божьей дискете, но его неудержимо будет тянуть к письменному столу. Именно это происходит с И. Д. Она постоянно думает о писательстве. Она хочет оставить след в этой жизни. Она не идет работать программисткой и маникюршей, потому что чувствует другое призвание.
В ней постоянные вопросы: «кто я?», «зачем я?». «Зачем все, если я все равно умру»…
Андрей Тарковский сказал, что самоусовершенствование – это смысл жизни.
И. Д. многого добивается своим умом, талантом, трудом, энергией. Ее жизнь, как стремительный поток, несущийся с горы, и вода в нем прозрачная, чистая и целебная. В нем отражается солнце, сверкают брызги, прыгает форель. В такой воде нет никакой химии, никаких вредных примесей и, читая книгу, невольно заражаешься жаждой действия и желанием счастья.
Книга написана бурно, многословно. В языке чувствуются украинизмы и подстрочник. Чувствуется, что автор двуязычный, и некоторые обороты написаны как дословный перевод. Америка сделала свое дело. Она впиталась в язык, а значит, в кровь. Но главное в книге – не язык, а уникальный опыт отдельно взятого человека.
Интересны сама жизнь и желание автора донести до нас свой опыт.
Америка научила ее вытащить из себя все резервы. И она их вытащит. И станет хозяйкой жизни. Она победит, добьется, достигнет. Но ничто не придет к ней даром. За все придется заплатить сполна – страданиями, трудом, талантом.
Книга несет в себе нравственный заряд. Невольно вспоминается притча о лягушке, которая попала в горшок с молоком. Но не смирилась, а стала активно дергаться и в результате взбила масло и выскочила из горшка.
Всегда можно выскочить из любого горшка, будь то Америка или несчастная любовь, болезнь или бедность. Путь к победе один. Не сидеть сложа руки, а действовать.
Героиня И. Д. – разная. Мудрая и простодушная. Расчетливая и романтичная. Подозрительная и доверчивая. Но ею всегда движет тоска по идеалу. Она ищет идеал. И даже если не найдет, то поиск сам по себе – это движение. Это самоусовершенствование.
Глава первая
Январь – май 1985 г.
Нельзя складывать ручки и идти ко дну, в какие бы жуткие условия ты ни попал. Вспомни про Робинзона Крузо, про графа Монте-Кристо. Люди попадали в экстремальные ситуации, но не сдавались. Мамина мама, моя бабушка (та, что в Союзе живет сейчас), в двадцать лет (!) осталась без мужа с двумя детьми. Это было после войны: женщин было много, мужчин мало. А уж женщине с двумя детьми, да еще на Кавказе, не светило ничего.
Так она и прожила всю жизнь без мужа. Себя детям посвятила. Выдержала. Я бы с ума сошла. В двадцать лет навсегда о себе забыть.
Она и до двадцати не особо много успела. Только вышла замуж, через год-другой его на фронт забрали. А еще через год получила повестку. Погиб. После войны голод. Молодая женщина одна, а маленьких детей кормить надо. И такое люди переживали. А что у тебя?! Бананы, тортики, печенье в холодильнике. Все есть. Книги целый контейнер с собой привезли. Тетради, ручки. Пластинки. Совершенствуй себя. Работай. Чего нюни распускать?!
* * *Проблема не в том, что ты попала в тяжелую ситуацию, а в твоей слабой воле, в неумении выдержать малейший дискомфорт.
Очнись! Ты же не в тюрьме, не на каторге, не на войне! Это только твое субъективное восприятие. Ты в большом великолепном городе, о котором мечтают как о счастье сотни тысяч людей в разных уголках мира. Чтобы попасть в этот город, люди переплывают океан на плоту, рискуя жизнью, бросают близких и родных, сидят в тюрьмах… на что только люди не идут, чтобы попасть в Нью-Йорк.
Руки ноги при тебе? Молодая, здоровая. Чего хнычешь? Ты в Нью-Йорке, в центре мировой цивилизации!
* * *Нью-Йоркский университет. Зачем я сюда приехала, – сама не знаю. Приехала. Есть ведь у них и актерские, и режиссерские отделения. Есть «Creative writing department»[1]. На месте разберемся.
Дверь лифта медленно отворилась и, невольно втягивая голову в плечи, я неуверенно вышла. В отличие от Бруклин-колледжа, здесь все было чисто, современно, красиво. И блестящие под лампами полкоридора, и могучие лампы на потолках, и объявления, висевшие на стенах, – все это было другого – лучшего уровня. Откуда-то доносилась музыка Баха.
«Бах!» – с удивлением и радостью подумала я.
Осторожно ступая и жадно оглядываясь по сторонам, я пошла по коридору. Я и хотела, и боялась наткнуться на следы кого-нибудь живого. Я шла по коридору, как мальчишка, забравшийся в чужой амбар, как воришка, пробравшийся в чужие хоромы. Как будто, если бы меня спросили, кто я такая и что я здесь делаю, меня бы и впрямь уличили в воровстве!
Вот стеклянное окошко ресепшен-деск. Внутри пусто. Пользуясь тем, что секретарша отошла, заглядываю внутрь. На стене висит огромная, на всю стену картина… Хорошая картина! Полки с книгами… Ага! Сердце мое бьется чаще. Я невольно стою минутку, просто смотрю на покоящиеся по ту сторону, за стеклом, богатства человеческого наследия. Вид этого маленького офиса купает меня, как музыка, в блаженстве. Я всегда испытываю такое чувство при виде уютного, ярко освещенного письменного стола, удобного рабочего места, за которое так и хочется сесть и начать работать. Стол есть у меня и дома: только там почему-то меня невозможно заставить сесть за него. Я иду дальше.
Двери. Стены. «Room[2] 411», «Room 412», «Room 413»… Подхожу к одной из дверей, прислушиваюсь: ни звука. Воровски оглянувшись по сторонам, нагибаюсь и смотрю в замочную скважину. Ничего не видно! Тогда, легчайшим движением руки прикоснувшись к ручке двери, перестав дышать, тихо-тихо поворачиваю ручку и еще тише толкаю дверь так, что образуется маленькая щелка, через которую видна узкая полоска классной комнаты. Только полоска света видна. Полоска расширяется, увеличивается, медленно растет, пока я с облегчением не вздыхаю, поняв, что в классе пусто. Окинув взглядом пустые стулья, натертый паркет, доску, я закрываю дверь и иду дальше. Звуки музыки и голоса все отчетливей и ясней, они приближаются, растут в пространстве.
Внутренне превратившись в незаметную тень, сжавшись в малюсенький, до невидимой точки, комок, я иду, чувствуя ужасную неловкость и дискомфорт, страшно желая и страшно боясь того, чтобы ко мне обратились. Девочки и мальчики в джинсах, свитерах, футболках, кто стоял у стола, кто сидел за столом, кто стоял на стульях, развешивая какие-то гирлянды и шары. Как видно, они украшали помещение для вечеринки. В углу на столе уже стояли бутылки с различными крепкими и мягкими напитками, пачки с печеньем, другие угощения. На другом столе стоял тот самый магнитофон, откуда исходила божественная музыка.
Одна из девчонок, отделившись от своих, повернувшись мне навстречу, спросила, глядя на меня, как глядят на незнакомца, которого вдруг обнаружили у себя в доме:
– Can I help you?[3]
– Я… Я…
Отчего с этими американцами я становлюсь такой робкой, такой беспомощно трусливой? Сколько раз я злилась на себя за это, сколько раз давала себе слово не бояться их! Попав в их общество, я тут же теряю все – и умение говорить, и умение понимать, и умение дружить, и умение быть собой!
– Я… хотела бы пройти в туалет, – говорю я.
– А! Туалет! – говорит дружелюбная американка. – Пройдите, пожалуйста, прямо и направо.
– Спасибо, говорю я и внешне спокойно, а внутренне, унося ноги, покидаю ярко освещенный вестибюль.
Снова оказавшись в пустом коридоре, я облегченно вздыхаю.
Снова я иду мимо пустых классов, мимо закрытых дверей. Вот на стене портрет какого-то незнакомого мне человека, под ним надпись:…the Great American Actor… Имя его представляет непроизносимый для меня каламбур. Чувствую, как холодная грубая рука, словно тисками сжимает мою грудь: не могу выговорить имя. Я стою у портрета и после долгого нашептывания, прищуривания, расщуривания, приближения головы, удаления головы наконец произношу по слогам: «Мак-уарси…». Я не уверена, правильно ли я озвучила имя великого актера, но все же повторяю его несколько раз, чтоб запомнить.
Немного дальше я замечаю другой портрет, тоже ничего не говорящий мне, на этот раз великого американского писателя. Я долго изучаю его имя и наконец произношу его вслух по слогам. Потом стараюсь вспомнить имя великого актера и его лицо, но уже не могу. И тут мне становится ясно, что я зря теряю время здесь, что я могу только ходить и смотреть, что я никогда не стану частью культуры, частью истории, которой совершенно не знаю. И если мне стоит таких усилий запомнить одно только имя или два имени, то, сколько должно занять времени, чтоб запомнить все имена, уже не говоря о творческом наследии, которое стоит за каждым именем.
Легко, естественно, как говорится, с молоком матери я вобрала в себя и знала, как знала свое имя, имена всех наших актеров и деятелей культуры, знала их работы, понимала их, любила. Я была в своей культуре как рыба в воде. А в американской культуре я была, как рыба, которую выловили из океана и привезли в Сахару.
Разве у рыбы есть шанс прижиться, адаптироваться в песчаной пустыне?!
* * *Вышла на улицу. Автомобили. Клубы дыма. Стою, куда идти, не знаю.
Нью-Йорк удивительно органичен в своем уродстве, этот город уродлив как внутренне, так и внешне.
Главное ощущение, исходящее от улиц, от всей атмосферы Нью-Йорка, – это ощущение адской помойки, состоящей, главным образом, из металла, копоти, гари, мусора, гниющих мусорных мешков и преступников, съехавшихся со всего мира.
В этом городе преобладают все мрачные, депрессивные цвета: черный, темно-коричневый, грязный, ржавый, серый и все их разновидности. Тяжелой депрессией здесь ложится на душу все: черные, коричневые билдинги[4] – эталон уродства с черными пожарными лестницами. Все здания покрыты вдобавок к уродливому цвету, в который почему-то, как нарочно, их красят, копотью и черной гарью. Черные как смоль гигантские мусорные мешки выставляются прямо на улицах, источая зловоние и подавляя в человеке радость жизни.
На загазованных, покрытых черной гарью дорогах, – бесконечные пробки, толпища уродливого железа и резины. Высокие металлические и темные здания, утопая в гари, загораживают собой даже небо и солнце, чтобы человеку совсем грустно и тошно жить было. Редкие деревца или цветочки задохнулись в дыму и копоти и пахнут, скорее, бензином, чем растениями.
Я забыла, как ощущается один вдох свежего чистого, напоенного запахом листвы воздуха. Я забыла, как выглядят светлые краски. Даже лица людей здесь изуродованы загрязненным воздухом и отсутствием солнечного света. Лица все – тусклые, безжизненные, уродливые. У всех мешки и синяки под глазами, болезненная бледность на лице. Здесь не увидишь ни одного свежего, румяного лица с блестящими глазами. У всех на лицах – равнодушие, отчужденность, болезнь…
Вот сумасшедший стоит в луже, прямо в своих рваных тапках, он весь грязный, оборванный. Он топчет лужу, разбрызгивая слякоть, и с особенным ожесточением приговаривает: «You are fired! Fired! Fired! You! Miserable piece of shit!..»[5]
Никто не обращает на сумасшедшего внимания. Все бегут мимо, куда-то торопятся. Только сумасшедший бомж никуда не спешит. Он и я – никуда не спешим.
* * *Мой родной город Нальчик… весь утопал в зелени. Городские парки и клумбы благоухали на каждом шагу.
Все было чисто. На асфальте ни окурочка. Солнечный свет заливал весь город жизнью и радостью, никакие небоскребы гигантских размеров не подпирали своим черным или серым металлом небо, не загораживали свет. Открытое светлое небо над головой – это же так естественно!
У нас была река Терек, чистая и прозрачная, как мечта. Водопады с шумом ниспадали в ущельях, наполняя воздух необыкновенной свежестью. Гора Эльбрус – наша гордость и достопримечательность – хрустальным хребтом упиралась в небесную синеву, и это была такая картина, от которой захватывало дух. В наших полях спела пшеница, наш воздух был такой свежести, что к нам на курорт съезжались люди со всех концов советской страны. Лечились грязями, пили минеральные воды. Еще со времен Лермонтова и Толстого красота нашего края, его самобытность и свежесть привлекали людей самых выдающихся и ярких.
Как можно было променять чистый горный воздух, наши леса и поля, наши покой и умиротворенье… на гарь, копоть, кучи вонючего мусора, бензин и металл, на камни и уродство?! Зачем??? Почему?
За внутренним содержанием мы приехали?
Подойдите к киоску в любое время года, когда бы то ни было, возьмите в руки любой журнал: солидный, именитый, уважаемый… какой хотите. Что вы увидите на обложке? На самом крупном плане: главные герои этой страны – это какая-нибудь мамаша, которая сбросила своего ребенка с крыши или накормила своим грудным младенцем соседскую овчарку, или маньяк, изнасиловавший, а потом зарезавший и съевший восемьдесят пять детей… и все в таком роде.
Включите телевизор – и вы услышите новости: о том, как очередной священник изнасиловал ребенка в католической школе, или как ребе убил свою жену и расчленил ее тело, а кусочки распихал по всему саду под деревьями, а овчарки случайно вынюхали кости. Или как какой-нибудь ученик средней школы застрелил из пулемета десять своих одноклассников и пять учителей.
Посмотрите самые популярные их передачи: выходит герой дня, семнадцатилетний подросток, застреливший свою мать за то, что она не дала ему посмотреть любимое шоу. Мать хотела смотреть мыльную оперу, а сын бейсбол. Ни тот ни другая не уступали друг другу. Тогда подросток пристрелил свою мать, чтобы она не мешала ему смотреть бейсбол. Посмотрев свою передачу до конца, подросток позвонил в полицию и добровольно сдался.[6]
Вся страна в шоке. Это же надо, застрелить кого-то за такую мелочь, да не просто кого-то, а собственную мать! Этот феномен страшно интересует американцев. Идет длительное интервью с героем по одному из самых центральных каналов, в одном из популярнейших ток-шоу с известнейшим телеведущим: как и почему он это сделал? Так же о нем упоминают все новости дня на всех других каналах. Ничего более достойного американцы для своих новостей не находят!
Убивает меня не столько то, что в этой стране находятся такие дебилы, как этот подросток, который застрелил мать, сколько то, что из этих дебилов американцы делают героев. Хотя – стоит задуматься, почему именно в этой стране так много таких, как этот, больных на голову?
Мое твердое убеждение, что Сталин или даже Гитлер тускнеют в сравнении с подобными новостями, характерными только для Америки. Такой подросток может иметь место именно в Америке: это не случайное явление в этой стране, а закономерное. Однако эмигранты, выбравшие эту страну, не устают повторять про Сталина, угробившего сколько-то там миллионов людей, а того, что убивает меня здесь, в упор не видят.
Зачем мы приехали в этот Мир Уродства? Каким безумием руководствовались все эти десятки, сотни тысяч людей, бросивших свою родную, прекрасную страну ради этого Мира Уродства? Зачем мы сюда приехали???
* * *Я оказалась напротив какого-то здания. Взгляд мой поразило удивительное зрелище. Прямо напротив меня располагался большой ресторан, где посетители чинно обедали, сидя за своими столиками.
Ничего в этом зрелище не было бы сверхъестественного (я уже привыкла к тому, как американцы смакуют еду), если бы через стеклянные окна второго этажа не был виден огромный тренажерный зал, где, в то время как на первом этаже народ, не спеша, наедал себе жир на бока, на втором – с таким же усердием, но уже более рьяно и отчаянно, занимался сжиганием набранных внизу калорий.
Феноменально смотрится эшелон выстроенных в ряд тренажерных машин, и на каждой машине с сосредоточенным лицом, полным решимости и целеустремленности, человек, до пота бегущий в никуда. Люди с сосредоточенными лицами, потные от прилагаемых ими усилий, бегут и бегут, бегут и бегут, а при этом стоят на том же самом месте. Этакое массовое безумие: ведь это не один человек занимается такой бессмыслицей, а толпища людей.
Огромный тренажерный зал, своим размером напоминающий аэродром, – лишь символизирует эту страну. Вся Америка помешана на похудании и, пытаясь сбросить лишние паунды, бежит в никуда. Бежит, потея от натуги, при этом остается на том же месте. И в прямом, и в переносном смысле: ведь что толку сбрасывать вес, если ты тут же снова побежишь в ресторан?!
А на третьем этаже (третьего этажа уже отсюда не видно, я чисто логически догадываюсь) – на третьем этаже они, наверно, зарабатывают деньги, чтобы платить на первом и втором этажах.
О великая страна Америка! Почему тебе непременно нужно бежать, стоя на месте? Почему нельзя бегать нормально, по парковой аллее, например? Или хотя бы просто по улице, на свежем воздухе? Почему все естественное тебе нужно непременно исковеркать, заключить в какую-то имитирующую естественный процесс неестественную копию?
Как же получилась, что у такой безумной страны так много поклонников?
* * *Я должна собрать все силы. Я должна забыть обо всем на свете. Я должна стать машиной. Любой ценой – я должна одолеть этот английский!
* * *Счетчик тикает. Боже мой! Мне уже двадцать лет! Двадцать лет! Где написанные шедевры?! Где хоть что-нибудь? Где хоть намек на то, что это когда-нибудь будет? Где хоть уж просто какая-нибудь человеческая профессия? Где самое важное, без чего даже громкие успехи мне не нужны, где Любовь?
* * *Сотни тысяч людей эмигрировали из Советского Союза в Америку. Большинство из них живет в Нью-Йорке.
Из такого количества людей ты не можешь найти одного нормального молодого человека?! Это абсурд! Быть такого не может!
А кто говорил, что нет ничего для нее невозможного, стоит ей только сильно захотеть?
Что ж, давай, подумаем стратегически: как его искать? Можно не ждать пассивно, когда он напишет о себе в «Новой жизни», а самой дать объявление.
«Девушка, 20, рост 5,7 (в США рост измеряют не в см, а в футах и дюймах), любит литературу. Устала общаться с программистами. Есть ли в этом городе хоть один молодой человек, которого серьезно интересует что-либо еще, кроме материального благосостояния?»
Неудобно писать объявление в газету, что ищу Любви… Можно написать сдержанней. Ищу друзей по интересам: творческих людей, поэтов, художников, музыкантов, моих ровесников…
* * *– Здра-а-сте! Меня зовут Мэри Дурнева! Я поэт. Я звоню по объявлению. Очень интересное объявление. Как это нет поэтов в эмиграции! Как это нет своих людей! Да у меня здесь сотни поклонников! Я тебя познакомлю, конечно. Сколько тебе лет? Девятнадцать? Вот здорово! И мне тоже! Конечно, нам нужно встретиться! Могу тебя сразу и пригласить на вечер своей поэзии, тебе будет интересно. Давай встретимся в четыре часа на Брайтоне, на углу Кони-Айленд-авеню. Почему я уехала из Союза? Ты что, серьезно спрашиваешь?! Нет, ты не творческий человек. Творческий человек не может не понимать… Свобода – для творческого человека – это все! А без свободы его нет! Не может быть творчества без свободы. Что именно я подразумеваю под словом «свобода»? Ну, ты спросишь! Ты чувствовала, что и в Союзе была свободна?!!! Какая свобода в Союзе! О чем ты говоришь! Да там даже невозможно и двух стихов в журнале каком-нибудь напечатать. Почему невозможно? Кроме своей просоветской белиберды они ведь ничего не печатают. Я уже знала слово в слово, все, что они опубликуют, заранее могла сказать, о чем будет кино, которое я пойду смотреть, о чем будет книга, которую возьму читать… О чем? Так все уже знали наизусть, всех уже тошнило. Все сказки небылицы, о «светлом будущем» социализма, о добре, справедливости, равенстве, которых на самом деле не существует, о том, чего нет в действительности, о том, во что отверили и разочаровались. А здесь? Здесь совсем другое дело! А здесь я издаю свою книгу. Я могу писать, о чем хочу! У меня вечера поэзии! Презентации. Совсем другая жизнь. Кто там напечатает?! Там можно печатать только одно – про счастливое советское будущее.
* * *Вот это да! Недаром говорят, что под лежачий камень вода не течет. Только одно новое движение – и вот, уже результат! Поэт, моя ровесница… Я уже приглашена на вечер поэзии… Я не зря всегда говорю: нельзя сдаваться, нужно пробовать все пути, даже самые безнадежные. Как я и думала, результат может неожиданно приятно удивить.
* * *На Брайтоне я долго не могла найти Мэри. Кстати, почему Мэри? Наверно, ее зовут Мария… Вечно они здесь строят из себя…
Женщина лет пятидесяти, а может, и сорока (я не разбираюсь) окликнула меня по имени.
– Привет, я Мэри! – радостно представилась она. – Я рада, что ты пришла послушать мою поэзию!
От удивления я не сразу могла сказать что-либо. Мне, в общем-то, все равно, даже если Мэри и шестьдесят, мне в нее не влюбляться… Но зачем ей понадобилось врать мне, что ей тоже девятнадцать? Странно как-то…
– Я бы вас здесь до второго пришествия искала… – сказала я смущенно. – Вы сказали, что вам девятнадцать лет…
– А мне и есть девятнадцать! – весело и очень искренне сказала Мэри. – Ты не смотри на меня так! Мне в душе – девятнадцать!
Действительно, на лице Мэри была какая-то детская ясность и жизнерадостность.
– Ну, пошли? – весело сказала она мне.