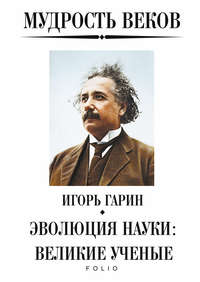Полная версия
Непризнанные гении
Согласно антропософии, человек является носителем сокровенных духовных сил, причем «всё тело человека построено так, что в органе духа, в мозгу, оно находит свой венец». Понять строение человеческого мозга можно лишь в связи с его функцией – быть орудием высшего духа. Физическое тело временно, дух же вечен, принадлежит «иному», сверхчувственному миру и подчиняется закону метемпсихоза. В человеке он проявляется с помощью физических механизмов мозга. Человеческая природа, по Р. Штейнеру, имеет чувственную и сверхчувственную стороны, и цель его медитативной практики и сосредоточения – узреть в себе высшее существо, способное войти в контакт с мировым Целым. В этом и заключается сущность гениального творчества.
Бессловесность творческого акта состоит в способности достигать единения с Высшим, а не рассуждать о нем. Главная отличительная черта творца – быть, а не знать: быть в мистическом состоянии, а не разглагольствовать о нем. Мистик, – свидетельствует великий поэт Сан Хуан де ла Крус, – вступает в контакт с Божественным и таким образом чувствует и ощущает Самого Бога. Выражение этих чувств и ощущений вторично по отношению с ними самими.
У. Б. Йитс считал, что границы человеческой памяти подвижны и что наши воспоминания – часть одной Великой Памяти, памяти самой Природы. Как уже отмечалось, Великое Сознание и Великая Память могут быть выявлены через символы. Великая Память – это и хранилище платоновского анемнезиса, божественных истоков души, и путь в иные миры, и «связь времен» и – одновременно – источник юнговских архетипов, унаследованных «идей», архаических образов коллективной человеческой памяти, совокупного бессознательного.
К. Г. Юнг считал, что архетипы – это символы мифа, повторяющиеся образы, художник же – выразитель «архаического бессознательного», становящийся гениальным именно в моменты своих откровений. Архетипы К. Г. Юнга и Великая Память У. Б. Йитса – «образы Божия внутри нас», знаки культуры, то, что делает искусство содержательным, а художника – сверхчутким к голосам бытия. На архетипах и Великой Памяти зиждется власть великих художников над чувствами и умами людей. Благодаря большой глубине залегания коллективное бессознательное мало подвержено влиянию среды и времени, то есть вневременно и общечеловечно. Оно – самое основательное в человеке, почти инстинкт, но инстинкт очеловеченный, одухотворенный.
Уильям Блейк проложил У. Б. Йитсу путь к символу как знаку сокровенного: «Аллегория, обращенная к интеллектуальным силам и в то же время скрытая от понимания, – вот мое определение самой возвышенной поэзии».
«Здесь, как и там, поэзия – магическое творчество под диктовку демона; здесь, как и там, за явным значением слов слух улавливает изначальный орфический звук, прорывающийся из иных сфер; здесь, как и там, чуждая жизни, неведающая рука творит собственное, новое небо над сияющими звездами, молниями духа объятым хаосом и рождает собственный миф. Поэзия и рисунок Блейка в сумерках души становится пифической вестью: как жрица, опьяненная необычайными видениями над вещими парами дельфийского ущелья, судорожно бормочет слова глубин, так созидающий демон выбрасывает из погасшего кратера огненную лаву и сверкающие камни».
У Блейка У. Б. Йитс заимствовал концепцию «божественного искусства воображения» – поэтический принцип, согласно которому искатели сокровенного должны развивать свое воображение до сверхчувственного предела. Как и для Лоса поэзии, воображение, интуиция были для него главными инструментами поэтического познания, направляемыми самим Богом: «Бог становится таким, как мы, чтобы мы могли стать такими, как Он».
«Я ныне уверен, – писал У. Б. Йитс, выражая свою эстетическую программу, – что воображение владеет некоторыми способами выявления истины, которых рассудок начисто лишен». Для Йитса, как и для Блейка, поэтический гений обладает пророческим даром, наделен особой интуитивной чувствительностью, способностью проникать в сущность явлений жизни. Поэт, постигающий бесконечное, постигает Бога. Исаия у Блейка говорит: «Я не вижу Бога и не слышу Его, ибо мое физическое восприятие ограничено, но мой дух постигает бесконечное во всем».
Творческие озарения и экстазы присущи особым состояниям сознания, мистическим переживаниям – свидетельствам посещения Бога, того, что душа «пребывала в Боге и Бог в ней» (святая Тереза). Сам Иисус говорил книжникам: «Мое учение – не Мое, но Пославшего Меня», и – ученикам: «А слово Мое, которое вы слышите, – не Мое, но пославшего Меня Отца» и «Но Я не один, потому что Отец со Мною». Сын Благословения свидетельствует о своей истине: «Я услышал ее от Бога». Личный опыт – вот единственное достоверное свидетельство «единения» с Высшим, и его отсутствие доказывает только то, что сознание творца еще не подготовлено к экстазу, этому радостному ликованию, опьянению Бесконечным. Даже незадолго до казни Иисус дистанцируется от Бога: «Он (Отец) – Дух Истины, Он введет вас (учеников Иисуса после его смерти) во всю истину» и «Молю, чтобы все едино были, как Ты, Отче, во Мне и Я в Тебе, чтобы и они (ученики) в нас были. Чтобы веровал мир, что Ты послал Меня».
Почти все великие поэты считают собственное творчество разновидностью автоматического письма – записями, которые они бессознательно делают по наитию свыше. Вот как об этом сказано в современной энциклопедии мистики: «Издревле существовало представление о боговдохновенности поэта, его посредничестве между миром божественным и человеческим. Платон в «Федре» говорит о некоем безумии, насылаемом Музами; оно «охватывает нежную и непорочную душу, пробуждает ее, заставляет выражать вакхический восторг в песнопениях и других видах творчества и, украшая несчетное множество деяний предков, воспитывает потомков. Кто же без неистовства, посланного Музами, подходит к порогу творчества в уверенности, что он благодаря одному лишь искусству станет изрядным поэтом, тот еще далек от совершенства: творения здравомыслящих затмятся творениями неистовых».
А. Мюссе писал о поэтическом творчестве, что оно не труд, но вслушивание, «словно бы кто-то неведомый нашептывает слова вам на ухо». У мистиков эта идея спонтанности и неуправляемости процессом творчества выражена еще ярче. Екатерина Сиенская диктовала свои «Диалоги» в состоянии экстатического транса. Тереза де Хесус уподобила свои труды болтовне попугая, что повторяет слова за хозяином, не понимая их смысла.
Мадам Гийон часто ощущала внезапное побуждение взяться за перо, противиться которому было невозможно. Слова и фразы, идеи и аргументы так и рвались из нее; одно из самых длинных ее сочинений было написано за полтора дня. «Я писала и видела, что пишу о вещах, которых не видела никогда; в откровении мне был дарован свет и понимание того, какая сокровищница знания и разумения, о которой я и не подозревала, заключена во мне». То же можно сказать о Елене Блаватской, отрицавшей авторство своих книг, надиктованных ей свыше. Нельзя снова не вспомнить У. Блейка, объявившего, что поэмы «Мильтон» и «Иерусалим» написаны им «непосредственно под диктовку… без всякого обдуманного намерения и даже против воли», а перед смертью – что творения его созданы его “небесными друзьями”».
Все большие художники, потрясаясь собственными откровениями, признавались себе и публике в том, что они только «голоса», что «через меня хочет быть», что «…было в сердце моем, как бы горящий огонь, и я истомился, удерживая его, и – не мог…», что «…не знаю сам, что буду петь, но только песня зреет», что «полным тайны, загадочным, мистическим образом возникает из “художника” творение»: «тетрадь подставлена – струись!».
«Ходил я к поэтам и спрашивал у них, что именно они хотели сказать. И чуть ли не все присутствующие могли бы объяснить это лучше, чем они сами. Не мудростью могут они творить то, что они творят, а какою-то прирожденной способностью и в исступлении, подобно гадателям и прорицателям».
Очень ярко феномен «уст небес» выражен у Н. В. Гоголя. К собственному творчеству он относился как к раскрытию тайны, ему заповеданной: «Я ждал ответов, которые будут прямо от Бога». Н. В. Гоголь жил в экстатическом ожидании музы и в непрерывном страхе утраты божественной творческой силы. О роли вдохновения писали многие гении, но у Гоголя есть молитва о даре озарения, который ниспошлет ему Всевышний: «Молю тебя, жизнь души моей, мой Гений! О, не скрывай от меня! Пободрствуй надо мной в эту минуту и не отходи от меня… Я на коленях. Я у ног твоих! О, не разлучайся со мною! Живи на земле со мною хоть два часа каждый день, как прекрасный брат мой! Я совершу. Жизнь кипит во мне. Труды мои будут вдохновенны. Над ними будет веять недоступное земле божество!».
В одном из писем Гоголя я обнаружил душераздирающее признание: «Бог недаром отнял у меня на время силу и способность производить произведения искусства, чтобы я не стал произвольно выдумывать от себя…» Гоголь был абсолютно уверен в том, что всю жизнь находился под особым божественным покровительством: «Бог имеет обо мне особенное свое попечение»; «Чувствую, что не земная воля направляет путь мой»; «Кто-то незримый пишет передо мною могущественным пером», а когда Бог отвернулся от него…
Николай Гумилев, много размышлявший об истоках поэтического творчества, написал замечательное стихотворение, знаменующее собой ангельское присутствие даже в темном русском опыте:
Потомки Каина
Он не солгал нам, дух печально-строгий,Принявший имя утренней звезды,Когда сказал: «Не бойтесь Вышней мзды,Вкусите плод и будете как боги».Для юношей открылись все дороги,Для старцев – все запретные труды,Для девушек – янтарные плодыИ белые, как снег, единороги.Но почему мы клонимся без сил,Нам кажется, что кто-то нас забыл,Нам ясен ужас древнего соблазна,Когда случайно чья-нибудь рукаДве жердочки, две травки, два древкаСоединит на миг крестообразно?Для русского сознания истина недоступна отдельному человеческому сознанию: в апофатике и исихии истина – божественная тайна, безмолвная беседа ангелов или заговорившее божественное молчание, которые гораздо важнее очевидных или логических доказательств. Часто говорят о чуде творчества, божественности искусства, даре Божьем. И действительно, на гениальном человеке лежит печать священности, знак богоприсутствия, причем речь идет не только о художнике, а о любой харизматической личности, будь то Жанна д'Арк, Ньютон, Швейцер, Ганди, Эйнштейн или мать Тереза. Я бы сказал так: всё, что делают люди прекрасного, в конечном счете божественно, чудесно, богоподобно.
Наряду с художественным вдохновением и автоматическим письмом, божественные силы человека иногда принимают совершенно неожиданные формы, такие, скажем, как «подсоединение» некоторых художников к мировой сокровищнице творчества и человеческих знаний, как возникновение таких феноменов, как ксеноглассия[22], кармическая память, яркие переживания различных событий и периодов истории, целительство, выход из настоящего времени, провидение.
По мнению С. Грофа, многие люди обладают уникальной способностью подключаться к источникам информации, находящимся далеко за пределами того, что, как общепризнанно, доступно человеку. Люди, пережившие подобный переход из внутреннего и индивидуального к внешнему и целостному, сравнивали его с графикой голландского художника Морица Эшера или рассуждали о «многомерной ленте Мёбиуса в переживании». Судя по всему, такой феномен «подсоединения» к Космическому Сознанию подтверждает базовый догмат некоторых эзотерических учений, таких как тантра, каббала или герметическая традиция, согласно которым каждый из нас является микрокосмом, чудесным образом содержащим в себе всю Вселенную. В мистических текстах это выражалось такими формулами, как «что вверху, то и внизу» или «что снаружи, то и внутри».
Ярким примером указанного «подсоединения» является феномен ксеноглассии, спонтанного знания языков без их специального изучения. Кстати, впервые этот феномен описан в Библии. В «Деяниях святых Апостолов», 2–4, повествуется о чудесном событии, произошедшем в день Пятидесятницы 33 года н. э., вскоре после смерти и воскресения Иисуса. В этот день Бог излил Святой Дух на 120 христиан, собравшихся в Иерусалиме. Вот дословное описание финала указанного события: «И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать».
Особняком стоит явление «подключения» одних людей к гениальности других. Вживание в другую личность иногда принимает потрясающие формы. Например, бразильский психолог и медиум Л. А. Гаспаретто в состоянии легкого транса способен писать картины в стиле художников разных стран мира с совершенно немыслимой скоростью и даже двумя руками одновременно. Установив «канал связи» с умершим мастером, он может создать до 25 полотен в час, писать в абсолютной темноте, ногой под столом и т. д., соблюдая при этом все тонкости цвета, стиля, композиции и формы покойных мастеров.
Подобно тому, как в мистике говорят о божественном озарении и темной ночи души, так в гениальном творчестве просматривается струя, идущая не от Бога, а от беса, что засвидетельствовано многими творцами, прокладывающими новые, неизведанные пути.
Я полностью отдаю себе отчет в том, что гениальность парадоксальным образом вмещает в себя все мыслимые и немыслимые противоречия, ибо склонна черпать правду из любых источников – от божественных до инфернальных. Потому-то мы видим признанных нами исключительно в лучах солнца, а непризнанных – оплеванными и побитыми камнями, как Сократ, Христос, Спиноза или Бёме.
Именно великие поэты декларировали, что нет произведения искусства без участия дьявола и что от присутствия беса рождается магическая сила стихов. Не потому ли «лучше свобода в преисподней, чем рабство в раю»? Не отсюда ли ощущение поэтов, что они…
…Часть силы той, что без числаТворит добро, всему желая зла.Бес в искусстве освобождает творца от категорических императивов, от сусальности, фальши, лицемерия, «моральки», порой ставя гения болезни выше гения здоровья. Многие гении часто испытывают чувство «нечистой совести», «сатанинской щекотки», бездны под ногами. Но именно беззащитность перед полнотой бытия, амбивалентность подобных чувств подсказывают нам, что нравственность художника не в «моральке», но в полноте изображаемой жизни.
Друг мира, неба и людей,Восторгов трезвых и печалей,Брось эту книгу сатурналий,Бесчинных оргий и скорбей!Когда в риторике своейТы Сатане не подражаешь,Брось! – Ты больным меня признаешьИль не поймешь ни слова в ней.Но если ум твой в безднах бродит,Ища обетованный рай,Скорбит, зовет и не находит, —Тогда… О брат! тогда читайИ братским чувством сожаленьяОткликнись на мои мучения!Доминирующая мысль бодлеровского «Гимна Красоте» заключается в том, что добро и зло в равной мере способны породить прекрасное, что они открывают «врата Бесконечного», возвращают людям утраченный Рай.
Будь ты дитя небес иль порожденье ада,Будь ты чудовище иль чистая мечта,В тебе безвестная, ужасная отрада!Ты отверзаешь нам к безбрежности врата.Ты Бог иль Сатана? Ты Ангел иль Сирена?Не все ль равно: лишь ты, царица Красота,Освобождаешь мир от тягостного плена,Шлешь благовония и звуки и цвета!Кажется, Уильям Блейк сказал, что Мильтон писал в оковах об ангелах и Боге и свободно о дьяволе и аде – причина заключалась в том, что он был истинным поэтом и принадлежал партии Сатаны, сам того не сознавая. Только ли Мильтон? А сам Блейк? А Гёте? —
Что мне природа? Чем она ни будь,Но черт ее соавтор, вот в чем суть.Мы с жилкой творческой, мы род могучий,Безумцы, бунтари.Разве вторая часть «Фауста» не есть сакрализация Сатаны, бесовской мессы, ведьминского шабаша, сексуальной оргии, кровавого места казни еретиков? Впрочем, все поэтические литании Сатане ни в коей мере не носят богоборческого характера – это гимны гения собственной Свободе, Независимости, Надежде: Сатана поэтов – это тот, кто «вместе со Смертью, своей старой и верной любовницей, зачал Надежду – безумную прелесть!».
О мудрейший из Ангелов, дух без порока,Тот же бог, но не чтимый, игралище рока,Сатана, помоги мне в безмерной беде!Вождь изгнанников, жертва неправедных сил,Побежденный, но ставший сильнее, чем был,Сатана, помоги мне в безмерной беде!Все изведавший, бездны подземной властитель,Исцелитель страдальцев, обиженных мститель,Сатана, помоги мне в безмерной беде!Из любви посылающий в жизни хоть разПрокаженным и проклятым радостный час,Сатана, помоги мне в безмерной беде!Вместе с Смертью, любовницей древней и властной,Жизнетворец Надежды, в безумстве прекрасной,Сатана, помоги мне в безмерной беде!Оказывается, что Вельзевул – это новая кличка Диониса. Даймон Фридриха Ницше знает, что демон греческих мистерий не исчез, он продолжает жить в плясках танцовщиц Кадиса и в сигерийи Сильверио, что он повсюду, где присутствует изначальная стихия, где художник слышит и видит первичную музыку бытия и всецело отдается страсти, питавшей творчество Джамбатисты Андреини, Иоста ван ден Холланда, Беньяна, Байрона, Шелли, Коппа, Бертрана, Леконта де Лиля, Лотреамона, Томаса Манна, Шоу, Бергмана, Феллини… Но, пожалуй, лучше других об этом написал великий испанец Гарсиа Лорка в своем эссе «Теория и игра дуэнде»:
Великолепный кантор Эль Лебрихано, творец «Деблы», говорил: «Когда со мною поет бес – мне нет равных», а старая цыганская танцовщица Ла Молена, слушая однажды отрывок из пьесы Баха в исполнении Брайловского, воскликнула: «Оле! Тут есть бес» – между тем она скучала, когда играли Глюка, Брамса и Дариуса Мило. А Мануэль Торрес, человек, наделенный от природы редкостной культурой, услышав «Ноктюрн Хенералифе» в исполнении самого де Фальи, высказал блестящую мысль: «В черных звуках всегда есть бес». Вот величайшая изо всех истин… «Черные звуки», – сказал народный певец Испании, и его слова напоминают фразу Гёте, который, говоря о Паганини, дал определение беса: «Таинственная сила, которую все чувствуют, но ни один философ не может объяснить». Эта «таинственная сила, которую все чувствуют, но ни один философ не может объяснить», в сущности, есть дух земли, тот самый бес, что вцепился в сердце Ницше, когда тот искал его следы на мосту Риальто или в музыке Бизе, но так и не нашел, ибо не знал, что бес греческих мистерий достался в наследство танцовщицам Кадиса или певицам Андалусии…[23]
Хотя многие художники говорят о «присутствии беса», я убежден в том, что великое творчество не может быть демоническим по природе, поскольку оно всегда есть выход из тьмы. И. В. Гёте по этому поводу говорил Эккерману: Мефистофель «слишком негативен, демоническое же проявляется только в безусловно позитивной деятельной силе». Порой творческий экстаз кажется художнику одержимостью, наваждением, но на самом деле, по словам Н. Бердяева, демоническое зло человеческой природы сгорает в творческом экстазе, претворяется в иное бытие: «Творческий подъем отрывает от тяжести этого «мира»» и претворяет страсть в иное бытие».
Поэзия как непосредственная мудрость
Поэт постигает природу лучше, чем разум ученого.
НовалисЯ пишу вещи не такими, какими вижу, но какими их знаю.
П. ПикассоПоэзию иногда называют биением сердца, сокровенным раскрытием сознания и подсознания, священной книгой души, еще – дитем смерти и отчаяния. Первое, с чем должен ознакомиться начинающий поэт, это с самим собой. Он должен проникнуть в свой внутренний мир, изучить его во всех деталях и, овладев этим знанием, пытаться всячески расширять его пределы. Это совсем не такая простая задача, как может показаться с первого взгляда. Необходимо стать ясновидящим. Поэт становится ясновидцем в результате долгого и строго обдуманного расстройства всех чувств – того, что мистики именуют «молчанием разума».
Поэту необходимо испытать на самом себе все виды любви, страдания, сумасшествия, вобрать в себя все яды и оставить себе их квинтэссенцию. Это непередаваемая мука, перенести которую можно лишь при высочайшем напряжении всей веры и с нечеловеческими усилиями, мука, делающая поэта страдальцем из страдальцев, отверженцем из отверженцев, но вместе с тем и мудрецом из мудрецов. Ведь только так познают неведомое, запредельное, непроявленное, незримое, только так воочию видят иные миры. Лучший тому пример – Шарль Бодлер! Пусть в этом безумном взлете поэт даже погибнет под бременем неслыханного и неизреченного: на смену ему придут другие упорные труженики; они начнут уже с того места, где он бессильно поник![24].
Фома Аквинский считал, что источник красоты произведения искусства заключен в творце, но ведь и сам художник является произведением Творца. Поэтому замысел и план произведения сообщаются художнику высшей творческой силой, исходящей из божественной воли. Вещи являются прекрасными постольку, поскольку они уподоблены абсолютной и совершенной божественной красоте. Художник в известной мере «обречен» на творение: он должен создавать то, что ему предназначено, и совершенно не важно, как он поступает, важно, как он творит.
Согласно эстетике неотомизма, посредством искусства человек способен приобщиться к высшему, божественному: знак и символ представляют собой «эманацию божественного». Искусство как способ подражания Богу является системой спиритуалистических символов, своего рода «сиянием благодати» – в нем истина сосуществует с благом. Это не означает синтез эстетического с этическим – это свидетельствует о том, что искусство призвано быть «полнотой бытия», оно должно включать в свой состав правду «цветов зла», не противопоставлять, а синтезировать, не разделять, а стремиться к единству всего существующего. Именно поэтому поэзию иногда называют стихийным прорывом глубины или глубинным осязанием истины.
Поэзия – одна из высших форм одухотворения, озаряющего магическим светом внутреннее ви,дение поэта. Отсюда ее теургия и ее божественность.
Для символистов поэзия действительно была религиозным действом – магическим актом творения и покорения действительности. Поэтическому языку придавались теургические свойства: магичность, космическая энергия, запредельная действенная сила. Вячеслав Иванов писал, что еще эллины перенесли представление о «языке богов» на язык поэзии.
Символизм в новой поэзии кажется первым и смутным воспоминанием о священном языке жрецов и волхвов, присвоивших некогда словам всенародного языка особенное, таинственное значение… Они знали другие имена богов и демонов, людей и вещей, чем те, какими называл их народ, и в знании истинных имен полагали основу своей власти над природой.
Слово-символ обещало стать священным откровением… Художникам предлежала задача цельно воплотить в своей жизни и в своем творчестве… миросозерцание мистического реализма или – по слову Новалиса – миросозерцание «магического идеализма».
В «Магии слов» А. Белый разделял «слово-термин», бытующее в языке общения или науки, и «слово-символ» – поэтическое, образное слово, «музыку невыразимого», прорыв к сущности и божественной глубине. Поэтическое слово он называет «живым и действенным», термин – «мертвым словом». Первое – «слово-плоть», «воплощенное слово», второе – тотальная, массовая речь. Живую речь поэзии, дающую поэту-жрецу магическую власть над миром, А. Белый уподоблял «священному наречию», языку, на котором «были даны человечеству высочайшие откровения».
В. Я. Брюсов считал поэзию высшей формой познания, мигом прозрения, уяснения высшей тайны: «Искусство – то, что в других областях мы называем откровением. Создания искусства – это приотворенные двери в Вечность».
Искусство только там, где дерзновенье за грань, где порхание за пределы познаваемого в жажде зачерпнуть хоть каплю
Стихии чужой, запредельной.Искусство, может быть, величайшая сила, которой владеет человечество.
Художник – сновидец, волхв, маг, чьи видения рано или поздно оказываются будущим человечества…
Единый памятуй завет:Сновидцем быть рожден поэт;И всё искусство стройных слов —Истолкованье вещих снов.Мир существует для поэта не как предмет отражения, но как покров, наброшенный на тайну, как то, сквозь что он должен проникнуть к существу видимых вещей. Не отражение, подражание или воспроизведение, но снятие покрова, завесы – вот что такое поэтическое искусство.
Осип Мандельштам считал поэзию злаком бытия, глубинной речью природы: «То, что я сейчас говорю, говорю не я, а вырыто из земли, подобно зернам окаменелой пшеницы».
Поэзия идет «путем зерна» – она движение самой природы, здесь «земля гудит метафорой». Язык поэта – не только речь сама по себе, но голос бытия. Поэзия всплывает из глубин души поэта, где она соприкасается с вечностью, и может быть названа (как Леонардо именовал живопись) углублением духа (а не познанием внешних вещей). Поэту дано услышать «голос бытия» через свой «внутренний голос». Чем больше поэт, тем глубже эта коммуникация.
Поэзия – «настоящая с таинственным миром связь», поэзией пронизан акт и дух творения, способ передачи божественных откровений, и поэты-вестники всегда испытывают болезненное чувство «некачественного» приема, нехватки слов, речевых дефектов. Кстати, в Библии «косноязычие» обозначает лингвистический дефицит Моисея. Великие поэты тоже боятся «косноязычия» – ужасающей неспособности выразить полноту божественного откровения: