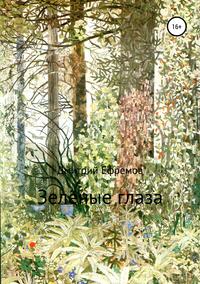полная версия
полная версияВремя легенд
Он почти не выходил из дома и старался избегать всяких встреч, проводя всё дневное время в спальне. По ночам он видел одну и ту же картину, и единственным его желанием было хоть как-то повлиять на происходящее, изменить его. Потом начались проблемы со здоровьем. Не испытывая определённых болей, он почувствовал, как тело его начинает слабеть. Он с удивлением стал замечать, как мёрзнет на ветру, как едва передвигает ноги и не может справляться с обычной работой по хозяйству. Иногда, проходя мимо зеркала, он на секунду останавливался и с ужасом замечал, как постарел, буквально одряхлел словно старик.
А потом был визит. В ту зиму, как никогда, в тайгу понаехало много китайцев. Они готовили лес и, как видно, не справлялись с объёмами. Ездили по сёлам на бортовой машине, нещадно сжигая топливо, и агитировали на работу местных мужиков. Кто-то соглашался, но большинство отказывалось, зная, насколько тяжело китайское ярмо для русского человека.
Однажды машина остановилась и у Матвеева дома. Он сидел на кухне напротив окна и без аппетита ковырялся ложкой в тарелке с супом. Увидев китайца, он немного растерялся, но, вспомнив, что узкоглазые уже месяц укатывают улицы села, пошёл к калитке. Слегка морозило, в воздухе летали лёгкие хлопья снега, и, ощутив на своём лице их приятные прикосновения, Матвей улыбнулся. Закивал непокрытой головой и китаец, растянув рот в типично китайском приветствии. Он сносно поздоровался, без труда выговаривая все согласные, а потом ткнул пальцем на Матвея и назвал его имя. Матвей немного растерялся, но кивнул. Он почувствовал, как в горле возник ком, машинально он потянулся за куревом и вдруг застыл. Китаец протягивал ему руку, держа на ладони его часы. Те самые, что оставались тогда на Кване. Матвей отшатнулся, но потом взял себя в руки и сделал удивлённое лицо.
– Мне не надо, не нужно, – запротестовал Матвей, имея в виду, что покупать их не желает. – У меня есть свои.
– Эта тываи часы, – гортанно произнёс китаец. Он по-прежнему улыбался, но на лице уже проступали черты обиженного человека. – Кван-Ли прасиля верынуть, – также уверенно сказал китаец, вероятно имевший хорошую разговорную практику в тайге.
– Но он же…– Матвей вдруг вспыхнул, осознав, что проговорился. Он кашлянул, заминая начатую фразу, а потом стал раскуривать сигарету, решая, как ему выкрутиться.
…– Мы же поменялись с Кваном. Вот его часы. Видишь. Теперь я их ношу, – сказал Матвей, умышленно переходя на упрощённый разговор. Но китаец как будто и не слышал его, держа по-прежнему свою руку вытянутой.
– А где он, что с ним? – неуверенно спросил Матвей, стараясь изо всех сил выглядеть непонятливым.
– О! – Китаёза кивнул головой в знак того, что понимает вопрос, потом сделал важное лицо и краем глаза скользнул по небу. – Квана-Ли повысили. Она теперя капитана. У Квана-Ли всё окей.
Китаец аккуратно положил часы на столбик, ещё раз осклабился и пошёл обратно к машине.
Матвей взял часы, как бы пряча их в ладонях, и с силой сжал. Потом приложил их к уху и почему-то удивился тому, что они идут, словно это был не механизм, а сердце Квана.
Конечно, они должны были работать. Обычные механические часы, проверенные жизнью. Матвей выдернул потёртый кожаный ремешок и прочитал хорошо знакомую ему гравировку на корпусе. В глазах неожиданно защемило. Он закрыл глаза, пытаясь остановить слёзы, но вместо этого вызвал их целый поток. Он попытался их остановить, с силой закрывая глаза руками, но их становилось всё больше и больше, словно где-то в глубине его души они копились годами и только сейчас нашли причину для выхода. И вдруг он испытал удивительное облегчение, словно кто-то разжал над ним свои цепкие и тяжёлые объятия.
После того случая Матвей не раз задавал себе вопрос: почему он тогда выстрелил. Было ли это его внутренним желанием или нелепой случайностью, спровоцированной страхом и волнением. Сейчас же, когда напоминание о Кване явилось ему таким необычным образом, он вдруг подумал, что это уже неважно. Матвей понял, что теперь это часть его жизни и ничего поделать с этим он не сможет.
А однажды, было это в воскресение, его вдруг осенило. Случайно на шее жены он увидел крестик. Вообще-то видел он его каждый день, но как будто не замечал. Здесь же простая мысль заставила его остановиться. Матвей тоже был крещёным, что среди местных было явлением нечастым. Найдя среди вещей свой старый нательный крестик, уже давно потускневший, он надел его и, не сказав никому ни слова, пошёл в церковь, расположенную на второй улице. Вернее, это был дом, разукрашенный под церковь. Там он купил свечку у отца Анатолия и поставил её в память о своём китайском друге.
Земля предков
Жизнь всегда меняет свои очертания, как человек или дерево, оставляя неизменным лишь свою главную сущность – быть, навязывая всем, кто ей пользуется, свою неумолимую волю.
Летят осенними листьями дни, сменяют друг друга времена года, внося в жизнь одушевлённого пространства упорядоченный хаос, и, не успевая разобраться в его логике и смысле, проживает свой отмеренный срок человек. Годы превращаются в эпохи, перечёркивая отжившие ценности и воскрешая забытые идеалы, а жизнь всё равно остаётся прежней. Суровой, обжигающей своей искренней любовью того, кто искал в ней смысл, и ледяной к тем, кто ей хоть раз изменяет.
Идут по земле ноги человека, а за ним и годы, волокутся за спиной как хлыст спиленного дерева. А какой путь впереди и сколько их там, за горизонтом, счастливых или горестных лет, неведомо никому.
Не знал об этом и Матвей. Человек с древним земным именем. Получивший даром, да нет, не даром, совсем не даром, право жить на земле. А жить, значит видеть и чувствовать. Но более всего любить и ненавидеть всё ту же землю, которая дала эту, как ему казалось, и горестную и счастливую жизнь. Потому что отчаяние всегда сменяется надеждой, а радость печалью. Таким он был сотворён из плоти земли, и частицей её считал себя. Топтал её своими крепкими ногами, и тогда оставались позади застывшие, как воск, её многоликие образы: людей, любивших его и изменивших ему когда-то, переполненных отчаянием и надеждой городов, разворованных и брошенных деревень и посёлков. Высушенных человеческой жаждой и алчностью болот и озёр – этого последнего пристанища земных обитателей. Такова земная жизнь.
Где-то на другой стороне земли, может быть, все дороги вели в Рим, и если это была правда, то его дороги все вели в эту землю, как бы далеко ни забрасывала его судьба.
Весной – нежная и звенящая от пробудившихся ручьёв и птичьих песен. Летом – таинственная и манящая, словно опытная в любовных утехах женщина. Осенью эта вечная дева не знала предела своей щедрости и была чистым золотом, как лик на древней иконе.
Но была и зима, и тогда круг замыкался, потому что нет на земле другого закона и нет ничего ценнее в её пределах, чем радость и печаль.
Была осень, прекрасная и синеглазая, огненно-рыжая красавица. Белоствольные берёзы шумели своей позолоченной листвой, и в синем пространстве слышался их немного грустный шелест. От каждого порыва ветерка их тонкие, упругие ветки вздрагивали, и могло показаться, что деревья таким образом разговаривают. А прямо под кронами, прислонив затылок к белому стволу, стоял он и смотрел в небо. Ноги гудели от долгой ходьбы; переход был неблизким, и в бесконечном пространстве он отчётливо видел почти застывшие точки парящих птиц и был очарован той фантастической высью, в которой эти точки находились.
Если бы он был птицей…
Матвей тяжело вздохнул и нехотя побрёл к дому.
Сбросив с плеч рюкзак и аккуратно приставив дробовик к стене, Матвей сел на крыльцо и закурил. «Вот так». Одного беглого взгляда хватило, чтобы понять всё. Что жизнь всего лишь чья-то игра, а он жалкий актёр. Такой же как птицы в небе, такой же как и медведь, что бродил вокруг пасеки, оставив не одну метку вдоль дороги и успевший до него похозяйничать на пасеке.
Судя по следам на подсохшей земле, медведь был матёрым и своё разрушительное дело он начал с самого главного. Чтобы утолить свой звериный голод, косолапый решил залезть в омшаник, откуда пахло вкуснее всего. Приподнявшись на задние лапы, он без труда оторвал несколько карнизных досок и, разрушив часть шиферной кровли, влез на чердак.
Вникая в действия непрошеного гостя, Матвей понял, что зверь был очень голоден. Остановить такого зверя, оголодавшего и потерявшего страх, теперь уже могла только пуля.
Бывало, что залазили медведи на пасеки, отрывая от окон железные решётки и двери вместе с косяками; но чтобы вот так…
Забравшись на крышу и не найдя в ней лаза, зверь стал рвать потолочное перекрытие. Доски толщиной в пять сантиметров, тщательно просушенные, плотно подогнанные и скреплённые шипами, оказались зверю не по зубам. Медведь не смог поддеть ни одной доски. Оставив эту затею, он стал проверять на прочность углы дома и всё же нашёл слабое место.
Собранный в шип тёплым углом брус треснул. Подгоняемый жаждой, медведь просунул в щель лапу и доделал своё гнусное дело, разрушив почти половину стены.
Вся запасная улитара, нажитая трудом, рамки, ещё совсем новые, старая медогонка, воскотопка – всё, без чего на пасеке было не обойтись, медведь смешал в одно большое месиво. Не найдя мёда, он оторвал от окна железные прутья и сделал себе новый выход.
Потом зверь принялся за летний складик. Дверь его не устроила, и он опять залез через крышу. На этот раз дыра была немного аккуратнее.
Заходить в склад не хотелось. От сарая за версту несло пролитой бражкой: две фляги по сорок литров были коту под хвост. Вероятно, приложившись к их содержимому, медведь раздухарился не на шутку и, не изменяя своей привычке, вышел через «запасной» выход, проделав дыру в задней стене. Это было уже форменное издевательство со стороны гостя. За какой-нибудь час косолапый уничтожил плоды его двухлетнего труда. Всё пошло насмарку.
Матвей в досаде пнул изуродованную алюминиевую кастрюлю и сел на крыльцо. Он искренне пожалел о том, что приехал. Но от судьбы не уйдёшь. Днём раньше, днём позже, с этим пришлось бы встретиться.
Дверь в дом была открыта, но медвежатиной оттуда не несло. От этого малость полегчало. У него даже мелькнула мысль поджечь всё это. Наивные мечты о сладком одиночестве среди природы растаяли, как первый снег. Под ногами валялись лоскуты его обгорелого одеяла, и это никак не вплеталось в общую картину разрушений.
Надо было успокоиться и заняться делом, но новая мысль, связанная с куском его старого армейского одеяла, не давала покоя. «Тут что-то не так», – он бросил окурок и прошёл в дом.
– Так. Серия вторая. – От догадки его неожиданно пробил смех.
– Беззащитные люди и голодный зверь.
Матвей подошёл к полуоткрытому окну и усмехнулся, представив себя на месте тех, кто был на пасеке в тот момент и, скорее всего ночью, отбивался от лохматого разбойника. «Это стоило посмотреть». Кроме туристов, оказаться в такой глуши без оружия было некому. Наркоманы в лес без него не лезли, да и вся конопля была давно собрана.
Скорее всего, на пасеке побывали школьники из Столбового, пришедшие со стороны Казанчихи, иначе они должны были встретиться ему в дороге. «Бедные дети. Им пришлось отбиваться куском горящего одеяла. Слону дробь в задницу страшнее, чем этот факелок дикому зверю». Хотя смысл всё же был. Любой зверь не переносил запаха палёной шерсти.
– Этому умнику можно пожать руку, – присвистнул Матвей.
Опасаясь нападения в пути, туристы так и ушли с его одеялом.
Осмотрев «фанзу» и убедившись, что она пострадала меньше всего (сломанная рама на веранде была не в счёт), он взял ведро и пошёл за водой. Впереди было много работы. Но среди всего, что ему предстояло переделать и передумать, одна мысль в башке сидела прочно, злая и жестокая.
Теперь он будет убивать всех медведей, которые встретятся на его пути, пусть даже у него в руках окажется не ружьё, а детский самострел или рогатка. И чем больше бродил он среди общего бедлама, наводя порядок, тем сильнее укреплялся в этой мысли.
Мягкое солнце уже клонилось к горизонту, окрашивая золотом противоположные склоны сопок. Шумела от лёгких порывов ветерка уже начавшая жухнуть листва, и это была самая благодатная пора для всего живого. Осенняя пора.
В небе по-прежнему кружила пара орлов. Он отметил, что их стало очень мало. Даже то, что он увидел их, удивило. В далёком детстве голубое небо и орлы были неотделимы. Он вспомнил, как однажды на его глазах убили орла.
Это были пограничники. Молодой лейтенантик, новый командир заставы, и два бойца. Матвей хорошо запомнил его самодовольное лицо после удачного выстрела. Птица упала в реку недалеко от берега и ещё какое-то время боролась за жизнь. У неё было подбито крыло. Потом перья намокли, и орёл утонул. Тогда Матвей не мог продохнуть. Комок в горле едва не задушил его. Ему хотелось броситься в воду, но сдерживала колючая проволока, за которой текла река. После этого он уже не строил иллюзий насчёт пограничников.
Теперь он смотрел в голубое небо, немного прищурив глаза, и никак не мог понять: куда что девалось. Слава богу, что где-то по-прежнему орала кукушка. Но её счет Матвея не касался. Он жил днём сегодняшним и лишь смутно видел очертания грядущего.
Прищурив глаза, он растянулся на крылечке, наслаждаясь отражённым светом, исходившим от Казанчихи. Название ряжа сохраняло в людской памяти имя некого Казанцева, разумеется, казака, который, судя по всему, был полноправным хозяином этих мест. Фамилия эта не сохранилась, ни в Союзном, ни в Стольбовом, ни в где либо ещё, он не знал Казанцевых, разве что из книги памяти, попавшей ему случайно в руки. Матвею было ясно, что этих людей, скорее всего, извели под корень во время террора, но быть может, кто-то убрался за Амур. Но название не исчезло, и это было удивительным. Погружаясь в раздумья по этому поводу Матвей не заметил как пришёл вечер. Не хотелось думать о холодах, о пчёлах, которых надо было везти с кочёвки, даже о медведе, бродившем, наверняка, где-то рядом. Он всё же представил, как лохматый хозяин ходит среди сопок по тенистым распадкам в поисках пищи, роет корни и ломает калину. «Если лениться не будет, на зиму жира нагуляет. Но до того момента его надо обязательно убить», – спокойно размышлял Матвей.
Из открытой двери тянуло ароматом нехитрой похлёбки.
«Война войной, а обед по распорядку. Теперь уже ужин».
С самого утра у него во рту не было и маковой росинки, в животе вопрошающе стучали ложками по столу. Он поймал себя на мысли, что за весь день ни разу не вспомнил о том, что голоден. Получалось, что в жизни человека еда была не главной. Силу и дух ему давали трудности и потрясения, а их в жизни Матвея было предостаточно.
– Будет вам кофе и какао с чаем. Уж и подождать не можете, – разговаривал Матвей сам с собой слегка позёвывая. Одиночество совсем не удручало его, но было грустно осознавать, что на душе не было той радости, что принято было делить за едой. Как не было и тех, кого бы он предпочёл видеть рядом, за своим накрытым, словно к празднику, столом. Недопитая после ночного кошмара самогонка вопрошающе смотрела на него, не в силах понять, как её можно пить в одиночку.
– А что делать? Пьянству – бой.
Он налил в гранёный стакан и тут же опрокинул, даже не занюхав. Потом вышел. Всё так же светилась Казанчиха, но свет этот уже был не тёпло оранжевый, а холодно фиолетовый, по сути это был уже не свет, а прелюдия темноты. В спускающейся прохладе ещё явственней шумела в низине речка. В траве ещё ползали кузнечики, в небе порхали беззаботные птички, а на столе остывал в миске безразличный ему суп. И всё же душа его к вечеру немного отошла от гнева и тоже пела в такт пернатым друзьям. Слово «друзья» его позабавило. Было в этом что-то осмысленное.
«Кто же, как не они, друзья?»
Его уже не волновали пчелиные проблемы. Исчезли и те тяжёлые думы, что тянулись за ним всю дорогу от брода, где была брошена машина. Даже непрошеные гости вместе с медведем ушли на второй план. Он вдруг представил время столетней давности и этот лес, и место, где теперь стояла его пасека, и подумал, что, наверное, за это время мало что изменилось вокруг.
Сопки всё так же красивы и загадочны и по-прежнему скрывают под своим изумрудным покрывалом лесных обитателей. Кое-где среди зелени уже проступало осеннее золото.
Речка так же прозрачна и холодна, и в ней есть рыба. Пусть не так много, как прежде, но всё же есть. Так же, как и сто лет назад, это святое место, выбранное дедами, занимает пасека, и кроме как трудом с потом да кровавыми мозолями на этой земле не прожить. И были медведи и всегда будут. Слава богу, что они ещё есть. А как же без них в лесу! Тогда его – лес – вовсе бояться перестанут. Хватало всякого сброда в лесу.
«Этим вон, – Матвей вспомнил о гостях, – теперь долго в тайгу не захочется».
Лес в его понимании был единым живым существом и выплёвывал из своих недр всё чужое и вредное.
Блаженное тепло мягко заполняло его тело. Он положил на неструганные доски свои ладони и посмотрел на линии жизни. В них он ничего не понимал. Его руки были для него только средством для выживания, и лишь иногда он позволял им вот так расслабиться. Они не знали усталости и холода. Матвей не помнил на ладонях мозолей, словно они были сделаны из особо прочного материала. С детства не знал рукавиц, в редких случаях пользуясь верхонками, и то, чтобы не запачкаться. Иногда он чувствовал, что где-то внутри горит и согревает всё его тело маленькое солнце. С детских лет чувство этого необычного тепла редко покидало его, но с годами оно становилось всё слабее и слабее.
Когда солнце окончательно исчезло за грядой сопок, он вдруг почувствовал себя очень одиноким среди этого замкнутого мира. Здесь день сменялся ночью, и всё тянулось своим чередом независимо от него. Но человек не был вечным. Его век был секундой в этом мире. Он был всего лишь занозой в здоровом теле природы, однако и он на что-то надеялся, к чему-то стремился и верил, что искра его короткой жизни оставит после себя пусть невидимый, но свет, по которому, может быть, удастся пройти его потомкам, его детям.
Вот и сейчас, когда стало совсем сумрачно и только вершины дальних сопок ещё теплились ушедшим светом дня, он досадовал, что и этому дню пришёл конец. Словно он был последним на земле. Нигде больше, а только лишь в тайге, среди зелёного безмолвия, приходило к нему это необычное чувство утраты и неповторимости минувшего дня.
В печи потрескивали сухие дрова, остатки его былой роскоши, и запах горящей смолы вызывал в нём странные чувства. Ничто так не горело, как медовые рамки, пропитанные воском и сделанные из сухого кедра. «Этих дров теперь на всю зиму».
Порывшись в шкафу, Матвей достал пакет сухой травы: липового цвета, кипрея, всего понемногу. Чтобы не возиться, он растёр жмень и бросил прямо в чайник. Через минуту дом наполнился пьянящим ароматом леса и душистых трав. Свечку зажигать он не хотел. Её он берёг для особого случая, а каким должен быть этот особый случай, он думать не хотел. Последний раз он зажигал её ещё весной.
От керосинки вечно воняло, поэтому чай пришлось пить почти в полной темноте. На стенах мерцали огоньки. Дрова в печке сгорели быстро, и в топке оставались лишь красные уголья – самое ценное. Теперь можно было приоткрыть дверцу. В комнате стало веселее.
Не раздеваясь, только скинув сапоги, он растянулся на своей деревянной кровати. В углу, как всегда, возились мыши.
– Надо бы привезти кота, – зевая и проваливаясь в никуда, бубнил Матвей. Мыши катали по полу старый сухарь. «Какая-никакая работа». Он швырнул в угол сапог, и сухарик затих. Матвей улыбнулся. «Всё же не один».
День закончился и, как ему подумалось, обыденно.
«Наверное, и жизнь так же заканчивается, незаметно и скушно. Жизнь как один день, как один вздох».
Не снимая с головы шляпы, он лежал поверху одеяла, боясь спугнуть самое сладкое ощущение прихода сна. Это было непостижимо и неуловимо. Это было волшебство.
В тёмном углу по-прежнему шептались мыши, а за стенами дома, где-то в мрачном, таинственном, густом лесу, как и сто лет назад, неслышно бродил зверь.
Время легенд
Он проснулся от того, что по лицу кто-то ползал, быть может, муравей, потерявший свой дом, или другая ничтожная букашка; Мишке не хотелось трогать её, сметать рукой, потому что одного прикосновения было достаточно, чтобы нанести ей вред. Некоторое время он боролся с этим неприятным ощущением, когда кто-то ползает по лицу, но потом постарался расслабиться. Его снова втянуло в сон, и в нём он вдруг почувствовал, что это существо не просто живое, но имеет своё сознание. Все его передвижения, на первый взгляд хаотичные, на самом деле были результатом работы живой мыслей. Возможно, пройди ещё немного времени, и Михаил научился бы понимать и слышать голос этого существа, насколько глубоко проникало это чувство от прикосновения невесомых лапок в глубину его мозга. Такое с ним происходило впервые, и очнувшись от сна, в каком-то неосознанном испуге, он вдруг понял, что реальность это не только то, что он видит или слышит, она гораздо глубже и обширнее, куда обширнее, чем даже его воображение. Она была ещё и загадочной и даже пугающей. Маленький муравей за короткое время преподнёс ему урок восприятия той реальности, о которой он даже не представлял, хотя жил всё это время рядом с ней. Он так и не понял до конца, что же произошло, но всё, что окружало его: осенний лес, вершины дальних сопок, пожелтевшая берёзовая листва над головой, всё это воспринималось теперь настолько явственно и живо, как будто в нём произошла перенастройка всех органов чувств. Он с трудом избавился от наваждения, поднялся на локтях и сел, рассматривая землю. Голову слегка кружило. «Переработался» – подумал Михаил. В этой мысли была своя правда: в отдалении на взгорочке стоял его «драндулет» доверху набитый берёзой. «Снова дрова, снова разгружать, пилить, укладывать в поленницу; от этой последовательности у Мишани всегда портилось настроение. Руки немного потрясывало от тяжёлой работы, но впереди её было в стократ больше, она была бесконечной. Неожиданно и неизвестно откуда снова выполз муравей, теперь уже на его ладони. Ощущение было не таким явственным, но у него уже был опыт, и Михаил снова почувствовал что-то необычное. Он аккуратно сдунул муравья с ладони и поднялся на ноги. Он осмотрелся и неожиданно для себя узнал место, вспомнив всё, что было связано с ним. Где-то в низине, теряясь в осиновых рёлках, бежала речка Осиновая, вершину же водораздела украшали два остряка – небольшие скалки и проход между ними, словно по заказу местных жителей пропиленный природой. Открытие произвело на него сильное впечатление, ибо он точно знал, что остановился здесь совершенно случайно, и точно также мог спокойно прокатить дальше вниз по дороге, и так до самого Костылёвского зимовья. Но что-то сработало, и он остановился, и его тут же сморило в сон. А потом внутри его произошёл щелчок благодаря простой букашке. Но была ли букашка простой? Быть может, кто-то незримый, хозяин этого пространства, водил по его лицу соломинкой, чтобы он, наконец, проснулся, и увидел всё, как есть оно на самом деле. И он увидел то самое место, каких были десятки и сотни вокруг, связанные с разными людьми, временами и событиями, но неизменно пересекающимися в нём самом, поскольку он был частью всего, что окружало и происходило: вчера, сегодня, всегда. И где бы он ни был, эти места были словно маяки, позволявшие ему ориентироваться и не теряться в этом бесконечном пространстве и времени.
Это место было особенным, поскольку принадлежало Юрке. Именно здесь Костыль «встретился» с медведицей. И не просто встретился. У них было свидание, о котором знал лишь тот, кто свёл их вместе, ибо в любом другом случае дороги этих двух обитателей леса должны были разойтись. Про этот случай сам Юрка особенно не распространялся, быть может, чувствуя, что за простой случайной встречей со зверем может скрываться нечто непостижимое, глубоко тайное и личное.
Костыль был уже немолодым, что называется матёрым, лесным волком, работал в лесхозе трактористом и почти круглый год не вылазил из тайги. Жил, словно сыч, в небольшой избушке, служившей частенько пристанищем для лесников, и промышлял тем, что дарила природа. Таких пристанищ когда-то по лесу было разбросано предостаточно, но со временем они разбирались на дрова, сгнивали или поедались лесными пожарами. Это же зимовьё, расположенное на границе кедровых посадок и самарских лугов, облюбованное когда-то Юркой, пожары не трогали, а близость речки делали местом обитаемым и популярным для проезжавшей публики. В свободное от охоты время Юрка опахивал лесные посадки, а когда старая колымага ломалась, уходил пешком в Столбовое пить самогонку. Работы хватало и зимой, и тогда долговязую фигуру Костыля видели на дровяных делянах. Нигде он не расставался со своим стареньким, видавшим виды дробовиком. Что ни говори, а на зверя Юрке везло. Так думали все, кто знал его, при этом забывая о главном, о том, что волка кормят ноги, а их Юрка не жалел. И что скрывалось за везением, по-настоящему знали немногие. Юрка был индейцем, каких описывал в своих романах Фенимор Купер. И наверное, не читая этих книг в детстве, всю эту лесную грамоту он освоил, будучи на побегушках у какого-нибудь ленивого пьяницы – пчеловода, вроде Тыквы, или на сенокосах, когда к скудному полевому пайку всем хотелось не только чего-нибудь покрепче, но и посытнее.