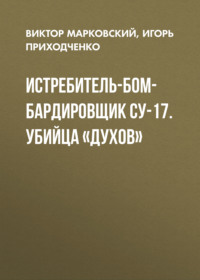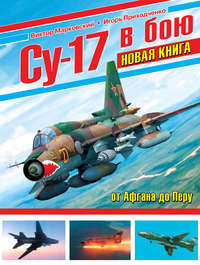Полная версия
Камуфляж и бортовые эмблемы авиатехники советских ВВС в афганской кампании
Прозвище прочно привязалось к Су-25, ставшему настоящим символом афганской войны. Популярный и среди пехоты штурмовик заслужил у бойцов репутацию «расчески» – не только благодаря роду деятельности по «приведению в порядок» местности, но и за характерный вид с ощетинившимся десятком подвесок крылом. За то же прямое крыло, служившее характерным отличием от других машин, Су-25 именовали еще и «крестом» (насколько можно судить, это прозвище не ассоциировалось с перспективами встречи со штурмовиком для противника). Наиболее популярным все же оставалось прозвище «грач», прижившееся настолько, что многие полагали его официальным названием Су-25.
Естественным образом, первые же рисунки отражали распространенное имя штурмовика. Идея, что называется, висела в воздухе – прототипом эмблемы стал симпатичный грачонок, герой популярного мультфильма. Как известно, взрослые остаются большими детьми – в американской армии богатая символика на боевой технике по большей части тоже опирается на мир полюбившейся мультипликации Диснея, одно время даже служившего официальным поставщиком таких эмблем для Пентагона.

Грач на борту Су-25 изображался в нескольких различных исполнениях

Грач на киле штурмовика бомбит грамотно – с использованием подвижной сетки прицела
Впервые «грачата» появились к лету 1987 года в эскадрилье подполковника Григория Стрепетова, известной как «калиновская» или «Жорина эскадра» (по имени места происхождения из украинского городка Калинов). Рисунок оказался очень удачным и, что немаловажно, несложным в исполнении (каждодневная изнурительная боевая работа «от темнадцати до темнадцати» и далекие от комфортных условия не оставляли возможностей для многоцветных художеств). Выразительный «грачонок» был лаконичен и прост – для его нанесения в красном и черном цветах было достаточно пары трафаретов. Вскоре привлекательная птица, за свой буйно-жизнерадостный вид получившая прозвище «пьяный грачонок», украсила борта многих Су-25. Эмблема обычно наносилась слева на носу самолета, на бронированных люках отсека РЭО или у воздухозаборника на мотогондолах. В этих местах по краске не шаркала стремянка и не топтались при обслуживании, что могло в два счета стереть рисунок. Иногда эмблему дублировали справа или накрашивали только по правому борту, из тех же соображений – как наименее «протираемому». Выбор места под рисунок, практически всегда один и тот же, обуславливался еще и тем, что прочие подходящие места на носу занимал весьма крупный бортовой номер и ряды звездочек за вылеты, по устоявшейся практике наносившихся сразу под козырьком фонаря.
Сами звездочки на Су-25 обычно накрашивали из расчета 50 выполненных боевых вылетов, в отличие от истребителей, разведчиков и самолетов ИБА, где «нормативом» были 10, изредка 25 вылетов. При большей интенсивности и бессменной работе штурмовиков такой расчет уже через считанные месяцы не оставил бы свободного места на их бортах. Оборотной стороной такой практики было то, что штурмовики даже при своей загруженности боевой работой никак не выделялись числом отметок, имея звезд поменьше, чем у соседей.
Поначалу звездочки были привычно-красными, но такой цвет терялся на фоне камуфляжа, и был сменен на хорошо заметный белый.
Первые серии выпускавшихся Тбилисским заводом Су-25 несли камуфляж «европейского» типа. Фюзеляж окрашивался в два оттенка зеленого цвета – землистый и светлый хаки, а на оперении и плоскостях к ним добавлялись светло-коричневый (охра) и темно-бурый цвета. Характерной особенностью цветовой схемы была тусклая серо-голубая окраска нижних поверхностей («под хмурое небо Европы»), причем граница раздела «земных» и «небесных» цветов была размытой и проходила достаточно низко, практически по самому брюху самолета.
С началом массовой эксплуатации Су-25 камуфляж претерпел ряд изменений. Через Афганистан проходило все больше штурмовиков, и по опыту боевого применения самолет получил новую схему окраски, более соответствовавшую местным пейзажам. В этом камуфляже преобладали свойственные горнопустынной местности коричневые краски, а нижние поверхности окрашивались в ярко-голубой цвет, прозванный «кабульской лазурью». Светлые голубые поверхности доходили по бортам до самой кабины и верха мотогондол, что снижало заметность штурмовика при боевых маневрах на малой высоте, на виражах и боевых разворотах с крутыми кренами, открывавшими противнику боковые проекции самолета. Прежняя окраска в этих случаях выделяла их контрастные «земные» цвета, в новом варианте голубые тона «растворялись» на небесном фоне. Первые самолеты с новой окраской, принадлежавшие к 6-й серии, поступили в 378-й ошап уже зимой 1985 года. До перекрашивания «зеленых» самолетов по новой схеме в боевой обстановке, естественно, не доходило; этим обычно не занимались и при выполнении скоротечного ремонта поврежденных и выработавших ресурс Су-25 на АРЗ в Чирчике, возвращая штурмовики в полк (встречались и любопытные исключения, когда восстановленные машины так и продолжали летать, блестя неокрашенными после замены панелями, крышками люков, а то и целыми агрегатами). Со временем поступавшие с завода новые штурмовики почти полностью сменили «зеленые» самолеты, которых в полку оставались единицы. Однако вплоть до конца работы в Афганистане в 378-м ошап имелся, по крайней мере, одни такой самолет с бортовым номером 01.

Спарка» из состава 80-го ошап с заводской эмблемой. Штурмовик в камуфляже песчано-коричневых тонов, введенном в ходе афганской войны
В части Су-25 поступали с уже нанесенными на заводе бортовыми номерами, выполнявшимися трафаретом белым кантом по камуфляжу. Кое-где уже на месте их закрашивали однотонным цветом, своим для каждого полка с характерным для него набором номеров. В 80-м и 90-м ошап этим не занимались, оставляя заводское исполнение белым кантом с «рублеными» цифрами и так же выглядели поступившие в 378-й ошап их машины. Со временем на всех машинах 378-го ошап, боевых и «спарках», было введено написание номеров красным цветом с тонкой черной обводкой, наносившейся прямо на заводе. На Су-25 редко присутствовал свойственный суховским самолетам красочный элемент – «крылатый витязь» красного или синего цвета, встречавшийся на многих Су-17 и Су-24, эту эмблему практиковали на машинах выпуска Новосибирского и Комсольского-на-Амуре заводов, однако, в Тбилиси она так и не прижилась. Здесь предприняли свою попытку «декорировать» штурмовик, украсив одну из опытных машин Т8-4 изображением витязя в тигровой шкуре, указывающим на место рождения самолета. Однако значок успеха не имел, и все последующие серии обходились без этой визитной карточки.
В большинстве своем (за исключением разве что пары белорусских полков) Су-25 не несли и известную эмблему «Отличный самолет», которой отмечались экипажи, успешно овладевшие курсом боевой и политической подготовки – в «воюющих» частях штурмовой авиации, то и дело посылавших группы в Афганистан, было не до соцсоревнования.
Прочие «росписи» на бортах Су-25 носили практический характер – уже в заводском исполнении разработчики предусмотрели множество надписей эксплуатационного характера. Текстовые и знаковые трафареты красного, желтого и синего цвета соответствовали разным видам и объему подготовок – предварительной, предполетной и к повторному вылету, указывая, какой лючок следует открывать, на что обратить внимание и какой агрегат проверить. Тут же напоминались контрольные значения требуемых параметров – давление в гидросистеме, воздуха в колесах, загрузка и прочее, благодаря чему машину в полет мог выпустить даже «молодой и необученный» механик. Удобством в обращении и обслуживании Су-25 выгодно отличался от многих машин, а обилие броских технических «граффити» с первого взгляда вызывало впечатление: «Его можно читать, как газету».

Другой вариант эмблемы на истребителях 168-го полка

Эмблемой 168-го иап стал пикирующий сокол
«Грачата», по большей части, получили распространение на Су-25 со вновь введенным «афганским» камуфляжем с сочетанием коричневых, песочных и зеленых тонов, сменившим прежнюю окраску «европейского» образца. Причина была достаточно простой и не имела отношения к сочетаемости цветов: «зеленые» самолеты раннего выпуска до 6-й серии из-за большого налета быстро вырабатывали ресурс (в среднем его едва хватало на год-полтора работы в Афганистане) и уходили в ремонт. По выходу с ремзаводов их обычно передавали другим полкам, а на замену в 378-й ошап тут же перегоняли с завода новенькие машины, быстро вытеснившие прежние. Что касается эмблем, то единообразие длилось недолго и, помимо обычной «типовой» картинки, вскоре стали появляться другие варианты. Оригинальные трафареты быстро изорвались, да и прибывавшие сменщики имели свое представление об облике героя. Пернатое племя «грачат» множилось, но оригинальный вариант оставался самым привлекательным и часто накрашивался почти сразу по получении новеньких самолетов, заодно украшая и аэродромную технику. Иногда он выполнялся упрощенным, на грани символизма. Помимо него, появились агрессивные «грачи», вооруженные и очень опасные, несшие в лапах и под крылом всевозможное оружие (известен автор одной из таких эмблем образца 1988 года – «грач» с крупнокалиберной ракетой С-24 – техник все той же калиновской эскадрильи старший лейтенант Евгений Баин). Кроме собратьев «грачонка», созданных по его образцу и подобию, иногда возникали настоящие мутанты – хищники и огневержцы, больше похожие на драконов, однако признания эти исчадья не получили, будучи уж больно несимпатичными.

Образец нанесения звездочек за боевые вылеты на МиГ-23МЛД 168-го иап
В то же время самолет одного из наиболее известных летчиков 40-й армии Героя Советского Союза А. В. Руцкого с незаурядным боевым счетом в 450 вылетов даже при известной склонности командира к публичности никаких эмблем не нёс и выглядел вполне заурядно, имея на борту лишь несколько «боевых» звёздочек.
По возвращении из Афганистана кое-где бдительное начальство тут же пресекало неуставные художества, заставляя закрашивать ненормативные вольности. Однако процесс пошел, и в некоторых полках сами командиры давали приказ нанести на борта эмблемы частей, выдумывавшиеся тут же. В начале 1991 года Приказом Главкома ВВС предписано было сохранять геральдические элементы на бортах самолетов, отражающие историю и боевой путь части, принимая меры к их восстановлению и при ремонте или перекраске машин. Тем не менее, официально позволявшегося знака «Гвардия» Су-25 нигде не несли – ни один из штурмовых авиаполков гвардейского звания не имел – для этого все они, развернутые в 80-х годах, имели слишком короткую биографию, пусть и наполненную многими событиями, успев поучаствовать не только в афганской войне, но и во множестве конфликтов на территории бывшего СССР. Картина изменилась с середины 90-х годов, когда в ходе реформирования и сокращения ВВС ряду штурмовых авиаполков были переданы номера и почетные титулы упраздненных частей; передача «чужих» наград и званий при переименовании стала тогда повсеместной, а сохранившиеся части получали «двойную» историю и боевой путь.
Рассказ о «бортовой живописи» Су-25 был бы неполон без упоминания обязательного для всех «спарок»
Су-25УБ герба с «хозяином тайги» – бурым медведем, связанным с метом рождения этих машин – Улан-Удинским авиазаводом. Эта эмблема наносилась уже при выпуске самолета прямо в цехах, служа «заводским клеймом».
На истребителях элементы «бортовой живописи» впервые нашли место только с появлением в составе ВВС 40-й армии самолетов МиГ-23, и то не сразу. Поначалу дело ограничивалось теми же звездочками, ставшими едва ли не обязательными отметками о боевой деятельности. На МиГ-23 они наносились справа на борту перед кабиной, каждая соответствовала десяти вылетам. Иные из машин украшали целые «созвездия» из 50-60 отметок. Первые эмблемы появились практически одновременно со штурмовиками и разведчиками осенью 1987 года, когда в Афганистан прибыла смена истребителей 168-го иап из украинского Староконстантинова. Её самолеты работали с баз в Баграме и Шинданде. В качестве эмблемы был принят атакующий сокол, изображавшийся на воздухозаборнике как справа, так и слева. Аналогичный рисунок украсил и МиГ-23 из состава 979-го иап из белорусского Щучина, дополнявших основную группу и размещавшихся в Кандагаре.

Замполит эскадрильи 190-го иап А. Степанюк у своего МиГ-23МЛД. Борт машины украшает знак «Отличный самолет» и звездочки, свидетельствующие о 270 боевых вылетах

Изображение пикирующего сокола на борту МиГ-23МЛД 168-го иап

Небольшое число звездочек на борту этого МиГ-23МЛД из 168-го полка имело причиной скорую поломку самолета, ушедшего в ремонт и к боевой работе уже не вернувшегося. Заметны следы полустертой эмблемы на носу
Имела место и еще одна эмблема, также с изображением хищной птицы на фоне щита и стрелы весьма стилизованного характера. Этот рисунок довольно слабого исполнения распространения не получил, однако на нескольких машинах дополнял основную эмблему. Он наносился на носу истребителя сразу за конусом РЛС.
Наиболее яркими стали эмблемы на истребителях 120-го иап, прибывшего из забайкальской Домны в августе 1988 года. Оказавшись в Афганистане «под занавес», когда до намеченного вывода войск оставалось менее полугода, забайкальские истребители сполна смогли оценить все перипетии завершавшейся войны, имея и победы, и потери. Объемы боевой работы никак не снижались и в последние месяцы кампании, авиационная поддержка и плановые вылеты на бомбо-штурмовые удары оставались востребованными в полной мере, требуя выполнять по несколько вылетов в день.
Отданную было командиром полка команду украсить МиГи своей оригинальной эмблемой реализовать удалось лишь спустя несколько месяцев. Занятость не способствовала осуществлению художественных замыслов, из-за чего элементы «декора» появились на самолетах только к зиме. Первый блин, увы, вышел комом. Рисунок летчика капитана С. Приваловым изображал орла, вооруженного луком со стрелами, со ссылкой на забайкальское происхождение в виде изображения самого Байкала и местного пейзажа – сопок под голубым небом. Эмблема была нанесена на нескольких машинах, но одобрения не получила: смешение сюжетных линий, похожий на кляксу Байкал и сам орёл, больше похожий на попугая, вызывали в памяти известный опыт Остапа Бендера в живописи.
Положение исправило присутствие техника самолета капитана Валерия Максименко, признанного полкового художника, имевшего опыт агитационно-декоративной работы. Для начала предложена была эмблема простого и лаконичного исполнения с изображением парящего грифа – именно так в Афганистане прозвали МиГ-23, напоминавший своим распластанным крылом эту птицу. Хищный гриф рисовался с натуры – имевшегося у соседей-вертолетчиков чучела настоящей птицы. С помощью самодельного аэрографа и вырезанных из бумаги трафаретов эмблему нанесли на истребителях 1-й эскадрильи полка. Затея имела успех, истребители даже попали на глаза заезжему военному журналисту, и вскоре фото группы летчиков у разукрашенного самолета появилось на первой полосе «Красной Звезды».
Воодушевившись, рисунками украсили и другие самолеты. В качестве эмблемы был принят уже другой орёл, надлежащим образом экипированный и оснащенный. На рисунке с подписью «Жемчужина Забайкалья» красовался горбоносый гриф в коричневой лётной кожанке и защитном шлеме ЗШ-5. Птица бывалого вида с патронной лентой через плечо и с ракетой Р-60 в лапах восседала на сетке прицела АСП-17МЛ, в перекрестье которого был загнан пакистанский F-16 – частый источник неприятностей наших «пернатых» (опыт встречи с этим неприятелем имел и С. Привалов, незадолго до этого атакованный пакистанцами). Все детали обмундирования и снаряжения были исполнены с находившейся тут же натуры, а клюв прищурившегося грифа украшали те же белые звездочки.

Эмблема раннего образца на истребителе МиГ-23МЛД 120-го иап не отличалась совершенством
Вариантом эмблемы было изображение того же крылатого персонажа в деле: устремившийся в атаку гриф, облаченный в кислородную маску, тащил в лапах по бомбе и палил из пушки-двустволки, рассыпая стреляные гильзы. Для «спарок» была внедрена эмблема «Инструктор», на которой орёл-наставник, засучив рукава, демонстрировал у раскрытого наставления приёмы воздушного боя.
Изменения коснулись и отметок за вылеты. Помимо общепринятых белых звёздочек, вписанных в 8-см окружность, во 2-й эскадрилье на бортах МиГ-23 стали изображать отметки о содержании конкретных боевых вылетов – белые трафаретные силуэты ракет за вылеты на прикрытие ударных групп и черные бомбы за бомбардировочные удары. Их количество на многих самолетах переваливало за сотню, из-за чего на носу они уже не умещались. Их стали накрашивать на борту за воздухозаборником, откуда ряды «бомб» и «ракет» уходили под крыло.
В январе 1989 года дошло и до реализации наиболее агрессивных замыслов с нанесением на истребители акульих пастей. Сюжет, столь популярный на западных самолетах, у нас не возникал со времен войны. Из нескольких эскизов был выбран наиболее выразительный – оскаленно-зубастый, с прищуром и хищной ухмылкой.
Уже по возвращении из Афганистана «зубастые» самолеты 120-го полка приобрели достаточную известность. Участвуя в разнообразных показах, МиГи приобрели популярность и стали едва ли не самыми узнаваемыми самолетами афганской кампании. Их изображения и рисунки стали появляться в отечественной и зарубежной печати и на моделях многих производителей (включая коробку «Звезды» с такой моделью, растиражированной во многих тысячах экземпляров), часто с путаницей в принадлежности и деталях окраски.

Технология нанесения эмблем в полевых условиях с использованием самодельного аэрографа. Именно таким образом были выполнены все декоративные элементы на истребителях 120-го иап

Автор эмблем капитан 120-го иап Валерий Максименко

В полете МиГ-23МЛД из состава 120-го полка. Самолеты этой части были наиболее ярко декорированными машинами в авиации 40-й армии

Борт 64 из состава 120-го иап с полным набором бортового декора – эмблемами, «боевыми звездочками» и акульей пастью
«Фюзеляжная живопись» на вертолетах 40-й армии была распространена много реже и встречавшиеся рисунки можно в буквально смысле перечислить по пальцам. О причинах такой лаконичности в окраске вертолетной техники судить затруднительно: возможно, начальство армейской авиации не поощряло отступления от уставных предписаний. Скорее, объяснение было более прозаическим и дело было в большей интенсивности боевой деятельности вертолетчиков. Вездесущие вертолеты были постоянно востребованными, и на их экипажи приходилось куда больше вылетов, нежели у соседей-истребителей и штурмовиков. За день вертолетчикам приходилось выполнять по 5-6 вылетов, встречались и более значительные цифры, когда в операциях экипажи поднимались в воздух до десятка и больше раз в сутки (!) В итоге налет в армейской авиации превышал показатели коллег вдвое и более, соответствующей была и нагрузка на техсостав, готовивший машины, рабочий день у которых длился по 12-14 часов, попросту не оставляя времени на всякого рода отвлечения от основной деятельности. Распространены были только звездочки, в силу той же высокой загруженности наносившиеся из расчета минимум за 50 боевых вылетов.

«Голубь мира» на вертолете Ми-8МТ 335-го полка. Справа – Герой Советского Союза комэск А. М. Райлян
В числе немногих известных примеров рисунков на вертолетах были изображения драконов на Ми-8 и Ми-24 баграмской 262-й отдельной вертолетной эскадрильи, вооруженных и украшенных пиковыми тузами по традиции, уходящей еще к асам Первой мировой войны. В противоположность хищным тварям, другим примером эмблемы был «голубь мира» на Ми-8 из состава джелалабадского 335-го полка, появившийся в бытность там комэском подполковника А. М. Райляна – Героя Советского Союза и личности, весьма известной в авиации 40-й армии. Другим примером была голова снежного барса на Ми-8 из состава 239-й вертолетной эскадрильи в Газни. Во всех случаях рисунки наносились у «восьмерок» на наружных бронелистах возле кабины, словно нарочно к тому предназначенных, на Ми-24 – на броне под кабиной.
Иную картину представляли собой вертолеты спецназовской 205-й эскадрильи в Кандагаре. В силу специфики деятельности части, работавшей в интересах отрядов разведки спецназначения ГРУ, вертолетчики старались избегать какой-либо «наружной рекламы», которая могла бы выдать принадлежность машин. Имея дело с изощренным и хитрым противником, на вертолетах закрашивали даже бортовые номера, взамен которых красовались абстрактные черные квадраты.
У транспортных вертолетов Ми-6 известен единственный образец бортового «декора»: На одной из машин советнической 320-й вертолетной эскадрильи в Кундузе был нанесен рисунок с изображением веселого чёртика с подписью «Вася» – по всей видимости, восходящего к биографии одного из членов экипажа.
Свои отличия имело нанесение отметок за боевые вылеты на бомбардировщиках фронтовой и дальней авиации, привлекавшихся к работе по Афганистану в ходе крупных операций. Их работа носила эпизодический характер, боевых заданий было поменьше, из-за чего звездочки наносили за каждый выполненный вылет. Тем не менее, на некоторых машинах их число достигало полусотни.
Уместно будет напомнить порядок нанесения опознавательных знаков и бортовых номеров на самолетах и вертолетах ВВС 40-й армии. Их размещение регламентировало «Положение об опознавательных знаках самолетов Военно-Воздушных Сил». Процитируем указание дословно: «Основной опознавательный знак самолетов Военно-Воздушных Сил «красная звезда» наносится на все самолеты типа моноплан – на крыльях сверху и снизу и с двух сторон на вертикальном оперении… на вертолетах всех конструкций – по бокам кабины в её задней части и снизу кабины». При нанесении опознавательного знака на крыло самолета (сверху и снизу) своими нижними концами звезда (без окантовки) не должна была выходить за пределы границы раздела крыла с элероном. На элероны разрешалось наносить только выступающие части белой и красной окантовки звезды. На вертикальном оперении звезда наносилась «в центре общей площади киля и руля направления с таким расчетом, чтобы её концы размещались от кромок обтекания киля и руля направления на расстоянии 50-150 мм».

Спецназовцы с экипажем 239-й овэ у вертолета Ми-8МТ, украшенного эмблемой в виде оскаленной головы снежного барса. Газни, октябрь 1987 года

Пример нанесения звездочек за боевые вылеты на бронещите вертолета Ми-8МТ из состава 50-го осап. Кабул, весна 1988 года
Оговаривался и размер опознавательных знаков: «Основной опознавательный знак «пятиконечная звезда» при нанесении его на самолеты должен иметь возможно больший размер, но не превышать установленных типовых размеров». Последние назначались равными подходящему из типового ряда с окружностью вокруг звезды (включая окантовку) диаметром 600 мм, 800 мм, 1000 мм с шириной белой окантовки 20 мм и наружной красной окантовки 10 мм. Для тяжелых машин предусматривались и большие размеры звезд диаметром вплоть до 2100 мм.
В числе прочих к работе в Афганистане привлекались машины авиации пограничных войск КГБ СССР из состава 10-го отдельного авиаполка в Алма-Ате, 17-го полка в Мары и 23-го полка в Душанбе. Для них предусматривались свои отличительные элементы: «Помимо основных опознавательных знаков «пятиконечная звезда» и бортового номера, дополнительно наносятся полосы шириной 250 мм: на самолеты – на руле направления параллельно нервюрам с двух сторон ниже звезды и на руле высоты параллельно лонжерону снизу и сверху; на вертолеты – по бокам кабины на расстоянии 100-150 мм в сторону хвоста за опознавательным знаком «пятиконечная звезда». Полосы окрашиваются при нанесении их на тёмный фон в белый цвет, на светлый фон – в красный цвет».