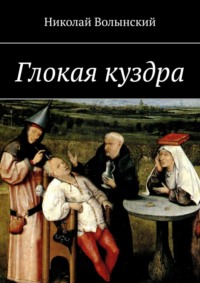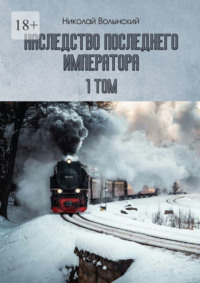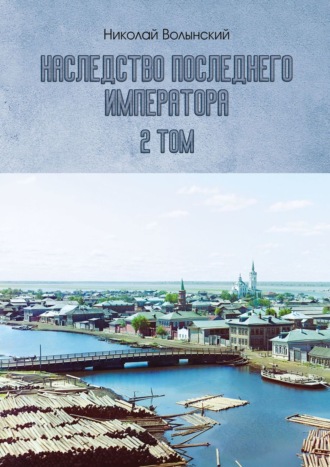
Полная версия
Наследство последнего императора. 2-й том
– Не самая лучшая мотивация, – проворчала Новосильцева, а матрос посмотрел на нее с большим уважением: ему понравилось слово «мотивация». Комиссар оставил реплику без внимания.
– Позвольте?.. Мне все же кажется, – произнес бывший поручик Керженцев, – что мы имеем дело не с врагами, а с обычной революционной вольницей.
– Хороша вольница! – воскликнул командир эскадрона Шикин. – Хороша! Чуть ли не целый батальон снимается с места, захватывает пассажирский поезд, выбрасывает оттуда пассажиров и отправляется на перехват нашего отряда. И все это на глазах совдепов, чека и боевых групп ЧОНа. Кто может себе такую вольницу позволить? Все у них давно слажено.
– Что у вас, Павел Митрофанович? – спросил Яковлев, не отвечая Шикину.
– Позвольте товарищ комиссар, – поднялся Гончарюк.
Яковлев кивнул.
– У меня почему-то сильная уверенность, что, товарищи из Уралсовета приготовили нам роль брандера.
– Кого? – переспросил Зенцов-младший. – Какого Бендера?
– Брандера, юноша, – пояснил Гончарюк. – это не твой сосед Бендер. Это в морском бою небольшое судно, набитое порохом. Его подводят вплотную к кораблю противника. Закрепляют у борта и подрывают. Брандер взрывается, но при этом уничтожает врага.
Яковлев откинулся на спинку дивана.
– Жду конкретных предложений, – напомнил он. – Теории потом. Глафира Васильевна?
– У меня предложений всего два, – сказала Новосильцева. – Первое: попытаться переподчинить отряд Заславского. Второе: если не получится первое, отряд уничтожить на месте.
Наступила тишина. Мужчины молча уставились на Новосильцеву так, словно не верили своим ушам.
– Принято, – прервал паузу Яковлев. – Приняты оба предложения товарища Колобовой. Какое конкретно – разберемся по ходу дела. Все? Совещание закрыто. Прошу по местам.
Когда командиры покидали салон комиссара, из коридора до Новосильцевой донеслись обрывки фраз:
– Решительная, однако, у нас мадам комиссарка, – неодобрительно заметил Керженцев.
– Да, уж от нее не ожидал, – это был голос Шикина. – «Уничтожить полностью!» Вот вам женщина!.. Надо же! «Уничтожить на месте» – ей как эклер проглотить…
Вечером, снимая нижнюю сорочку и освобождаясь от чулок, она спросила Яковлева:
– Почему ты не дал мне сказать о шифровке? Не доверяешь своим?
Нежно обнимая Новосильцеву и лаская ее грудь, снова расцветающую после болезни, Яковлев шепотом ответил:
– Я доверяю только себе.
– А мне? – шепнула она ему на ухо, прижимаясь к его крепкому, словно высеченному из камня, телу и чувствуя, как его плоть решительно входит в нее.
Он прильнул к ее шее губами. Мягкие шелковистые усы и бородка ласкали ее лицо.
– И тебе иногда, – прошептал он.
Она задыхалась от восторга, чувствуя его силу и его любовь в такт постукивающим колесам поезда.
Волна счастья подкатила к ее горлу и вдруг взорвалась рыданием. Лицо залили слезы – она сотрясалась, беззвучно рыдая, кусая губы и пытаясь изо всех сил удержаться от крика. Постепенно конвульсии перешли в мелкую дрожь, и ее охватило ощущение необыкновенной внутренней тишины и сладостной пустоты. Такого с ней не было еще никогда. «Что это? – спросила она себя. – Наверное, это и есть любовь?.. Настоящая… Не по заданию начальства…»
– …Когда хочется жить так же сильно, как и умереть, – прошептала она.
– Ты о чем, чаечка? – шепнул Яковлев.
– Потом, потом… – ответила она.
Они лежали изнеможенные, исчерпанные до конца коротким, но мощным взрывом чувства, который настиг их одновременно, коротко дышали и не могли успокоиться.
– Ты плачешь, милая? Почему? – спросил Яковлев, гладя ее по коротко остриженным волосам.
– Нет. Я не плачу… – прошептала она. – Это от счастья… И от горя… Что нас ждет? – спросила она.
Он помолчал.
– Сейчас этого не знает никто, – ответил он, наконец.
Она приподнялась на локте.
– Мне пора уходить, – произнесла Новосильцева. – А то начнут подозревать.
Он усмехнулся.
– Не волнуйся, – он поцеловал ее в глаза. – Все, кто хотел, давно заподозрили… Мы здесь все равно, как на корабле – мало пространства и много людей. Ничего не скроешь. Конечно, это плохо… Но, а если завтра жизнь будет кончена? Не спеши. На часах – Павел Митрофанович. Он все давно знает и понимает.
– Павел Митрофанович… – произнесла она. – Он хороший человек, правда?
– Он очень хороший человек – правда, – подтвердил Яковлев. – И он, по-моему, в тебя немножко влюблен, хотя и сам не подозревает. Интеллигент – что с него возьмешь! Светский человек.
– Интеллигентных и светских матросов я еще не встречала, – заметила Новосильцева.
– Я тоже, – ответил Яковлев. – Он все скрывает ото всех и от себя тоже – с первой вашей встречи. С той, когда кормил тебя с ложки, – усмехнулся он и снова осторожно поцеловал ее.
– Не надо целовать меня в глаза, – отстранилась она. – Говорят, плохая примета.
– Кто говорит? – поинтересовался он. – Те, кто тебя целует?
Она стукнула кулачком его по груди и вскрикнула от боли.
– Мерзкий! – она потерла ушибленную ладонь. – Я тебя накажу – увидишь. И не проси потом прощения! Не получишь!
Он снова осторожно поцеловал ее в глаза и прошептал:
– Я хочу, чтобы твои глаза не плакали. И помнили меня долго.
– Это они от счастья… – повторила она. – Я такого еще никогда не переживала. Я очень хочу жить! – вдруг слабо воскликнула она. – Понимаешь? Я еще несколько месяцев назад совсем ничего не хотела – только умереть… Боже, если бы ты знал, как я устала!.. А теперь я так хочу жить! Но боюсь даже думать, – она вздохнула. – Говорят, если целовать в глаза – это к смерти.
– Чушь! – возразил он. – Нет такой приметы. Я все приметы знаю! Такой никогда не было.
– Знаете, комиссар, – неожиданно засмеялась она, – что мне больше всего в вас нравится?
– Знаю, конечно! Я думаю, что тебе во мне нравится всё! Без исключений, – заявил он.
– Ты сам всего о себе не знаешь. Так вот, больше всего мне нравится, что ты умеешь себя похвалить – да так, чтобы тебя еще и пожалели при этом!
Он развел руками и смущенно произнес:
– Детство было нелегкое. И юность – всё револьверы да пули.
– И все же я боюсь примет, – прошептала она и отвернулась к окну, за которым расстилалось пустое и холодное белое пространство.
– Милая, – с неожиданным жаром прошептал он, прижав ее к себе. – Ты единственная – первая и, наверное, последняя любовь в моей жизни. Тебя не могут коснуться приметы. Пока я жив, не посмеют. Все в наших руках – и наша жизнь, и наша смерть.
Она прижалась щекой к его груди и попыталась приласкать его.
– Я теперь, наконец, знаю, кто ты для меня, – сказала она.
– Не надо, – мягко попросил он. – У нас совсем уже нет времени.
– Но почему ты не хочешь услышать, кто ты для меня? – подняла она голову и посмотрела на него.
Он молчал, ожидая, что она скажет.
– Я хочу от тебя ребенка, – тихо, но решительно произнесла она. – Вот кто ты для меня! Мне никогда еще в жизни этого не хотелось. Я даже не знаю, что это такое – быть женой, быть матерью, иметь свой дом, не лгать, не притворяться, не думать о том, что тебя в любую минуту могут раскрыть, разоблачить, истерзать и запытать до смерти. И только если очень повезет, всадят в голову несколько пуль… Но ведь это так некрасиво – женщина с дырками в голове! Еще немного, и я сломаюсь. Я сыта вашей мужской жизнью. Устала от ваших игр в жизнь и смерть – от игр, которые придумали вы, мужчины, и меня затолкали в эту мясорубку… Поэтому я хочу уйти до окончания спектакля. Кто хочет, пусть досматривает пьесу без меня.
Он все еще молчал, нежно поглаживая ее по коротким волосам, удивительно мягким, словно китайский шелк, и удивительного цвета – платинового. Таких он никогда в своей жизни не видел.
– Что молчишь, комиссар? Чего ты испугался, твердокаменный большевик? Признайся: меня испугался, моих слов!
– Мне больше нравится слушать тебя, а не говорить, – произнёс он.
В темноте её груди матово отсвечивали, словно две фарфоровые получаши, и мерцали глаза и зубы.
– Да – я начну свою новую, человеческую, а не шпионскую жизнь с того, что рожу ребенка. И хочу получить гарантию, что он у меня будет! Немедленно хочу получить! – упрямо повторила она. – Готовься к бою!
Он мягко прижал палец к ее губам и осторожно попытался освободиться.
– Чаечка, – как можно нежнее сказал он. – Боюсь, что это жестоко – приводить сейчас в наш мир беззащитного человечка. Он должен жить для радости. А на его долю выпадет горе, такие испытания, с которыми и не каждый взрослый может справиться… Лучше вообще пока не давать никому новую жизнь, чтобы она не оказалась хуже смерти… Но я надеюсь – нет! – я абсолютно и бесповоротно уверен, что через два-три года все изменится. И нам нужно дождаться перемен. Они обязательно наступят, ведь для этого мы здесь с тобой. Иначе в том, что мы сейчас с тобой делаем, нет смысла. Ничего более худшего не знаю и представить себе не могу, нежели никчемушное, бессмысленное существование… Милая, мы дождемся других, более счастливых времен – я обещаю тебе, я клянусь тебе, я все сделаю, чтобы они наступили…
Его слова неожиданно вызвали в ней вспышку раздражения.
– Лучше бы промолчал! Вы, большевики, известные соблазнители доверчивых душ – как я могла забыть! Совсем потеряла бдительность! А ведь еще несколько секунд назад мне показалось, что ты – живой человек! А ты, оказывается, не человек, а пропагандистская машина. Хоть бы пожалел меня, не давил своей пропагандой!.. Я же тебе только что сказала – всё! Я ушла от вашей мужской жизни. Хочу немедленно уйти!
Яковлев вздохнул и покачал головой.
– Это не так быстро получится, – мягко возразил он. – И ты лучше меня знаешь, что я прав. Все будет у нас, но не так скоро, как мы хотим.
Но она уже сама осознала, что неправа. Однако пожалеть о своих словах не успела.
Раздался деликатный стук, потом дверь мягко отъехала в сторону, и из тамбура послышался тихий голос матроса Гончарюка.
– Товарищ комиссар, – сказал он, не входя в салон. – Василий Васильевич! Глафира Васильевна! Скоро станция. Семафор нам зелёный.
– Так быстро? – удивилась Новосильцева.
– Так ведь уж ночь прошла, – тихо ответил матрос.
Новосильцева в ужасе широко открыла глаза и схватила сорочку.
– Я всё слышал, Павел Митрофанович, – отозвался Яковлев. – Спасибо, голубчик.
Гончарюк осторожно притворил дверь, клацнула защелка.
Когда Новосильцева вышла из салона, матрос все еще стоял у блиндированного окна вагона. Она смущенно улыбнулась ему, он кивнул и отвернулся к окну.
Поезд загрохотал на стрелках и стал снижать скорость. Они въезжали на станцию Тюмень.
3. Комиссар Яковлев. Тобольск
ПРОЕХАВ почти десять часов без передышки, отряд остановился в небольшой, на пятнадцать дворов, деревне Дальние Выселки. До Тобольска оставалось всего сотни полторы верст, но люди и лошади выбились из сил. И комиссар Яковлев приказал сделать привал на полтора часа. Дозор отправился вперед.
Через час дозорные вернулись с тем же сообщением, что и два часа назад: отряда Заславского не увидели. Но в том, что он впереди, сомнений не было, это подтверждали следы лошадиных копыт.
– Хорошо идут, – сказал Зенцов-старший, – хотя тоже без отдыха. Только что-то непонятное… Маловато их.
– Григорий, – спросил комиссар младшего Зенцова. – Ты говорил, что их должна быть сотня.
– Да, – подтвердил младший брат. – Не должна, а точно сотня. А что?
– А то, – заявил Павел, – что следов на сотню лошадей не наберется. Вполовину меньше – да. А сотня – нет.
– И сколько же их? – спросил Шикин.
– Примерно пятьдесят верховых. Ну – шестьдесят, и никак не больше, – ответил Павел Зенцов.
– Как это ты высчитал? – фыркнул младший брат.
Старший огорченно вздохнул и, не отвечая, повернулся к Яковлеву:
– Вот, товарищ комиссар, видишь? До чего же бестолковая молодежь нынче. Разве мы такими были? Нет, чтобы потом – тихонько, скромно подойти, чтобы глупость свою не показывать, и спросить: «Брательник, научи, как определять по следу, сколько верховых прошло?» Так нет же – он экзаменты устраивает старшему да еще на людях. При боевых товарищах! На штабном совещании!.. Повторяю для тех оболтусов, которые слушать не умеют: всадников перед нами прошло не больше пятидесяти. В самом крайнем случае, шестьдесят. Но уж никак не сотня.
– Они, наверное, уже в Тобольске, – предположил Шикин.
– Недалеко от него, – согласился Зенцов-старший. – Резво идут.
– Будем надеяться, – проговорила Новосильцева, – что полковник Кобылинский просто так Романовых им не отдаст. И у нас будет еще немного времени.
Расположились в крайней избе, где жила вдова солдата, погибшего в пятнадцатом году. Она осталась с пятью детьми. Старший мальчишка раздувал сапогом самовар. Братья носили ему щепки и сосновые шишки из леска, который начинался сразу за огородом.
Вдова вытащила из погреба два ведра картошки, трое солдат сели ее чистить, а матрос Гончарюк своим огромным золингеновским тесаком вскрывал английские консервы, на которые дети смотрели во все глаза. Они никогда не видели такого мяса – запакованного в железо и так аппетитно пахнущего, что сводило кишки в пустых животах.
Павел Зенцов откашлялся.
– Есть еще два интересных обстоятельства, – сообщил он. – Кобылинский будет там не один.
– Что значит – «не один»? – спросил Яковлев. – Откуда ему ждать помощи?
– То есть, я хотел другое сказать, – уточнил Зенцов. – Он не один столкнется с Заславским, если придется: этот Шимон – не единственный претендент на Романовых. Из Омска и Тюмени двинулись еще два отряда. И тоже за царем.
– Да, знаю, Белобородов предупреждал, – подтвердил Яковлев.
Матрос Гончарюк, выставляя на стол открытые банки с тушенкой, на которых было написано большими красными буквами «Stewed meat»24, подал реплику:
– Как же они там разберутся, кто свой, кто враг? Полгорода переколошматят…
– Ничего там не произойдет! – заявил Гузаков – он со своими людьми тоже присоединился к Яковлеву. – Воевать они не умеют. По пьяному делу подраться или выстрелить в спину из-за угла, поставить к стенке безоружного – это могут. А на серьезное – нет, не способны. При первых же выстрелах разбегутся – и одни, и другие.
– Почему? – спросил Шикин. – Ты их знаешь? Всех?
– Не каждого, но, в общем-то, знаю, – ответил Гузаков. – Сплошь пьянь, рвань и эсеры!
Главный пулеметчик Росляков недовольно кашлянул и повернулся к Гузакову. Он сам был эсером, долго состоял в партии и только месяц назад из нее вышел и стал большевиком. И Яковлев отозвался немедленно, чтобы не дать разгореться спору:
– Ну, насчет эсеров ты, друг мой, не прав. Среди них больше всего настоящих боевиков, смелых и бесстрашных товарищей. А вообще, никогда не надо считать противника хуже или слабее себя.
Хозяйка поставила на стол самовар, глиняные кружки, большую деревянную миску с картошкой. Яковлев подозвал к себе ординарца:
– Павел Митрофанович, – тихо спросил он. – Мы можем хозяйке оставить что-нибудь из еды?
– Уже оставил, – ответил матрос.
– Что?
– «Антанту» – десять банок, две пачки чая, немного сахара.
В Тобольск прибыли к вечеру. Скакали без передышки, постоянно меняя аллюр – с рыси на галоп и снова на рысь. Хуже всех досталось Гончарюку, сидевшему на лошади второй раз в жизни, и Новосильцевой, севшей в седло впервые. Но если матрос нашел в себе силы самостоятельно сойти с коня, то Новосильцеву, совершенно застывшую и окаменевшую, снимать с седла пришлось двум солдатам.
В гостиничный номер Гончарюк внес Новосильцеву на руках. Уложил на постель и долго растирал ей руки и ноги жесткими, словно просоленными в морской воде, ладонями. Она немного стала оживать и даже слегка всхлипывать от боли. Матрос улыбнулся, подмигнул и вытащил из кармана плоскую серебряную фляжку.
– Милости прошу, откройте ротик, товарищ Колобова!..
Она тоже улыбнулась сквозь слезы, вспомнив их первую встречу в ЧК на Гороховой.
– А если я не открою?
– Тогда… – печально вздохнул Гончарюк. – Тогда я… – он таинственно выдержал паузу. – Я ждать на этот раз не буду! Пожалеете!
И он решительно поднес фляжку к ее губам. Она сделала два глотка и откашлялась.
– Что это? Немного на водку похоже.
– Похоже?! – поразился Гончарюк. – Только, похоже? И всё?
Он понюхал фляжку. Сам сделал глоток, отдышался.
– Нет, вроде все в порядке.
– А что это?
– Чистый продукт! – сообщил он. – Чистейший! Как раз для таких случаев, как наш.
– Так что же?
Вместо ответа он протянул ей фляжку.
– Попробуйте еще.
Она сделала еще два глотка и чуть задохнулась.
– О, Господи… Медицинский спирт! А я сначала не почувствовала.
– Еще бы! Как вы могли почувствовать, если вы совсем ничего чувствовали! – успокоил ее матрос Гончарюк и завинтил крышку фляжки.
– А вы?
– Мне пока не нужно, – ответил матрос. – Я пока держусь лучше, чем на лошади. Кому рассказать – не поверят: комендор, старшина второй статьи боевого крейсера «Аврора» – и скачет на коняке! Хлюп-хлюп!
– А я? – от души засмеялась Новосильцева. – А я-то? Кто? Амазонка в большевистской куртке! Видел бы меня сейчас полковник Скоморохов!
– Какой полковник? – удивился Гончарюк.
– Ну… ну, этот… – «Господи! – ужаснулась Новосильцева. – Я же совершенно пьяна!» – Скомороха, который изображал… – она пьяненько покрутила пальцем у виска, – Александр Васильевич…
– Полковник Александр Васильевич? – насторожился Гончарюк.
– Ну-у-у… – она сделала вид, что опьянела окончательно, – ну не то чтобы полковник… а… ну… этот, смешной старичок, в парике таком… Он еще водку редькой закусывал. Редька воняла, а императрица Екатерина все равно редьку ему подавала в Зимнем дворце… А-а-а! Вот, вспомнила – Кутузов… Нет… Кто? – с пьяной требовательностью спросила она Гончарюка. – Отвечай же, Павел Митрофанович!.. А то напоил меня, а сам отвечать не хочет… Я комиссару пожалуюсь… Кто этот был, с редькой? Не числом, а уменьем!..
– Суворов, наверное? – с надеждой спросил Гончарюк.
– Вот! Именно он… Но ты – не Суворов, и тебе на пьяную женщину, хоть молодую и красивую, смотреть нечего! Иди к своему генералиссимусу!.. – потребовала она.
– К кому? – обескуражено спросил матрос.
– Ну, к этому… Который такой добренький ко всем, только с близкими людьми недобренький!.. Уходи!
Матрос был очень смущен. «Нельзя бабам пить! – подумал он. – А хорошим – тем более! Мозги сразу навыворот. И зачем я дал ей спирту? И так бы отогрелась, а теперь будет стыдиться, злиться на меня… Ну, всё!»
Ни слова не говоря, он кивнул и торопливо ушел. Новосильцева подбежала к двери, задвинула ригель, и дала себе волю. Слёзы текли в два ручья без перерыва минут десять. Но странно: она при этом не чувствовала ни обиды, ни горя, ни усталости. Наоборот, с каждой минутой, душа оттаивала, как тает около печки ледышка, и когда Новосильцева снова глянула в зеркальце, она увидела там довольно милое личико, с дерзко-пьяненьким прищуром глаз и вызывающей улыбкой.
– Вот теперь ты настоящая профессионалка с Лиговки25! – сказала она особе, глядевшей из зеркальца. – А вообще-то, пора уходить со службы, – ее охватил запоздалый страх. – Хорошо, что Гончарюк меня слышал, а не Росляков. Этот эсер – еще та штучка. Вцепился бы, пока не выяснил, что за Суворов-Скоморохов объявился в русской истории… Второй раз Господь в таких случаях не выручает. Всё, со службой покончено! Скорей бы с этими разобраться, а там можно и ехать. Через Финляндию можно. Можно через Польшу. Скомороховская агентура наверняка там осталась – не разбежались же все по большевикам… Так: даю себе шестьдесят минут. Команда: глубокий отдых, полный отдых – сон!..»
Она прилегла, закрыла глаза и тут же провалилась в пропасть – уснула, даже не успев это осознать.
Ровно через час глаза открылись сами. Она оглядела номер, все вспомнила, оделась, ополоснула лицо ледяной водой из-под крана. Чувствовала себя Новосильцева превосходно.
Выйдя, в гостиничный коридор, огляделась. Видно, революция не совсем дошла сюда: ковры на полу – не разворованы, не изрезаны. Шторы, белые, свежие, явно шелковые. Тоже почему-то не приглянулись ни одному революционеру. А ведь хороший подарок любой женщине – мануфактуры в России тоже нет. А тут белый шелк. Недолго ему висеть нетронутым.
Новосильцева вдруг поймала себя на мысли, что она рассматривает шелк так, как будто примеряет его на себя. «Совсем с ума сошла! – упрекнула она себя. – Наверное, в самом деле, надо резко менять жизнь. Тем более что она, жизнь, сама хочет измениться, не дожидаясь моего решения…»
Сойдя на второй этаж и увидев одной из дверей двух часовых с винтовками, на которых холодно поблескивали русские трехгранные штыки, она поняла, что штаб Яковлева здесь.
Войдя в номер, увидела, что здесь все командиры. Они расположились в креслах кругом, а посредине на стуле сидел незнакомый солдат без шапки, в гимнастерке с расстегнутым воротом, взъерошенный и раскрасневшийся, видно, только что с мороза. Он о чем-то говорил – медленно и обстоятельно. Увидев Новосильцеву, замолчал и вопросительно посмотрел на Яковлева.
– Помощник комиссара по общим вопросам Глафира Васильевна Колобова. Она же – эксперт по криптологическим проблемам, – успокоил солдата Яковлев. – Я попрошу вас, Василий Алексеевич, повторить то, что вы уже нам рассказали. Очень важно, чтобы Глафира Васильевна услышала всё с самого начала.
Новосильцева кивнула солдату:
– Да, будьте добры! – а сама подумала недовольно: «Хоть бы заранее предупреждал, по каким вопросам я у него эксперт… Хотя все правильно – по тайным. И пусть каждый сам догадывается, какие у нас с ним тайны…»
– Всё с начала? – удивился красноармеец.
– По возможности, – ответила Новосильцева.
– С самого начала, – повторил Яковлев. – Товарищ Колобова – наш военспец. Для нее важна каждая деталь. Да ведь вы только начали. Глафира Васильевна, знакомьтесь: это товарищ Неволин, рабочий Верх-Исетского завода, большевик и мой старый друг. Он пулеметчик в отряде Заславского.
Неволин кивнул.
– А где сам Заславский? – спросила Новосильцева.
– На выходе из города – в сторону Омска.
– В казармах отдельного жандармского корпуса, – добавил Яковлев. – Прошу, Василий Алексеевич, продолжайте.
– Ну что ж, начнем сначала, – вздохнул красноармеец и заговорил, опять спокойно и обстоятельно. – Значит, вчера вечером приходит начальник штаба – Бусяцкий у нас такой, и заявляет: «С рассветом выступаем. В четыре утра быть на станции». Вашего бронепоезда еще не было. Вы приехали позже – в десять утра.
– В девять, – поправил матрос Гончарюк.
– Не важно, – сказал Неволин. – Значит, тут пассажирский стоит, пыхтит, на Омск собрался. Высадили из поезда пассажиров, прицепили теплушки для лошадей – пятьдесят голов погрузить надо…
– Пятьдесят? – удивилась Новосильцева. – Разве не сто? Сколько человек в отряде?
– Сто, – ответил Неволин. – Еще полсотни лошадей были приготовлены в Тюмени.
– Прошу вас, продолжайте. Постараюсь больше вас не перебивать, – сказала Новосильцева.
– Ну отчего же, барышня? Перебивайте, – добродушно разрешил Неволин. – А то потом забудете, что такое хотели спросить… И перед посадкой начальник штаба говорит: «Советская власть красного Урала поставила перед нами не сильно трудную, но очень важную задачу: доставить в Екатеринбург только одного человека. Живым или мертвым!» Натурально, люди спрашивают, зачем целую сотню отправлять ради одного? Он ответил, что если бы мог, то отправил бы и две сотни – такое важное задание. Ну, тут нам все стало ясно. Знаем мы, кто тут в Тобольске сидит такой важный… Хорошо, что со мной племянник был – сестра послала проводить. Вот как мы уехали, он дождался Пашу Зенцова и все рассказал.
– За это огромное вам спасибо, товарищ Неволин, – сказал Яковлев.
– Ладно-ладно, не перебивай, Костя, – недовольно отозвался Неволин. – Ты же знаешь, я этого не люблю…
– А ты не задерживай, не томи душу нашего военспеца, – сказал Яковлев.
– Скажи, комиссар, а у тебя как с куревом? – неожиданно спросил Неволин. – Хоть бы угостил боевого товарища!
– Конечно! Что же ты, брат, молчал? – отозвался Яковлев. – Я-то думал, ты не куришь…
– Такую кашу заварили на всю Россию, тут не то, что закуришь – запьешь, – вздохнул Неволин. – Но пить в такие времена нельзя вообще, по-моему!
Новосильцева и Гончарюк переглянулись. Она незаметно подмигнула матросу.
Неволин взял кисет у Яковлева, понюхал.
– Что это у тебя здесь? Монпансье?
– Это табак, Вася, из Питера. Очень хороший, – ответил Яковлев. – Трубочный. «Кнастер» называется.
– Да-а-а… – протянул красноармеец. – Аж слюни текут. Так бы и съел. Нет, ты давай мне чего попроще.