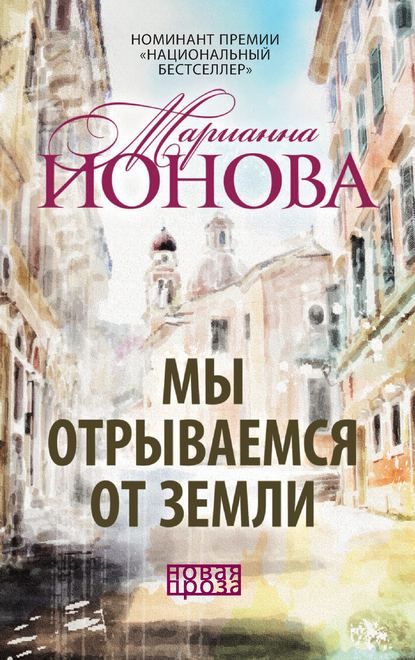Полная версия
Мы отрываемся от земли (сборник)
Нет, он все-таки дуб, сказала себе Мария. А говорить буду.
– Видите ли, надоедает до бесконечности перемалывать умные мысли. Ведь они всего лишь мои… Даже совесть может обманывать. Кто сказал, что всегда она голос Божий, что она не окажется частью слабой, грешной, глупой меня?
Виталик молчал, ожидая услышать дальнейшее. Почему ему не приедается эта тема, почему он в любое время готов говорить и слушать о Боге?
А ведь я исповедуюсь ему, осенило Марию. Потому-то он и слушает.
– У Баха, Виталий, есть один хорал, его хор поет, и там такие слова: «Покажи нам свою огромную любовь». Он являет свою любовь, постоянно ее являет, но для всех, и в церкви ты один из многих… А ведь иногда так хочется… Чтобы больше не сомневаться. Если подумать, то нельзя жить, не зная Его волю – не вообще для всех, а в отношении конкретно меня, – и однако странно, что я могу, могу так жить… Но не хочу.
Виталик смотрел на нее пристально, озабоченно до беспощадности.
– Я обо всем об этом не думал… Наверное, у вас вера глубже. Вы как будто очень глубоко верите… Но только не там. Это как колодец выкопать: можно ведь вырыть ой как глубоко, а не там, где нужно.
– Знаю, тогда это уже не колодец, а яма, и останется в нее только провалиться.
– Нет, нельзя так про веру говорить. – Виталик нахмурился, но тон был почти ласковый. – Зачем же так?.. Старые иконы вот, например… их ведь сжечь или выбросить грех, и поэтому их в земле хоронят. Вы это так не переживайте. А то сами заведетесь, меня разволнуете, а какой прок… Нельзя себя заводить. Вы же женщина, вам еще детей…
Сколько сил у него забирало это примиренчество, эта ласка, Мария видела.
– Вот вы говорили, что искали смысл жизни, но Бога тогда не встретили. И смысла не нашли. А когда вы встретили Его, как стало со смыслом?
– Более-менее ясно стало, – ответил Виталик не сразу.
Еж неприветливо миновал ее ноги, и через секунду Мария вспомнила, что лист был бордово-бурый.
– Людям нужны загадки, – взвешенно продолжал Виталик. – Люди, они же как дети. Вы небось знаете, раз с детьми работаете. Уж, кажется, все объяснили вдоль и поперек, а им неймется: спрашивают и спрашивают об одном и том же. А если ответ не по нутру пришелся, начнут выдумывать, лишь бы только не успокаиваться и не делать, как надо.
– А как надо?
– Ну, вот и вы туда же! А еще православная… Извините, но вам-то зачем прикидываться, малахольную из себя строить? Это раньше, в древние времена, люди не знали, что да как и ради чего жить, а потом Господь ко всем загадкам дал ключ. Один ключ! Себя. Он Сам Себя в жертву принес, за нас, между прочим, а мы все вертимся, как хорек в дупле. Все лазейки ищем… Господь нам вечную жизнь даровал – куда уж лучше! – а мы все с привременной носимся… Смысл в ней, видишь ли, ищем.
– Так, значит, про привременную вовсе забыть?
– Ну, почему же забыть? Не забывать надо, а помнить, что она дана нам для испытания.
– Я согласна.
– А тут и соглашаться нечего. То есть простите… Но вы же поняли?
– Поняла. Вы правы, то есть мы оба правы в том, что без вечной жизни, без жизни будущего века нынешняя наша жизнь – это как… трамплин, с которого некуда прыгать. Но ее нельзя, по-моему, сводить исключительно к подготовке, вроде подготовки космонавтов перед запуском в космос! Да, мы в ней почти ничего не можем… Мы пытаемся взлететь и падаем. До какой только высоты человек не задирал планку! Какие только мечты не морочили людям головы на протяжении всей истории! Но в том-то и дело, что не морочили! Наш любимый апостол Павел писал, что вера – это осуществление невозможного и уверенность в невидимом. Я вот думаю, что Царство Божие – это осуществление невозможного. В нем сбудется всё. Все наши самые дерзкие мечты… Все невозможное, безумное и прекрасное, что мы так ясно видели воображением. Если бы мир не был прекрасен, мы ничего бы не видели. Это мир, где даются обещания. И значит, его уже нельзя презреть, а наоборот…
– Ну, насочиняли! Дерзкие, видишь ли, мечты! Да мало ли кому что втемяшится?! А Царство Божие, по-вашему, что ли, устроено под нас?
– Для нас.
– Для вот таких вот? С мечтами? Не понимаю.
Виталик смотрел прямо перед собой.
– Я думаю, если все время благодарить Бога за мир, нам не будет стыдно любить его. Я сама не знаю, почему я занимаюсь апологетикой земной жизни, как не знаю, перед кем ее оправдываю. – Мария заметила, что повышает тон и что голос словно опережает ее. – Но в одном я убеждена: в том, что вера в жизнь вечную вовсе не мешает, не может мешать нам любить эту жизнь.
Мария остановилась, хотя могла сказать еще много. Будто крохотные лепестки ее чистосердечия и красноречия лежали рассыпанные вокруг Виталика, как вокруг глыбы в каком-нибудь русском саду камней: мелкие, яркие, трогательные и бесполезные.
– Вот вы говорите: «Любить жизнь»… – произнес Виталик раздумчиво. – А я не пойму за что. Где она, эта жизнь, какая? И вообще, она только моя или она у всех общая?
– Общая?
– Ну да. Потому что если она только моя, то что я ее люблю, что не люблю – тут уж только мое дело. Никто этого не видит, и жизнь моя, сколько я ее ни люби, лучше-то ведь не станет. А если жизнь – это вообще всё… Вот вы-то сами как ее любите, земную жизнь? – вдруг спросил он в запале, словно земная жизнь была чем-то новым, возможно иностранным, или даже Мария сама и придумала ее, а теперь всучивает.
– Вы хотите знать, что я вкладываю в слова «любовь к жизни»?
– Хочу, аж разбирает.
На пригорке у метро «Кожуховская» послевоенные, рожденные в гордой бедности, сирые приветливые дома. Вот они появились. Вот они на пригорке, за поворотом, в окне трамвая. Вот они – те. И возношу я благодарение, словно вижу землю обетованную.
– Так нельзя, – сказал Виталик.
Да, нельзя, мысленно согласилась Мария. Все слова как будто легли и уснули.
– До ереси докатились. – Серьезный, но все еще мирный Виталик встал. – И впрямь пора с разговорами кончать. А то вводим друг друга в грех… На мне тоже вина.
– Разве любить можно только главное? – выкрикнула Мария, постукивая зубами – ее знобило.
– А на неглавное-то зачем размениваться?
– Но мы же уйдем! – Она пыталась подняться, и плакала, и даже тряслась. – Мы уйдем отсюда и не знаем когда, а там, может, все будет совсем по-другому! И разве нельзя этот мир любить хотя бы за то, что мы с ним расстанемся, за то, что в любую минуту мы можем расстаться, вы и я, и неизвестно…
Виталик обернулся, шагнул к ней и протянул ей руку. Мария схватилась за нее, не по-столярски гладкую с тыльной стороны, теплую и сухую, и ей показалось, будто ее поднимающееся тело ничего не весит, будто его и нет. Секунду-две две бойницы смотрели на Марию, затем Виталик во второй раз повернулся к ней спиной и двинулся прочь.
Мария выждала, давая ему уйти, и медленно направилась к опушке.
Виталик сидел на бревне, голова его свисала к груди, и кисти рук свисали меж широко разведенных коленей. И Мария впервые отметила, что, должно быть, неудобно при его росте сидеть так низко. Хотя он сам выбрал это бревно, а значит, ему ничто не мешает.
– Я вам неправду сказал: я же ведь знаю, как это… Я сам это чувствовал столько раз – чувствовал жизнь, и все ей хотелось отдать, только чтобы она меня не бросала… Это не любовь, потому что любовь-то в поступках, а тут я для нее ничего сделать не могу, только хочу ее, хочу, чтобы она длилась вот такая, как есть!…
– Она – это жизнь? – спросила Мария.
Ей было жаль его, и хотелось отыграть назад, чтобы не победить, а вновь быть побежденной. Ей было жаль его, как поваленное дерево.
– Теперь мне пора, – сказала Мария.
Верхушки сосен сталкивались и разлетались. Немая, неповоротливая, в тоске бушующая сила металась над этими местами.
– Тебе не жаль расставаться с этой работой? – спросил отец.
– С работой – нет, с Воскресенским… не знаю. Возможно, я буду скучать, иногда. Но мне грустно расставаться с Виталием. Нет, папа, я не влюбилась – я не доспорила. Знаешь, в спорах о том, чего Бог от нас хочет и чего мы хотим от Него, истина рождается, рождается и никак не может родиться. Поэтому их надо обрывать так: на середине, когда силы иссякли, а второе дыхание еще не открылось.
И Мария рассказала все по порядку, от встречи до последнего разговора, и, когда приближалась к внезапному перевороту, вдруг испугалась, не понимая, чего боится, словно кто-то встал у нее за спиной. Но оно не надвигалось сзади, а смотрело ей прямо в лицо, смотрело родными глазами отца.
– И ты человека, в шестнадцать лет потерявшего мать, учила горячо любить жизнь? – спросил отец с полуулыбкой.
– Извини, – сказала Мария. – Мне стыдно.
И оба замолчали.
– Ты не видела в жизни зла, Маруся, – сказал наконец отец, и Марии подумалось: он сокрушается о себе.
– Это плохо? – спросила она, как ребенок.
Отец пожал плечами.
«Я видела добро, глядя на отца, – подумала Мария, – я видела его от вас».
9
Начало ноября: зеленый газон под снегом, вместе они похожи на ягель.
На Яузском бульваре теперь гравиевая дорожка. Угловой дом на углу бульвара и улицы Воронцово поле. Если бы не было там магазина «Продукты», была бы мастерская по ремонту обуви. Стертые буквы. Направо – желтая крепость с истуканами строителей коммунизма. Дом Телешевых в коричневой, чайной, провинциальной глуби деревьев. Есть в бульварах что-то старо-богемное, провинциально-осеннее. Я пытаюсь вспомнить. Хожу по улицам-закутам Китай-города, по интеллигентной коричневой сухости ноября, и пытаюсь вспомнить. Есть несколько мест, где веет эта так недавно прошедшая, эта не моя жизнь с полутемными, северноренессансными, под Тарковского, подоконниками, дачными и загадочными. Какие-то художники жили здесь… Алкогольный хламный уют художнических квартир в старомосковской, старосоветской бульварной жизни. Застекленная мансарда пахнет гниющим деревом и лежалыми книгами. Лыжи. Абажур.
Яузский узкий бульвар круто спускается и быстро кончается. На нем никого. Я иду быстро под горку, пытаясь вобрать еще сколько-то не моей жизни и угадать, откуда она, такая трепещущая и не умеющая стареть. Там всегда есть какая-то романтическая девица, рука об руку с художником убежавшая в старомосковский северный ренессанс его нищей сказки. У них кипит чайник, шумит море и закатом горит абажур. Впереди у них вечная юность седой пышноволосой романтики.
На скамьях никого, и только на одной сидит он, поставив кузов у ног. Как могла я забыть о Яузском бульваре?
– Вот и ты, – шепчу я.
От меня уже ничего не зависит. Сейчас или никогда.
Я могу ничего не делать. Я могу только сесть на ту же скамью, потому что обстоятельства стеклись сюда, как воды бульвара, и судьба на маленьких волночках, как цветной ялик с парусом из календарной страницы. Из календарной страницы – а на ней банальные горы, родные, зеленые, пахнущие сыро, пахнущие домом, блестящие от времени, банальные горы.
Я села на край скамьи. Я вспоминала людей, живших тут и мне не знакомых, вспоминала мною непрожитое, и он кристаллом осел на стенках, от всех забытых, непрожитых, незнакомых. Человек с кузовом, я тебя надышала, я тебя нацедила, потому ты ждешь только меня. Я могу не спешить. Я могу вообще ничего не делать. Вот пришла я на закорючку бульвара, на свой причал. Вот пришла я причалить или оттолкнуться. Мы качаемся в этой ладье, как близнецы и влюбленные, как знак зодиака на нательной цепочке. Нас качает юное дыхание девочки. Нас качает, как китчевый календарь с кораблем на стене снесенного дома.
Человек с кузовом сидел так же, как в первый раз, когда я его увидела: опершись о палку, только кузов стоял у ног. Вблизи я стала рассматривать его шапку, угадывая материал, показавшийся мне вначале чуть ли не бархатом или плюшем, а может, засаленной и мерцающей тафтой, но чем дольше я смотрела, тем вернее шапка уподоблялась лыжному колпаку из синтетики. Под конец это был уже потерявший форму лыжный – ну, не лыжный, спортивный, в общем, – колпак, даже с крохотным лейблом.
– Который час, не подскажите? – спросил он, повернувшись ко мне.
– Десять минут второго.
Он не улыбнулся еще – не те были слова.
– Неужели вы куда-то спешите? – спросила я.
И тогда человек с кузовом поглядел на меня, и это было, как если бы голуби взлетели разом и медленно или птица села на воду. Как если бы что-то спорхнуло и дало отмашку – и что-то бы началось, последние листья спустились по лестницам из золотой канители.
Он улыбнулся вот этими словно надрезами на впалых щеках.
– Хорошо выглядишь, – сказал он. – Для кого нарядилась?
И легко-легко открыл кузов.
Стало понятно, почему тяжесть ноши его, такого худого, совсем не сгибает. Кузов был полон головками цветов и птичьими перьями. Цветы были разные, и перья от разных птиц. Настолько разные, что уже и неважно, чьи перья, что за цветы. Настолько разные, что все с бронзовым переливом. И было видно, что перья не выдернуты, головки цветов не срезаны, а все подобрано за ветром и силой гравитации.
Из кузова должно было бы вонять гнилью, но ничем не пахло.
– Как красиво, – сказала я.
– Не то слово, – отозвался человек с кузовом, и был прав. – До конца года осталось подсобрать еще маленько… До первого снега…
– Пока вода не замерзнет, – сказала я, и тут стая голубей поднялась над бульваром, хотя взяться ей было неоткуда, и видеть я ее не могла, поднялась над бульваром, как черемуховый Ан-2.
Человек с кузовом запустил руку в ворох, и под его рукой я стала узнавать розы, магнолию, астру, подсолнух, мак, сойку (с бирюзой), ястреба (шахматное), кукушки (гречневое), черного дрозда и фламинго.
– А перо пеликана у вас есть? – спросила я.
– Перо пеликана? – Теперь у него появились густые брови, ясные, яркие усмешливые глаза. – Нет, но позарез нужно. Спасибо, напомнила. Пеликан, баба-птица – только где ж я его найду?
– Я видела на Крутицкой набережной.
Он азартно напрягся, и его азарт передался мне дрожью.
– Давно?
– Ровно месяц назад.
– Слушай, – сказал он, помолчав, – я буду перед тобой в неоплатном долгу, если ты принесешь мне его перо. А? Возьмешься?
Он смотрел на меня, прося, смотрел, напрягшись худым лицом. Приглашая. Играя.
– Возьмешься – авансом сказка. Твоя. Ну как? Хотя он не сопроводил слова ни одним движением, я догадалась, что речь идет о богатстве кузова. На «сказке» сквозь меня будто продернули нить, мне на плечи словно стряхнули снег, глаза точно завязали огнем.
– Берусь.
– Выбирай цветок. – Он пододвинул кузов ко мне. – Только не долго.
Я взяла розу цветом, как японский ребенок.
– Правильно. Солнечный зайчик на липовой доске, – сказал человек с кузовом, чтобы поддержать меня.
– А что у меня за сказка?
– С принцем, – сказал он пренебрежительно, пожевав губами. – У всех у вас сказка с принцем. Ну что ты заскучала? Не все так примитивно. Для кого-то и я принц!
Встал, прямой, подхватил невесомый кузов и вскинул на закорки.
– Еще какой! – смеюсь. – Я бы за вас пошла.
– А ты выходи, – сказал он. – Я ведь знаешь, как богат.
– Разве это главное…
– Это. Только это. Ладно, иди теперь.
И зашагал: ивовый кубик, черная шайба шапки, длинные в черных джинсах резиновыми шнурами ноги. А я теперь знала, что всего-то надо быть готовой к встрече.
Дома я налила воды в стакан и пустила розу. Роза уселась в воду, как в землю, сухоньким кочаном, тугим поплавком, трепаным шелковым мячиком. А он не сказал, что загадывать и о чем думать, глядя так вот, как на свечу. И я думала все о тех же, незнакомых, которых и в памяти нет, только рядом с памятью, когда рука шарит, не попадая. Все те, кого не было для меня, они все сейчас в нем, в человеке с кузовом, все их лица и россыпь одежд. Принцы. Да нет, не принцы. Радужная россыпь, и майский ливень, и зарево, и розовые морозы, и высокие, суровые вечерние облака из труб теплоцентрали. Все, что творится в небе, там мы с тобой. Летим в океане городского неба, городской жестокой романтики.
Стакан с розой стоит на окне.
Я засыпаю и начинаю жить. Я вижу художников в пестрой парусной рвани, я вижу циркачей-моряков, единорогов и бездомных собак, египтян и архангелов. Вижу песню сирены и горное солнце, портовый бар в пустыне и венское кафе в тропиках. Вижу зябликов и снегирей, поднимающих на крыло каравеллу. Вижу смуглую кровь, женский голос дождя, змею, Кадиллак, ягненка, хижину на золотых сваях и пещерных стрекоз. Пиратское безумие трамвая и листовое железо весны. Перстень с печатью и мальчика, вынимающего из груди «Боинг». Магические кристаллы и голые деревья на Шаболовке.
Как поздно, как боязно. Начать бы мне раньше. Всего-то месяц до снега.
10
Любое место – не то.
Зацепская площадь. Почему переключения с центра на окраину, где словно зияет, словно подули и развеяли сущность города, не ампирного, не шмелевского, не монастырского, не пресненского, не сталинского, не окуджавского, где вот угол кирпичного дома, вот трамвайные пути, вот ларек, почему эти переключения, освещенные всегда нищим, серебристым, как фантик, солнцем, так обещают? Почему они обещают любовь?
Места как воск. Сюда однажды легло и запомнилось что-то, что сама я давно забыла. Тут забыла? Попадаю сюда, и словно, как ни вертись, оно все время у меня за спиной, то, ради чего я тут. Отпечаталось, а я не узнаю следа.
Воскресное утро. До чего нет людей. Все будто вымерло, но в этом безлюдье как живут улицы и дворы, как трепетно и уютно, и приветливо живет день без людей.
Если погасить речь внутри и только смотреть, перестаешь понимать. То, на что смотришь, таинственнее и проще. Белое поле пруда с людьми. Через поле, мимо людей едет снегоуборочный трактор.
Человек спит на корточках.
Декабрь. Машины выезжают из золотистой, прохладной кварцевой глубины.
Симонов монастырьОт метро «Автозаводская» иду по противоположной стороне улицы.
И узнаю его из своего чуть ли не первого в жизни сна: стена – коричневый кирпич, кто-то толкает детскую коляску. Вот и женщины с колясками и детьми, под стенами, вдоль деревьев. Снег. Коричневая кладка. Коляски едут на снегу неподвижно, потому что и звуков нет. Только стены и снег. Коричневое и белое, и, как будто какие-то нищие, рыбаки ликуют по-своему, сурово, надвинув брови. И пряник, и рубище. Да нет, ничего этого, все это потом, когда придет, что сказать. Диковатый, щербатый городок за стенами, вырезная, с барочными валютами кроватная спинка – фронтон, а вокруг не разобрать: руина средневекового вокзала. Скворечнями леса. Башня «Дуло». Дух захватывает от скромности. Черствый, сладкий ломоть песни.
Аллея вдоль стены, стена вдоль аллеи. И внутри коричневый, рыжевато-бурый. Под снегом – задворки и царство. Нет слов у этого места. Нет слов для него. Только мой старый сон, тоже старый и выветренный. Немое место. Не потому немое, что общине глухонемых отдан Тихвинский храм, не та немота, когда звуков нет, но есть что сказать, а когда нет слов. Когда одни мои глаза говорят, но я их не понимаю. Немота говорит моим глазам, и глаза отвечают, а я лишняя, мимо. Глухонемым есть что сказать, а мне нечего.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.