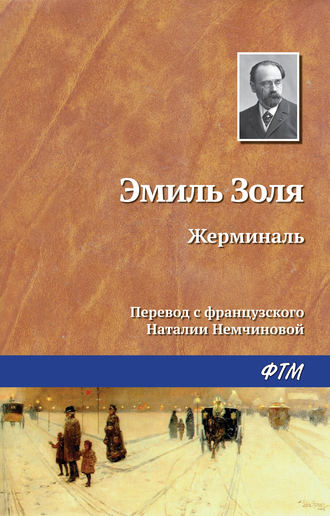
Полная версия
Жерминаль
А когда добирались до бремсберга, начинались новые мученья. Катрин научила Этьена спускать вагонетку, прицепив ее к тросу. В верхнем и в нижнем конце бремсберга, который имелся в каждом горизонте и служил для откатки угля из всех забоев, находились двое рабочих: вверху – тормозной, внизу – приемщик. Эти двенадцати-пятнадцатилетние озорники для развлечения перекликались, угощая друг друга ужасающей бранью; откатчицам приходилось выкрикивать еще более крепкие ругательства, чтобы предупредить их о своем прибытии. Приемщик подавал сигнал, откатчица прицепляла свою нагруженную вагонетку, та своей тяжестью натягивала трос и съезжала вниз, а наверх по скату поднималась пустая вагонетка, как только тормозной отпускал тормоз. Внизу, в главном откаточном штреке, из вагонеток составлялся поезд, который лошадь тянула до рудничного двора.
– Эй вы, черти сонные! – крикнула Катрин, очутившись в бремсберге, длиною в сто метров и целиком обшитом досками, – в этом узком коридоре голос звучал, как в гигантском рупоре.
Ответа не было – мальчишки, должно быть, заснули. Во всех лавах движение вагонеток остановилось. Послышался тоненький голосок какой-то девочки:
– Наверняка один уже с Мукеттой валяется!
Раздался громовый хохот; откатчицы со всего горизонта хохотали, хватаясь за бока.
– Кто это? – спросил Этьен.
Оказалось, что голосок принадлежал Лидии, бесстыжей худенькой девчонке, катившей вагонетки своими кукольными лапками не хуже взрослой женщины. Что касается Мукетты, она была способна дурить с обоими мальчишками разом.
Вдруг снизу раздался голос приемщика: «Прицепляй!» Вероятно, там проходил штейгер. Во всех девяти промежуточных штреках возобновилась откатка; слышались только равномерные окрики приемщиков и тяжелое дыхание откатчиц, от которых на подъеме к бремсбергу шел пар, как от лошади, когда она тянет тяжелый воз. В шахте пронеслось веяние животной чувственности, грубого желания, охватывавшего углекопов, когда они встречали одну из откатчиц, толкавших вагонетки чуть ли не на четвереньках, в непристойной позе, ибо мужской костюм, обтягивавший их бедра, чуть не лопался по швам.
И после каждой откатки Этьен возвращался к забою, где в жаре и духоте раздавался неровный стук обушков и тяжелое уханье забойщиков, не прекращавших работу. Уже все четверо скинули рубашки и словно сливались с угольным пластом, до макушки перемазавшись мокрой черной грязью. Один раз пришлось откапывать Маэ, задохнувшегося под грудой вырубленного угля; для этого выдернули доски, чтобы уголь скатился в штрек. Захарий и Левак злились, что уголь «невмоготу крепок», как они говорили, и из-за этого «как есть ничего не заработаешь». Шаваль, перевернувшись на спину, принялся издеваться над Этьеном, присутствие которого явно раздражало его.
– Эх ты, червяк! Силы меньше, чем у девчонки! Вагонетку нагрузить и то не умеет! Что, мозоли на руках боишься набить? Вот погоди, сукин сын, вычту у тебя десять су, если по твоей милости у нас хоть одну вагонетку забракуют.
Этьен не решался отвечать: он был до того рад даже этой каторжной работе, что смиренно принимал грубую иерархию, установленную между чернорабочим и мастером. Но он совсем выбился из сил: ноги у него были стерты в кровь, руки сводила судорога, грудь будто сжимали тиски. К счастью, уже было десять часов, артель решилась сделать передышку и позавтракать.
У Маэ были часы, но смотреть на них ему и не требовалось. В этой подземной беззвездной ночи он узнавал время, не ошибаясь даже на пять минут. Все надели рубашки и куртки. Потом спустились из забоя и присели на корточки, прижав локти к бедрам, – эта поза так привычна для шахтеров, что зачастую они принимают ее и вне шахты и преспокойно сидят, не нуждаясь ни в камне, ни в бревне. Каждый вытащил свой «брусок», и все сосредоточенно принялись откусывать от толстого ломтя, изредка перекидываясь замечаниями по поводу проделанной за утро работы. Катрин постояла среди них и направилась к Этьену, – он полулежал на земле, вытянув ноги поперек рельсов и прислонившись спиною к деревянной стойке. В том месте было почти сухо.
– Ты что же не ешь? – спросила Катрин, откусив от своей горбушки.
И тут она вспомнила, что парень целую ночь брел по дорогам без гроша в кармане и, может быть, без куска хлеба.
– Хочешь, поделюсь с тобой?
Этьен отказывался, уверяя, что ему совсем не хочется есть, хотя от голода у него сосало под ложечкой и дрожал голос. И тогда Катрин весело сказала:
– A-а, брезгуешь?.. Погоди, я откусила с этого конца, а тебе отломлю с другого.
Она разломила горбушку пополам. Этьен принял свою долю и едва удержался, чтобы не съесть ее всю сразу.
Опасаясь, как бы девушка не увидела, что у него трясутся руки, он положил их на бедра. Спокойно, как добрый товарищ, Катрин легла возле него ничком и, подперев одной рукой голову, в другой держала хлеб, от которого не спеша откусывала понемногу. На земле между ними стояли лампочки, бросавшие на них свет.
Катрин с минуту молча смотрела на Этьена. Должно быть, ей нравились его тонкие черты и черные усики. Она по-детски усмехнулась от удовольствия.
– Так ты, значит, механик, и тебя с дороги прогнали? За что?
– За то, что дал начальнику оплеуху.
Она была ошеломлена, потрясена непостижимой для нее дерзостью такого поступка, – это противоречило унаследованным ею взглядам о необходимости беспрекословного подчинения начальству.
– Надо тебе сказать, я тогда выпил. А я, как выпью, будто сумасшедший делаюсь: и себя и других могу искалечить. Да… Стоит мне выпить две рюмки, две маленьких рюмочки, меня так и подмывает лезть в драку… Так бы и пристукнул кого-нибудь. А после выпивки я два дня больной.
– Так ты не пей, – серьезно сказала Катрин.
– Ну, понятно… Не бойся, я свой характер знаю.
И Этьен замотал головой. Он ненавидел водку, как только может ее ненавидеть потомок многих поколений пьяниц, человек, у которого наследственность, полученная от предков, пропитанных и сведенных с ума алкоголем, явилась для организма таким тлетворным началом, что малейшая капля спиртного становится для него ядом.
– Главное, вот из-за матери досадно, что выставили меня, – сказал он, прожевав кусок. – Матери плохо живется, ну я ей кой-когда и посылал деньжат.
– А где твоя мать живет?
– В Париже, на улице Гут-д’Ор. Прачкой работает.
Наступило молчание. Когда Этьен думал обо всем этом, его черные глаза сразу тускнели, красивого и здорового юношу охватывали растерянность и страх перед неведомым злом, которое он носил в себе. Секунду он сидел, устремив взгляд в темноту, и здесь, в недрах земли, в гнетущей духоте, ему вспомнилось детство, вспомнилось, как его мать, такую еще миловидную и энергичную женщину, бросил его отец, как потом вернулся к ней, когда она уже вышла за другого; и она жила меж двух этих мужчин, которые терзали ее, и вместе с ними скатилась в грязь, в помойную яму пьянства и разврата. Сколько пришлось ему тогда пережить! Крепко запомнилась ему эта улица и некоторые подробности: груды грязного белья в прачечной, попойки, отравлявшие весь дом зловонием винного перегара, скандалы, драки и пощечины, которыми чуть не сворачивали человеку скулы.
– Ну, а теперь, – произнес он жалобно, – по тридцать су в день заработаю, не из чего будет посылать матери. Умрет она в нищете. Наверняка умрет!..
С выражением безнадежности передернув плечами, он откусил хлеба и молча стал жевать.
– Хочешь пить? – спросила Катрин, вытаскивая из фляги пробку. – Не бойся, от кофе вреда не будет… А всухомятку есть – подавишься…
Этьен отказался, – довольно и того, что он съел половину ее завтрака. Это ведь прямо бессовестно. Но Катрин настаивала, уговаривала от всего сердца и в конце концов сказала:
– Ну ладно, я попью первая, раз ты такой вежливый… И теперь ты не можешь отказаться. А не то я обижусь.
Приподнявшись на колени, она протянула ему флягу. Этьен увидел девушку совсем близко от себя при свете двух шахтерских ламп. Почему она сперва показалась ему некрасивой? Теперь, перемазанная, запачканная угольной пылью, она приобрела какую-то странную прелесть. На юном лице, возникшем из темноты, смеялся большой рот, сверкали белые зубы, большие зеленоватые глаза блестели, как у кошки. Пряди рыжеватых волос, выбившиеся из-под колпака, щекотали девичье ухо, и это ее смешило. Она больше не казалась девочкой. «Лет четырнадцать ей как-никак есть», – подумал он.
– Ну, чтобы доставить тебе удовольствие, давай сюда, – согласился Этьен и, отпив из горлышка, вернул ей флягу.
Она сделала второй глоток, заставила и его отпить еще раз, чтобы поделить поровну, как она говорила, и их забавляло, что узкое горлышко фляги переходит то в ее, то в его рот. Он уже подумывал, не схватить ли девушку в объятия да не поцеловать ли в губы? Его все больше искушали эти полные бледно-розовые губы, оттененные углем. Но он не решался, робея перед нею, ведь в Лилле он знал только продажных женщин самого низкого пошиба, а вот как подступиться к работнице, да еще живущей в своей семье?
– Тебе сколько лет? Четырнадцать есть? – спросил он.
Катрин удивилась и чуть не вспылила:
– То есть как четырнадцать? Мне уж пятнадцать!.. Правда, я худышка. У нас девушки не быстро растут.
Этьен продолжал свои расспросы. Она отвечала без всякого цинизма и без стыдливого смущения. Но хоть в отношениях между мужчиной и женщиной для нее, по-видимому, не было тайн, он чувствовал, что она невинна и что ее физическое развитие задерживается из-за того, что она вечно дышит спертым воздухом и надрывается на тяжелой работе. Когда он вспомнил историю с Мукеттой, желая смутить Катрин, девушка спокойно и весело принялась рассказывать ему анекдоты о непристойнейших проделках откатчицы. Да, Мукетта откалывает штучки, только держись! Этьен попытался узнать, есть ли возлюбленный у самой Катрин, – она шутливо ответила, что пока не хочет огорчать мать, но ведь это неизбежно и рано или поздно непременно случится. Она ежилась и слегка дрожала от холода в мокрой от пота одежде; когда она говорила об этой неизбежности, у нее было смиренное и кроткое выражение лица, словно она приготовилась терпеть и тяжкий труд, и подчинение мужчине.
– Возлюбленных сколько хочешь найдется, когда все вместе живут, верно?
– Понятно.
– И ведь никому от этого худа не бывает… Священнику на духу тоже можно не каяться.
– Священнику каяться? Подумаешь… очень нужно. А только вот Черного Человека надо остерегаться.
– Что это за Черный Человек?
– Старик углекоп. Бродит по шахте, и которая девушка согрешит, он ей шею свернет.
Этьен в недоумении смотрел на нее, думая, что она смеется над ним.
– Да неужели ты веришь такой чепухе? Ты, должно быть, не училась?
– Нет, как же… училась. Я грамотная. И читать и писать умею… От этого нам польза… А вот отца и мать в детстве ничему не учили, да и других тоже.
Просто прелесть какая девчонка! Вот он доест хлеб и тогда обязательно обнимет ее и поцелует в губы, в ее пухлые розовые губы. Приняв такое решение, робкий парень почувствовал себя чуть ли не насильником, от волнения у него перехватило горло. Мужская одежда, облегавшая девичью фигуру, возбуждала и смущала его. Вот он прожевал последний кусок, отпил глоток кофе и передал флягу Катрин – ее очередь допить все до дна. Ну, пора действовать. Этьен настороженно посмотрел на забойщиков – не увидят ли они, как вдруг чья-то тень выросла у входа в штрек.
Шаваль уже несколько секунд молча смотрел на них издали. Затем подошел, удостоверился, что Маэ не может его видеть, наклонился над Катрин, сидевшей на земле, схватил ее за плечи, запрокинул ей голову и со спокойной наглостью впился поцелуем в ее губы, делая вид, что не обращает на Этьена никакого внимания. В этом поцелуе было утверждение своего права и ревнивая решимость.
Однако девушка возмутилась.
– Оставь меня, слышишь!
Шаваль поднял ей голову, заглянул в глаза. Рыжие усы и бородка казались огненными на его черном от угля горбоносом лице. Наконец он выпустил ее и пошел прочь.
Этьена кинуло в дрожь. До чего было глупо ждать! Теперь поцеловать ее невозможно, – она, пожалуй, подумает, что ему просто не хочется отставать от этого парня. Самолюбие его было уязвлено, он пришел в искреннее отчаяние.
– Ты зачем солгала? – спросил он вполголоса. – Ведь он твой любовник?
– Да нет же! Клянусь тебе! – крикнула она. – Ничего такого нет между нами. Иной раз просто подурим, только и всего… Да он и не здешний. Полгода поди, не больше, как приехал из Па-де-Кале.
Оба поднялись, пора было приниматься за работу. Внезапная холодность Этьена явно огорчила Катрин. Вероятно, она считала, что он красивее Шаваля и, может быть, предпочла бы его долговязому забойщику. Ей очень хотелось утешить, обласкать его. Она увидела, с каким удивлением Этьен смотрит на свою лампу, заметив, что пламя стало голубым и окружено бледной каймой, и попробовала развлечь его.
– Пойдем, я что-то покажу тебе, – сказала она с приветливым, товарищеским видом.
Она привела его в глубину лавы и показала трещину в угольном пласте. Оттуда вырывалось легкое бульканье и посвистывание, похожее на щебетание птицы.
– Приложи руку… Чувствуешь ветерок?.. Это гремучий газ выходит.
Он застыл от изумления. Так это вот и есть тот самый ужасный газ, от которого может все взорваться? Катрин, смеясь, сказала, что нынче много газа вышло, раз пламя в лампах стало голубым.
– Скоро вы кончите болтать, лодыри? – раздался сердитый окрик Маэ.
Катрин и Этьен принялись торопливо нагружать вагонетку, потом стали толкать ее к бремсбергу, напрягая спину, чуть ли не ползком пробираясь под бугристой кровлей штрека. Уже со второго перегона они обливались потом, и снова у них хрустели суставы.
Возобновили свою работу и забойщики. Они нередко сокращали время завтрака, чтобы не охлаждаться; и толстые ломти хлеба, с жадностью поглощенные в недрах земли, вдали от света, теперь камнем лежали в желудках. Вытянувшись на боку, люди изо всех сил били обушком, одержимые одной-единственной мыслью – выдать на-гора как можно больше угля. Ожесточенная, тяжкая борьба за скудный заработок все заслоняла. Они не чувствовали, что кругом струится вода, что от сырости у них пухнут ноги, что все тело сводит судорога – в таком неудобном положении приходится работать; не замечали духоты и мрака, из-за которых они чахли, словно растения, вынесенные в подвал. Проходил один час за другим, и чем дальше, тем более спертым становился воздух, – от жара, от копоти шахтерских ламп, от дыхания людей, от удушливой пелены рудничного газа, словно паутиной заволакивающего глаза; только ночью вентиляция проветривала подземные ходы, а теперь, в глубине кротовых нор, прорытых в толще каменных недр, задыхаясь, все в поту, стекавшем по разгоряченной груди, углекопы били и били обушками.
V
Наконец Маэ, не посмотрев на часы, оставленные в кармане куртки, остановился и сказал:
– Скоро час… Захарий, готово у тебя?
Захарий ставил подпорки. Но, занявшись этим делом, вдруг все бросил и застыл, лежа на спине и уставясь глазами в одну точку: он замечтался, вспоминая, как играл вчера в кегли и сколько раз выиграл. Очнувшись, он ответил отцу:
– Кончил. Нынче сойдет! А завтра посмотрим. – И, вернувшись, занял в забое свое место. Левак и Шаваль тоже отложили обушки. Надо было передохнуть. Каждый отер мокрое лицо голой рукой, поглядывая на каменную кровлю, в которой расслаивались пласты сланца. Говорили они только о своей работе.
– Вот уж не везет так не везет! – заметил Шаваль. – Наткнулись на неустойчивую породу! А ведь при расчете про это и не подумают.
– Мошенники! – ворчал Левак. – Только и ждут, как бы нас надуть.
Захарий засмеялся: наплевать ему на работу и на все прочее, но приятно слышать, как ругают Компанию. Миролюбивый Маэ стал объяснять, что порода в шахте меняется через каждые двадцать метров. Надо судить по справедливости, разве можно все предусмотреть? Видя, что Левак и Шаваль не утихомирились и громко возмущаются начальством, он встревожился и сказал, беспокойно озираясь:
– Молчите! Будет вам!
– Правильно! – добавил Левак, тоже понижая голос. – А то влипнем.
Даже здесь, на этой глубине, всех преследовала мысль о доносчиках, словно у пластов угля, составлявших собственность Акционерной компании, были уши.
– Все равно, – вызывающе сказал Шаваль. – Пусть только этот боров Дансар посмеет еще разговаривать со мной, как в прошлый раз, я ему покажу… Будет помнить… Я тебе, мол, не мешаю блудить с толстомясыми беленькими бабенками, так и не ругайся…
Захарий прыснул от смеха. Роман старшего штейгера с женой Пьерона постоянно был предметом шуток всей шахты. Внизу, у забоя, засмеялась и Катрин, опираясь на рукоятку лопаты, и коротко объяснила Этьену, о чем идет речь. Маэ рассердился и уже не скрывал своего страха перед начальством.
– Ну ты, помолчи-ка лучше!.. Хочешь беду накликать, так по крайности подожди, когда один останешься.
Не успел он договорить, как в верхнем штреке послышались чьи-то шаги. И почти тотчас же появился в сопровождении старшего штейгера Дансара инженер шахты, прозванный рабочими коротыш Негрель.
– Говорил я тебе! – пробормотал Маэ. – Всегда они тут как тут, прямо из-под земли выскакивают.
Первым показался Поль Негрель, племянник директора, молодой человек двадцати шести лет, стройный, кудрявый брюнет с черными усиками. Острый нос и быстрые глаза придавали ему сходство с любопытным ручным хорьком; умный взгляд его искрился насмешкой, но сразу становился пронзительным и властным, когда Негрель разговаривал с рабочими. Одевался молодой инженер для работы так же, как они, и так же был перепачкан углем и, чтобы внушить им уважение, выказывал отчаянную храбрость, забирался в самые опасные закоулки, всегда был первым на месте обвала или при взрыве гремучего газа.
– Ну как, Дансар, пришли? – спросил он.
Старший штейгер, широколицый бельгиец с крупным мясистым носом сластолюбца, ответил с преувеличенной почтительностью:
– Пришли, господин Негрель… А вот тот человек, которого наняли утром.
Начальники прошли в забой и велели Этьену подойти. Инженер поднял лампу и пристально всматривался в него, не задавая никаких вопросов.
– Ну хорошо, – сказал он наконец. – Но помните, я не люблю, когда берут всяких прохожих. Чтоб этого больше не было!
Объяснений он не стал слушать. Дансар принялся докладывать: необходимо было нанять человека, и ведь высказано пожелание заменять, по возможности, женщин-откатчиц мужчинами. Не обращая на него внимания, Негрель осматривал кровлю, а забойщики тем временем принялись рубить уголь. Вдруг инженер воскликнул:
– Послушайте, Маэ, вы что, плюете на наши приказы? Ведь вас тут всех прихлопнет, черт бы вас драл!
– Да нет, крепко держится, – спокойно ответил углекоп.
– То есть как это «крепко»? Кровля оседает, а у вас тут стоек кот наплакал – одна от другой в двух метрах! Вы бы хоть ненадолго перестали рубить уголь да занялись вовремя креплением, но вы предпочитаете, чтоб вам башку размозжило. Извольте немедленно поставить стойки. Старые укрепить и новых добавить. Слышите?
Углекопы, недовольные распоряжением, вступили в спор, доказывая, что им лучше знать, соблюдены ли правила безопасности, и тогда Негрель вспылил:
– Ах, вот как? А когда вас задавит, кто будет отвечать? Вы? Нет, Компании придется платить пенсии вам или вашим вдовам… Повторяю, ваши повадки мне известны: ради двух лишних вагонеток угля вы готовы сдохнуть.
Не давая воли накопившемуся в душе негодованию, Маэ сказал степенно:
– Платили бы нам как следует, мы бы и крепление ставили лучше.
Инженер, не отвечая, пожал плечами. Спустившись в штрек, он крикнул снизу:
– Вам остается еще час работать. Принимайтесь все за крепление. И предупреждаю: артель будет оштрафована на три франка.
Слова эти были встречены глухим ропотом. Углекопов сдерживала только сила дисциплины, той военной дисциплины, которая подчиняла младших по чину старшим – от коногона до главного штейгера. Однако Шаваль и Левак злобно взмахивали кулаком, хотя Маэ и старался их утихомирить взглядом. Захарий насмешливо пожимал плечами. Но, пожалуй, больше всех взволновался Этьен. С тех пор как он очутился на дне этого ада, в нем нарастало глухое возмущение. Он смотрел на Катрин, она стояла, смиренно опустив голову. Ах, как же это возможно! Люди надрываются на такой тяжелой работе в этом могильном мраке и не могут заработать даже на хлеб насущный! Тем временем Негрель отходил все дальше в сопровождении Дансара, который почтительно выслушивал суждения начальника и только молча кивал головой. Вскоре снова громко раздались их голоса: оба остановились в штреке, осматривая крепление, которое артель обязана была поддерживать на протяжении десяти метров от своего забоя.
– Говорю вам, что они плюют на наши распоряжения! – кричал инженер. – А вы, черт бы вас взял, за ними не следите. Почему?
– Да как же не слежу? Все время вдалбливаешь им правила, просто охрипнешь.
Негрель позвал сердито:
– Маэ! Маэ!
Все спустились к штреку. Негрель продолжал:
– Поглядите-ка! Разве тут что-нибудь держится? Насовали как попало! Все наспех, наспех! Вон у этого верхняка нет упора: стойки отошли… Да, теперь я понимаю, почему ремонт крепления обходится так дорого. Вам что? Вам только бы продержалось, пока вы за это отвечаете… А потом – все в щепки, и Компания вынуждена держать целую армию ремонтных рабочих… Посмотрите-ка сюда, посмотрите… Ведь это сущее издевательство!
Шаваль хотел что-то сказать, но инженер оборвал его:
– Молчите, я знаю, что вы опять скажете. Пусть, мол, вам больше платят, не правда ли? Ну так запомните хорошенько мои слова. Предупреждаю, дирекция вынуждена будет платить вам за крепление отдельно, но соответствующим образом вам уменьшат плату за вагонетку угля. Да, да. Посмотрим, что вы этим выиграете. А сейчас переделайте тут все крепление. Завтра приду проверю.
И, повернувшись спиной к углекопам, потрясенным этой угрозой, Негрель отправился дальше. Дансар, такой смирный в его присутствии, отстал от него на минутку и грубо крикнул рабочим:
– Значит, так? Из-за вас мне нагоняи получать? Я вам закачу не три франка штрафа, а кое-что похуже. Берегитесь!
А когда он ушел, Маэ, в свою очередь, разразился гневом:
– Ах, будь ты проклят! Что несправедливо, то уж несправедливо. Я люблю, чтобы все по-хорошему, спокойно, потому как иначе нельзя столковаться. Но в конце концов тут поневоле зло возьмет. Вы слышали? Снизим, мол, расценок за вагонетку, и тогда за крепление получайте отдельно!.. Словом сказать, еще придумали способ, как платить нам поменьше. Вот дьяволы, вот дьяволы!
Ему хотелось на ком-нибудь сорвать гнев, и вдруг он заметил, что Катрин и Этьен стоят сложа руки.
– Ну, тащите скорей стойки! Что вы тут торчите, уши развесили? Вот как дам хорошего пинка!
Этьен отправился за стойками, нисколько не обижаясь на эту грубость. Он и сам был возмущен начальниками и находил, что углекопы слишком благодушны.
Впрочем, Левак и Шаваль облегчили душу ругательствами. Все, даже Захарий, яростно принялись крепить, полчаса слышен был только стук кувалды о деревянные столбы. Никто не произносил ни слова; тяжело дыша, все неистово сражались с оседающей породой, – они перевернули бы ее и подняли, навалившись плечом, если бы достало силы.
– Ну хватит! – сказал наконец Маэ, подавленный гневом и усталостью. – Половина второго… Эх! Ну и день выдался! И по пятьдесят су не заработали. Я ухожу, очень уж противно.
И, хотя оставалось еще полчаса до конца смены, он оделся. Остальные последовали его примеру. При одном взгляде на забой все приходили в ярость. Увидев, что Катрин опять принялась за работу, они позвали ее и сердито стали упрекать за неуместное усердие. Пусть себе уголь лежит или пусть сам отсюда выбирается, если у него ноги есть. И все шестеро, держа инструмент под мышкой, пошли обратно, к рудничному двору, до которого им предстояло пройти два километра той же дорогой, что и утром.
Когда забойщики спускались по людскому ходку, Катрин с Этьеном задержались, встретив Лидию, катившую вагонетку; девочка остановилась, пропуская их, и рассказала, что куда-то исчезла Мукетта: у нее пошла носом кровь, просто ручьем полилась, и Мукетта куда-то убежала – делать себе примочки из холодной воды, и где она теперь – неизвестно. Выслушав рассказ, они двинулись дальше, а Лидия опять покатила вагонетку; измученная, перемазанная углем девочка напрягала худенькие руки и ноги и похожа была на тощего черного муравья, который упорно сражается с непосильной для него ношей. В некоторых ходах Этьен и Катрин съезжали по спуску прямо на спине и втягивали голову в плечи, боясь ободрать себе лоб; по гладкому скату, отполированному спинами всех рабочих этого крыла шахты, скользили так быстро, что время от времени тормозили, хватаясь за деревянные стойки, и говорили, шутя: «А то, глядишь, салазки загорятся».











