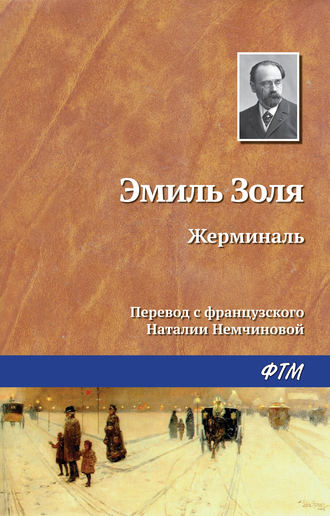
Полная версия
Жерминаль

Эмиль Золя
Жерминаль
© Перевод. Н. Немчинова, наследники, 2019
© Агентство ФТМ, Лтд., 2019
* * *Часть первая
I
В непроглядной тьме беззвездной ночи по большаку, проложенному из Маршьена в Монсу и на протяжении десяти километров рассекавшему свекловичные поля, шел одинокий путник. Впереди ничего не было видно, даже земли, но он чувствовал, что вокруг плоская равнина, – холодный мартовский ветер гулял тут на приволье, налетая порывами, словно шквал в морских просторах, проносясь над болотами и голой низиной. Ни единого деревца не вырисовывалось в небе; в сыром и холодном мраке дорога пролегала ровная, прямая, как стрела.
Путник отправился из Маршьена в третьем часу, шел широким шагом, дрожа от стужи в вытертой своей ватной куртке и плисовых штанах. Ему очень мешал узелок с пожитками, завязанными в клетчатый платок, и он все прижимал локтем этот узелок то к левому, то к правому боку, пытаясь поглубже засунуть в карманы озябшие красные руки, до крови потрескавшиеся на ветру. У этого человека не было ни работы, ни пристанища, и сейчас в усталой голове почти не было мыслей – только надежда на то, что с восходом солнца чуть потеплеет. Он шел уже час, – до Монсу оставалось километра два, – и вдруг, слева от дороги, увидел три красных огня, горевших под открытым небом, словно три костра, но как будто повисших в воздухе. Путник заколебался, стало страшно идти туда, но он не мог воспротивиться мучительному желанию хоть минутку погреться у огня.
Дорога теперь тянулась в глубокой выемке, огни исчезли. Справа поднимался забор из нетесаных досок, огораживавший полотно железной дороги, а слева над откосом, поросшим травой, смутно виднелись коньки низких кровель и едва угадывались однообразные очертания деревенских домишек. Путник прошел шагов двести. На повороте дороги снова появились огни, но он все не мог понять, почему они горят так высоко в беззвездном небе, будто три чадных луны. А внизу открывалось другое зрелище, заставившее его остановиться. Там чернело громоздкое скопище приземистых строений, над ними вздымалась высокая фабричная труба; кое-где в немытых окнах тускло светились огоньки; снаружи подвешены были к черным балкам пять-шесть тусклых фонарей, обрисовывавших какую-то вышку, похожую на исполинские козлы; и из этих фантастических сооружений, затянутых мраком и дымом, доносился лишь один звук: с протяжным, громким шумом откуда-то вырывался невидимый в темноте пар.
Тогда путник понял, что перед ним угольные копи. И ему стало досадно. Зачем он сюда пришел? Работы ведь не дадут. И он не направился к строениям, а решился наконец взобраться на террикон, где в трех чугунных сквозных жаровнях горел каменный уголь, освещая место работы и согревая людей. Должно быть, ремонтные работы в шахте вели до глубокой ночи: на-гора все еще подавали пустую породу. Теперь путник слышал, как грохотали по мосткам колеса, различал фигуры рабочих, опрокидывавших вагонетки у каждой жаровни.
– Здоро́во! – сказал он, подходя к одной из жаровен.
Спиной к огню стоял возчик, старик в лиловой шерстяной фуфайке, в картузе из кроличьего меха. Большая буланая лошадь остановилась как вкопанная и ждала, когда опорожнят шесть вагонеток, которые она привезла. Рабочий, приставленный к разгрузочному механизму, рыжий тощий малый, не торопясь, с сонным видом нажимал рычаг. А на гребне террикона все сильнее задувал холодный северный ветер, резавший лицо, едва не сбивавший с ног.
– Здоро́во! – ответил старик.
Наступило молчание.
Чувствуя, что на него смотрят с подозрением, прохожий тотчас назвал себя:
– Меня зовут Этьен Лантье, я механик… Не найдется ли здесь работы?
Пламя ярко освещало его. На вид ему было не больше двадцати одного года; очень смуглый, красивый парень, худощавый, но, должно быть, сильный.
Успокоившись, возчик покачал головой.
– Работы для механика здесь не найдется. Нет… Вчера опять двое приходили. Нет ничего.
Порыв ветра прервал его речь. Когда утихло, Этьен спросил, указывая на темное скопище построек у подножия террикона:
– Это шахта, да?
Старик не мог ответить: он зашелся кашлем. Наконец сплюнул, и на земле, багровой в отсветах огня, осталось черное пятно.
– Правильно – Ворейская шахта. А вон там рабочий поселок, совсем близко, можно сказать, рядом.
И, в свою очередь, протянул руку, указывая на селение, крыши которого Этьен Лантье еще дорогой смутно различил в темноте. Тем временем все шесть вагонеток были опорожнены, и старик, даже не щелкнув кнутом, отправился обратно, вслед за своим поездом, с трудом переступая негнущимися от ревматизма ногами; буланая лошадь трусила между рельсами, налегая на постромки, и ветер ерошил на ней шерсть.
Шахта постепенно выплывала из темноты. Забывшись у костра, Этьен грел иззябшие руки, все в кровоточащих трещинках, и рассматривал надшахтные постройки: большой крытый толем сарай сортировочной, копер над стволом шахты, обширное помещение для машины, четырехугольную башенку, где установлен был паровой насос для откачки воды. Шахта, сгрудившая в лощине свои приземистые кирпичные строения, вздымавшая высокую трубу, словно грозный рог, казалась ему каким-то злобным ненасытным зверем, который залег тут, готовый пожрать весь мир. Всматриваясь в него, он думал о самом себе, о своих скитаниях: вот уже неделя, как он бродяжничает, тщетно ищет работы. Вспоминалось, как он работал в железнодорожных мастерских, как дал пощечину начальнику, как его выгнали за это из мастерских, выслали из Лилля, а теперь гонят отовсюду; в субботу пришел в Маршьен – говорили, что там есть работа на железоделательном заводе; но, оказалось, ничего нет – ни там, ни в Сонвиле; воскресенье пришлось провести под навесом тележной мастерской, прячась между штабелями досок: в два часа ночи сторож его прогнал. И вот нет ничего, ни единого су, даже сухой корки хлеба нет. Как же теперь быть? Зачем без толку скитаться по дорогам, даже не зная, где укрыться от ледяного ветра? А это действительно шахта; редкие фонари освещали площадку, где сваливали уголь; внезапно распахнулась дверь, и за нею, при ярком свете, он увидел огненные топки паровых котлов. Теперь ему стало понятно, откуда раздавались странные звуки: с равномерным непрестанным пыхтеньем в шахте работал насос, и казалось, что это дышит притаившееся во тьме чудовище, дышит надсадно, хрипло, с долгими всхлипываниями, словно у него заложило грудь.
Чернорабочий, ссутулясь, сидел у разгрузочного механизма, ни разу не подняв глаз на Этьена, и тот уже собирался уйти, подобрав свой узелок, упавший на землю, как вдруг послышался затяжной кашель, – возвращался возчик. Постепенно из мрака выросла его фигура, за ним брела буланая лошадь, тащившая шесть груженых вагонеток.
– В Монсу есть фабрики? – спросил прохожий.
Старик сплюнул черным и ответил под завыванье ветра:
– В Монсу? Еще бы! Сколько их там! Поглядел бы ты года три-четыре назад. Все так и кипело, не хватало рабочих. Зарабатывали хорошо! Сроду таких заработков не бывало… А теперь вот опять брюхо подводит с голоду. Смотреть жалко, что кругом делается! Увольняют всех подряд, мастерские одна за другой закрываются… Император, может, и не виноват… Да зачем он ввязался в войну в Америке? А к тому же холера людей косит, да и скот тоже мрет.
Тогда и прохожий начал жаловаться, вторя старику короткими фразами, потому что от ветра перехватывало дыханье. Он рассказал о своих бесплодных поисках работы, о скитаниях, длившихся уже неделю. Так что же теперь, с голоду, что ли, подыхать? Скоро на дорогах полно будет нищих. Да, соглашался старик, дело может плохо кончиться: это ведь не по-божески выбрасывать столько народу на улицу.
– Мяса и в глаза не видим.
– Да хоть бы хлеб был!
– Вот именно, хоть бы хлеб!
Голоса их заглушал ветер, уносивший с унылым свистом обрывки фраз.
– Погляди! – выкрикнул возчик, поворачиваясь к югу. – Вон там Монсу…
И, вновь протянув руку, он указывал на невидимые в темноте селения, перечисляя их одно за другим. В Монсу сахарный завод Фовеля еще работает, но на другом сахарном заводе – у Готона – часть рабочих уволили. Только паровая мельница Дютилейля да завод Блеза, где изготовляют канаты для рудников, устояли. Затем старик повернулся к северу и широким жестом обвел полгоризонта: в Сонвиле машиностроительные мастерские не получили двух третей обычных заказов; в Маршьене из трех домен зажгли только две; на стекольном заводе Гажбуа того и гляди рабочие забастуют, потому что им хотят снизить заработную плату.
– Знаю, знаю, – повторял прохожий, выслушивая эти сведения. – Я уже был там.
– У нас тут пока еще держатся, – добавил возчик. – Но все ж таки на шахте добычу уменьшили. А вот глядите, прямо перед вами – Виктуар, там только две коксовые батареи горят.
Он сплюнул, перепряг свою сонную лошадь к поезду пустых вагонеток и зашагал позади них.
Этьен пристально смотрел вокруг. По-прежнему все тонуло во мраке, но рука старика возчика словно наполнила тьму великими скорбями обездоленных, и молодой путник безотчетно их чувствовал, – они были повсюду в этой беспредельной шири. Уж не стоны ли голодных разносит мартовский ветер по этой голой равнине? Как он разбушевался! Как злобно воет, словно грозит, что скоро всему конец: не будет работы, и наступит голод, и много-много людей умрет! Этьен все смотрел, стараясь пронизать взглядом темноту, хотел и боялся увидеть, что в ней таится. Все скрывала черная завеса ночи, лишь вдалеке брезжили отсветы над доменными печами и коксовыми батареями. Коксовые подняли вверх чуть наискось десятки своих труб, и над ними блещут красные языки пламени, а две башни доменных печей бросают в небо голубое пламя, словно гигантские факелы. В ту сторону жутко было смотреть, – там как будто полыхало зарево пожара; в небе не было ни единой звезды, лишь эти ночные огни горели на мрачном горизонте – как символ края каменного угля и железной руды.
– Вы, может, из Бельгии? – послышался за спиной Этьена голос возчика, успевшего сделать еще один рейс.
На этот раз он пригнал только три вагонетки. Надо разгрузить хоть эти три: случилось повреждение в клети, подающей уголь на-гора, – сломалась какая-то гайка; работа остановилась на четверть часа, если не больше. У подножия террикона стало тихо, смолк долгий грохот колес, сотрясавший помост. Слышался только отдаленный стук молота, ударявшего о железо.
– Нет, я с юга, – ответил Этьен.
Рабочий опорожнил вагонетки и сел на землю, радуясь нежданному отдыху; он по-прежнему угрюмо молчал и только вскинул на возчика тусклые выпуклые глаза, словно досадуя на его словоохотливость. Возчик обычно был неразговорчив. Должно быть, незнакомец чем-то ему понравился, и на него нашло желание излить душу, – ведь недаром старики зачастую говорят вслух сами с собой.
– А я из Монсу, – сказал он. – Звать меня Бессмертный.
– Это что ж, прозвище? – удивленно спросил Этьен.
Старик захихикал с довольным видом и, указывая на шахту, ответил:
– Да, да, прозвали так. Меня три раза вытаскивали оттуда еле живого. Один раз обгорел я, в другой раз – землей засыпало при обвале, а в третий – наглотался воды, брюхо раздуло, как у лягушки… И вот как увидели, что я не согласен помирать, меня и прозвали в шутку «Бессмертный».
И он засмеялся еще веселее, но его смех, напоминавший скрип немазаного колеса, перешел в сильнейший приступ кашля. Языки пламени, вырывавшиеся из жаровни, ярко освещали его большую голову с редкими седыми волосами, его бледное, круглое лицо, испещренное синеватыми пятнами. У этого низкорослого человека была непомерно широкая шея, кривые ноги, выпяченные икры и такие длинные руки, что узловатые кисти доходили до колен. А вдобавок он, как и его лошадь, которая спала стоя, как будто не чувствуя северного ветра, тоже был словно каменный и, казалось, не замечал ни холода, ни порывов ветра, свистевшего ему в уши. Когда приступ кашля, раздиравшего ему горло и грудь, кончился, он сплюнул на землю около огня, и на ней осталось черное пятно.
Этьен посмотрел на старика, посмотрел на землю, испещренную черными плевками.
– В копях давно работаете? – спросил он.
Бессмертный развел руками:
– Давно ли? Да сызмальства – восьми лет еще не было, как спустился в шахту, – вот как раз в эту самую, в Ворейскую, а сейчас мне пятьдесят восемь. Ну-ка сосчитайте… Всем перебывал: сперва коногоном, потом откатчиком – когда сил прибавилось, а потом стал забойщиком, восемнадцать лет рубал уголек. Да вот обезножел я, ревматизм одолел, и из-за него, проклятого, меня перевели из забойщиков в ремонтные рабочие, а потом пришлось поднять меня на-гора, а то доктор сказал, что я под землей так навеки и останусь. Ну вот, пять лет назад меня поставили возчиком. Что? Здорово все-таки! Пятьдесят лет на шахте, а из них – сорок пять под землей.
Пока он рассказывал, горящие куски угля, то и дело падавшие из жаровни, багровыми отблесками освещали его бледное лицо.
– Теперь они мне говорят: на покой пора, – продолжал он. – А я не хочу. Нашли тоже дурака!.. Еще два годика протяну – до шестидесяти, значит, – и буду тогда получать пенсию в сто восемьдесят франков. А если сейчас с ними распрощаюсь, они дадут только сто пятьдесят. Ловкачи! И чего гонят? Я еще крепкий, только вот ноги сдали. А все, знаешь ли, из-за воды. Вода меня в забоях поливала восемнадцать лет, – ну и взошла под кожу. Иной день, чуть пошевельнешься, криком кричишь.
И он опять закашлялся.
– Кашель тоже от этого? – спросил Этьен.
Но старик вместо ответа энергично мотал головой.
А когда отдышался, сказал:
– Нет. В прошлом месяце простудился. Раньше-то никогда кашля не бывало, а тут, гляди-ка, привязался, никак от него не отвяжешься. И вот чудное дело: харкаю, харкаю…
В горле у него заклокотало, и он опять сплюнул черным.
– Это что же, кровь? – осмелился наконец спросить Этьен.
Бессмертный не спеша вытер рот рукавом.
– Да нет, уголь… В нутро у меня столько угля набилось, что хватит на топку до конца жизни. А ведь уже пять лет под землей не работаю. Стало быть, раньше припас уголька, а сам про то ничего и не знал. Не беда, с углем крепче буду.
Наступило молчание. Вдали раздавались равномерные удары молота в шахте. На равнине жалобно завывал ветер, и казалось, в беспросветном мраке кто-то стонет от голода и усталости. В жаровне испуганно металось пламя, и старик, стоя возле него, негромко заговорил, вспоминая прошлое. Ну понятно, не со вчерашнего дня он сам и его близкие жилы из себя тут вытягивали. В их роду все работали на Компанию угольных копей в Монсу со дня ее основания, а она ведь существует уже сто шесть лет. Его дед, Гильом Маэ, пятнадцатилетним парнишкой нашел в Рекильяре жирный уголь, там-то Компания и заложила свою первую, теперь уже заброшенную шахту – неподалеку от сахарного завода Фовеля. Всему краю известно, кто открыл этот пласт, – недаром же его назвали Гильомов пласт – по имени деда. Возчик не знал этого деда, – говорят, был рослый, сильный человек, умер своей смертью в шестьдесят лет. Отец, Никола Маэ, по прозвищу Рыжий, до сорока лет не дожил, погиб при проходке Ворейской шахты – произошел обвал, и отца прямо в лепешку сплюснуло; раздробила земля его кости, выпила кровь. Двое из его дядьев и три брата тоже там головы сложили. А сам он, Венсан Маэ, вышел оттуда цел и почти невредим, – только ноги плохо ходят. Не зря его считают счастливчиком. Так оно и шло. Что поделаешь, – надо кормиться, вот и работали в копях, добывали уголь. И отцы и дети – все углекопы. Теперь его сын, Туссен Маэ, и все внуки, и вся родня надрываются. А живут все вон там, в рабочем поселке. Сто шесть лет рубят уголь; после стариков – ребятишки идут, и все работают на одного хозяина. Каково, а? Многие ли господа могут так вот, начистоту, рассказать о прошлом своего рода?
– Да, вот кабы хлеб всегда был! – опять пробормотал Этьен.
– А я что говорю? Пока хлеб есть, жить можно.
Бессмертный умолк и устремил взгляд на поселок, где уже зажигались огоньки. На колокольне в Монсу пробило четыре часа. Холод усилился.
– А богатая она, ваша Компания? – опять заговорил Этьен.
Старик вздернул плечи, потом сгорбился, словно на него обрушились мешки золота.
– Уж это да! Может, и не такая богатая, как соседняя, Анзенская компания, но ворочает миллионами, право слово, миллионами. Деньгам счету нет… Девятнадцать шахт, из них в тринадцати идет работа: Воре́, Виктуар, Кревкер, Миру, Сен-Тома, Мадлен, Фетри-Кантель и еще другие. Да шесть стволов для откачки и вентиляции. К примеру, Рекильяр… Десять тысяч рабочих. Разработки идут на землях шестидесяти семи коммун. Угля добывают по пяти тысяч тонн в сутки. Все шахты железная дорога соединяет. Да еще у Компании мастерские всякие, фабрики… Уж это да! Уж это да! Денег у нее уйма!
Послышался грохот вагонеток, прокатившихся по настилу, костлявая буланая лошадь насторожила уши. Клеть внизу, как видно, исправили и снова стали подавать на-гора пустую породу. Собираясь двинуться в обратный путь, возчик перепрягал лошадь и ласково приговаривал:
– Смотри, лодырь ты эдакий, не приучайся болтать. Влетит тебе, если господин Энбо узнает, на что ты время тратишь!
Вглядываясь в темноту, Этьен задумчиво сказал:
– Так это чья шахта? Господина Энбо?
– Нет, господин Энбо только директор, – объяснил старик. – За плату работает, как и мы.
Нервным жестом Этьен указал на беспредельную темную ширь.
– А чье же это все? Кто тут хозяева?
На возчика в эту минуту напал такой кашель, что он не мог перевести дыхание. Наконец он сплюнул, вытер с губ черную пену и громко сказал, стараясь заглушить усилившийся вой ветра:
– Что говорите? Кто тут хозяева?.. А кто его знает. Люди.
Он протянул руку, словно указывал на некое неведомое и далекое место, где пребывают эти люди, на благо которых уже более столетия вытягивали из себя жилы многие поколения бедняков Маэ. В голосе старика слышался благоговейный страх, будто он говорил о каком-то неприступном святилище, где восседает, поджав под себя ноги, тучное божество, которому углекопы приносили в жертву свою плоть и кровь, но никогда его не видели.
– Хоть бы уж хлеба-то вдоволь было, – в третий раз сказал Этьен, без всякой видимой связи с предыдущим.
– Еще бы! С хлебом и тужить нечего!
Лошадь тронулась; за нею двинулся разбитой походкой возчик, волоча больные ноги. Около рычага для опрокидывания вагонеток, весь съежившись, неподвижно сидел рабочий, уткнувшись подбородком в колени и уставив куда-то в пустоту тусклые выпуклые глаза.
Этьен подобрал узелок с пожитками, но все не уходил. Спина у него мерзла от холодного ветра, а грудь жгло у жаркого огня. А что, если все-таки сходить на шахту, попытать счастья? Откуда старику все знать? Попроситься хоть на черную работу. Теперь уж нечего разбирать. А то куда пойдешь? Ведь в здешних местах нет у людей работы, и все голодают. Сдохнешь где-нибудь под забором, как бездомный пес. И все же его брало сомнение, страшила эта Ворейская шахта, расположившаяся посреди голой низины, утопавшая во тьме. А ледяной ветер все не стихал, – наоборот, как будто усиливался с каждым порывом, словно несся из беспредельных просторов. Ни малейшего проблеска зари в мертвом небе, только языки пламени над домнами и огни коксовых батарей окрашивали тьму, не освещая того, что таилось в ней. А шахта, распластавшаяся в ложбине, как хищный зверь, припала к земле, и слышалось только ее тяжелое, протяжное сопенье: зверь сожрал так много человеческого мяса, что ему трудно было дышать.
II
Среди пашен и свекловичных полей в густом мраке спал рабочий поселок Двести Сорок. Смутно можно было различить четыре огромных квартала; дома выстроились по обеим сторонам трех параллельных улиц, ровными рядами, как больничные корпуса или солдатские казармы, и отделены были друг от друга одинаковыми садиками. В ночной тишине на этом пустынном плато слышались только жалобные завывания ветра, прорывавшегося сквозь сломанные решетчатые изгороди.
У Маэ, – во втором квартале, в доме № 16, – никто еще не шевелился. В единственной комнате второго этажа стояла темнота, такая черная, плотная темнота, что она казалась жесткой, придавившей спящих своей тяжестью, а чувствовалось, что их много, что сон скосил их, сломленных усталостью, и они спят вповалку, с раскрытым ртом. Воздух был спертый; несмотря на холодную ночь, в комнате, нагретой дыханием людей, было тепло, но душно, как это бывает под утро даже в самых опрятных дортуарах, где тоже застаиваются запахи скученных человеческих тел.
Внизу, на первом этаже, часы с кукушкой пробили четыре. В спальне никто не шелохнулся, слышались тихое посапыванье да звучный храп в два голоса. И вдруг вскочила Катрин. По привычке она сквозь сон сосчитала четыре звонких удара, донесшихся снизу, однако сразу проснуться была не в силах. Наконец, отбросив одеяло, она свесила с кровати ноги, потом нащупала спички и, чиркнув одной, зажгла свечу. Но встать она все не могла – непреодолимо тянуло снова на подушку, и голова, словно свинцом налитая, запрокидывалась назад.
Свеча озаряла только часть спальни, квадратной комнаты в два окна, заставленной тремя кроватями. Кроме кроватей, тут был еще шкаф, стол и два старых стула орехового дерева, темными пятнами выделявшихся на фоне светло-желтых стен. Вот и вся обстановка. На гвоздях висела старая одежда; для кувшина с водой и глиняной миски, служившей тазом для умывания, место нашлось только на полу. На кровати, стоявшей слева от двери, спал старший брат Захарий, молодой парень двадцати одного года, и средний брат Жанлен, которому еще не исполнилось одиннадцати лет; справа спали, обнявшись, двое малышей – шестилетняя Ленора и четырехлетний Анри; третью кровать занимали две сестры – Катрин и девятилетняя Альзира, – такой заморыш, что старшая сестра не чувствовала бы ее соседства, если бы девочка-калека не толкала ее своим горбом. В отворенную застекленную дверь виден был узкий, как кишка, коридор, выходивший на лестничную площадку, – тут спали родители, приставив к кровати колыбель младшей дочки, трехмесячной Эстеллы.
Катрин делала отчаянные усилия, чтобы проснуться, потягивалась, скребла голову, засунув обе руки в копну рыжеватых волос, растрепавшихся на лбу и на затылке. Слишком худенькая для своих пятнадцати лет, она казалась подростком; узкая длинная рубашка обнажала только ее посиневшие ступни, словно татуированные микроскопическими частицами угля, и хрупкие изящные руки – молочная их белизна резко отличалась от землистого цвета лица, уже испорченного зеленым мылом, которым всегда приходилось мыться; она позевывала, широко открывая довольно большой рот, так что видны были ее великолепные зубы и бледные от малокровия десны; она силилась побороть сон, и на серых ее глазах выступали слезы, лицо приняло выражение скорби и мучительной усталости, казалось, переполнявшей все ее юное тело.
Из коридора донеслось сердитое бормотание отца:
– Ох, черт! Вставать пора… Это ты огонь зажгла, Катрин?
– Да, отец… Только что пробило четыре.
– Пошевеливайся, лентяйка! Поменьше плясала бы вчера, так пораньше бы нас разбудила… А то на тебе! Каждое воскресенье на танцы! Лодыри!
Он еще что-то проворчал, но уже невнятно, сон снова одолел его, и недовольное ворчанье сменилось громким храпом.
Катрин сновала по комнате в одной рубашке, ступая босыми ногами по холодным плитам пола. Мимоходом набросила на Анри и Ленору соскользнувшее с них одеяло; они ничего не почувствовали, – оба спали глубоким детским сном. Альзира посмотрела вокруг, широко открыв глаза, и молча перекатилась в постели на теплое местечко, нагретое старшей сестрой.
– Вставай же, Захарий! Вставай, Жанлен! – твердила Катрин, стоя у кровати братьев, но они крепко спали, уткнувшись лицом в подушку.
Она принялась трясти старшего за плечо, но он не вставал, только невнятно бранился; тогда Катрин прибегла к решительным мерам и сорвала с братьев одеяло. Они смешно задрыгали ногами, и она захохотала. Захарий наконец приподнялся и сел в постели.
– Вот дура! Отстань! – ворчал он в весьма дурном расположении духа. – Что еще за шутки! Терпеть не могу!.. Эх, жизнь собачья, вставать в этакую рань!
У Захария было тощее нескладное тело, длинное лицо, которое совсем не украшали жиденькие усики, соломенного цвета волосы, анемичная бледность, характерная для всей семьи. Рубашка у него задралась выше живота, он опустил ее – не из стыдливости, а потому, что продрог.
– Уже пробило четыре! – повторила Катрин. – Ну, живо! Отец сердится.
Жанлен, свернувшись клубочком, опять закрыл глаза:
– Убирайся! Спать хочу!
Девушка снова засмеялась веселым, ласковым смехом. Жанлен был такой маленький, щуплый, с огромными, раздутыми от золотухи суставами; сестра схватила его в охапку и подняла; он дрыгал ногами, мотал всклокоченной кудрявой головой, его обезьянье личико с торчащими ушами и узкими зелеными глазками побледнело от злости: как смеют издеваться над его физической слабостью. Не сказав ни слова, он укусил сестру в правую грудь.











