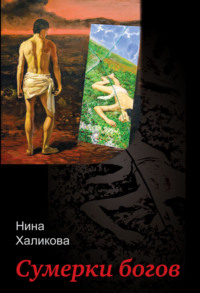Полная версия
Жребий
– А мускатный орех – это как? Это хорошо или плохо? – зачем-то спросил Валевский.
– Это восхитительно.
После этих слов он неожиданно почувствовал себя успокоено-безмятежным, как будто никакого краха и не было, и их любовному безумию еще только суждено случиться. Никогда и ничего, похожего на твердость духа, в подобных ситуациях за ним не водилось, но сейчас он сделался необыкновенно уверенным в своих силах. Он повернулся и взглянул на ее улыбающееся лицо, коснулся губами линии скул, затем гладкой шеи, и нежно шепнул:
– Спасибо. Мне давно никто не говорил, какого цвета у меня волосы, я и сам об этом позабыл.
– А еще у тебя очень красивые и умные глаза.
– О-о-о, мои красивые глаза, – лукаво усмехнулся Валевский, медленно склоняясь над женщиной со сладким запахом пачули, – только с виду умные, а на самом деле…
* * *Лариса Мотлохова-Эдлин возвращалась домой после этого странно затянувшегося свидания. Луна, пробиваясь сквозь плотные облака, окропила каплями холодного света темные старые деревья. Лариса шла одна пустынной улицей в ночной тишине, где-то совсем рядом жутко кричали какие-то невидимые страшные птицы, откровенно пугая ее. И было в этом крике что-то мучительно-хриплое, что-то любовно-блаженное и вместе с тем что-то слишком бессознательное. Должно быть от страха Ларисе казалось, что было в этом крике что-то мистическое, как если бы ожили полотна Босха. Ведь если бы они действительно ожили, то непременно издавали бы подобные отвратительные звуки. Птичий крик, как в хроматической гамме, поднимался до ужасно пронзительного вопля и тут же опускался вниз. Сейчас Ларисе чудилось какое-то гибельное предзнаменование, какая-то ересь, неприятно щекотавшая ей нервы. Словно, это был не крик безобидных уличных птиц, а настоящие сакральные любовные игрища жутких чудовищ, демонически хохочущих и ревущих, игрища, уводящие в бездну, в ничто. «Так, наверно, кричат адские твари перед совокуплением», – сверкнула более чем странная мысль в голове у Ларисы. Ее поражала темнота, дышащая страстью во время этого дьявольского концерта. Или все это ей только привиделось со страху? Она не была человеком религиозным, но тем не менее с опаской стала озираться по сторонам и заметно прибавила шаг.
Добравшись до зеркала в ванной комнате и взглянув в него, она обнаружила там изящную, немного растерянную меланхоличную женщину, бледную, как на полотнах Ван Дейка, женщину, которой едва перевалило за сорок или около того. Ее матовое лицо, ее песочного цвета глаза дышали удивительным, доселе неведомым покоем. Увидев это выражение на своем лице, Лариса смутилась и даже слегка покраснела. Прожив много лет в законном браке без любви, Лариса Эдлин не питала особого интереса к физической стороне жизни: может быть, по причине отсутствия этой самой любви, а может, и по природной своей холодности. Так, во всяком случае, она считала до сегодняшнего дня. И именно до сегодняшнего дня Лариса уж никак не причисляла себя к фривольным женщинам, находящимся во власти инстинктов. Ни в коем случае. В то же самое время она ни коим образом не осуждала адюльтеры, да и его участников, – просто к ней это все не имело ни малейшего отношения. Словно подобные казусы могли происходить исключительно в параллельном мире, до которого ей не было ни малейшего дела. Пропущенная в детстве через жернова хорошего воспитания, она считала непозволительной вульгарностью для замужней женщины привлекать к себе внимание посторонних мужчин.
То, что произошло сегодня, заставило ее самым решительным образом пошатнуть все сложившиеся убеждения относительно собственного внутреннего устройства. Много лет она чуждалась крепкой настойки из желания и обладания, сладкой настойки, от которой не может не кружиться голова, а сегодня она откупорила первую бутылку. Будучи человеком вполне здравомыслящим, Лариса понимала, что дальше будет непросто, что она разжигает пламя, которое не сможет погасить. На безоблачный роман она почему-то даже и не рассчитывала. Она боялась думать о том, что происходит между ними, между ней и Валевским, боялась, потому что безупречная репутация Валевского, репутация верного мужа, была ей хорошо известна. И поэтому она не хотела знать, увлекся ли он ею всерьез или просто-напросто его добродетель, вечно выставленная напоказ, пожелала сделать исключение ради нее. Вообще говоря, думать о случившемся с точки зрения морали она боялась. Боялась, потому что слишком долго об этом думала, потому что долгие годы, прошедшие под девизом «пристойно и нравственно», как раз и иссушили тот хрупкий цветок, что зовется радостью. И сейчас она опасалась, что опять упадет с восторженных высот своей блаженной любви в скучную, стерильную рутину этой самой благопристойности.
Лариса вымыла руки мылом с запахом лаванды, вынула шпильки из волос, надела белый стеганый халат и пошла в спальню. Супруга, Владимира Александровича, еще не было дома. Вероятно, у него много работы. В спальне стоял нежный аромат ириса, из приоткрытого узкого окна веяло вечерним свежим ветерком, шевелились изящные занавески из шифона, на туалетном столике с изогнутыми ножками стояло множество склянок. Немного постояв посреди комнаты, словно не понимая зачем она здесь, Лариса повалилась на кровать, устланную голубым шелковым покрывалом, с множеством подушек и закрыла глаза… Они расстались, так и не назначив друг другу следующего свидания. Все-таки, что же это сегодня было? Похоже на одноразовый нервный припадок? Или нет? А что же дальше? Ничего? Или они будут играть в любовь украдкой? Или… Она задавала себе вопросы, даже не пытаясь на них отвечать, потому что ответы для нее были не важны.
Вскоре вернулся раскрасневшийся, запыхавшийся Владимир Александрович с «много работы», облизывая мясистые губы, и держа под мышкой бутылку какого-то вина. Могут ли они вместе поужинать? Поужинать? Нет, спасибо, что-то есть совсем не хочется. Вам нездоровится? Может ли он чем-нибудь помочь? Нет, нет, все в порядке, но не ответит ли он, почему опять так поздно? Ах, да, да, разумеется, «много работы». Спокойной ночи. Благодарю, и вам спокойной.
Владимир Александрович, как и положено образцовому супругу, тихонько притворил за собой дверь, но скорее механически, чем заботливо, и скрылся в недрах их просторной квартиры. Лариса с облегчением выдохнула. Сегодня не придется ломать комедию, играть и переигрывать.
Лариса решила отвлечься от чувствительного мужа и думать о Дмитрии, только о Дмитрии. Дмитрий. Любовь. Она быстро задремала. Любовь! Какая она будет эта любовь? Что же есть такое эта любовь? В ее жизни никогда не было любви. В детстве, конечно, ее любили родители – отец и мать, и она их любила, но это совсем не то. Владимир Александрович умел любить только самого себя. А сейчас, впервые в жизни, Лариса чувствовала, как она вся изнутри наполняется теплом и светом, как ее сердце утопает в пении каких-то райских птиц, в согревающем солнце и мглистой прохладе вечера. Как чудесно! В полудреме она видела мужчину с лицом Дмитрия Валевского, мужчину, который принесет ей душевный мир, который все понимает, мужчину, с которым можно всем поделиться, которого она станет оберегать и опекать точно так же, как и он ее, она видела мужчину, ради которого можно отдать все-все без остатка. «Но, может быть, – зачервоточило где-то в глубине то ли сознания, то ли сна, – но, может быть, он напоит до отказа сердце не согревающим светом, не райскими звуками, а ледяной горечью, а потом жестко растерзает это сердце и выбросит на помойку, как обычно выбрасывают кожуру от апельсина, из которого уже отжали и выпили сок?» Любовь – это дар небес, а небеса не постоянны в своих щедротах – они могут и одарить сверх меры, а могут и лишить своей благодати без всякого предупреждения. Такой порядок вещей в мире может вызывать восхищение или недоумение, его можно принимать или отвергать, но поделать с этим ничего нельзя. От испуга Лариса тут же проснулась. Она села на кровати с трясущимися руками, вспотевшими висками, не понимая, что ее так сильно напугало.
* * *В этот же самый вечер Дмитрий Валевский снова нарочно оттягивал время, сначала делая один круг за другим вокруг дома, а потом, так и не дойдя до своей парадной, сел на скамейку соседнего дворика. Каждое дерево, каждое светящееся окно, каждое дуновение ветра говорили ему, что для бешеной собаки семь верст – не крюк. Особенно для счастливой бешеной собаки. Валевский был не в состоянии поверить в случившееся: он уклонился, свернул с пути добродетели, дал волю своим чувствам, нарушил все мыслимые и немыслимые нормы, но при этом ощущал себя на седьмом небе. Он показал себя мужчиной, пусть ему и не удалось сделать этого сразу, но, в конце концов, Лара ушла счастливой. Ему не хотелось идти домой, в свое уютное, правильное, элегантное гнездышко, обставленное с редким изяществом его заботливой супругой. Валевский предпочел отдышаться на свежем воздухе на темной влажной скамейке под покровом чернеющего неба, роняющего вечернюю летнюю морось.
Несколько дней назад, когда он думал о Ларе, ему казалось, что «после» он непременно должен будет испытать удовольствие вора, завладевшего краденым. Но ничего подобного не произошло, напротив, он почувствовал, что наконец-то получил свою законную долю счастья у жребия, до сих пор бессовестно обворовывавшего его самого.
– Я хочу жить, я хочу дышать полной грудью, я ведь это заслужил! – Взволнованно сказал Валевский темноте и тут же сам себе усмехнулся. Сколько мужчин и женщин, молодых и старых, сколько миллионов надеющихся сердец ежедневно возносят эту молитву небесам и терпеливо ждут, ждут даже тогда, когда их незатейливые мечты, их скромные молитвы, не достигнув звезд, вдребезги разбиваются о реальность вместе с их душами и их сердцами.
Где-то еле слышно шуршали дождевые капли, слабый ветерок тормошил сухие ветки лип и кусты засохшей от солнца смородины, и они, тихонько потрескивая, соприкасались друг с другом. Уставившись в тихую темноту ночного неба, Валевский впервые за долгие годы без отвращения, а скорее с некоторым удовольствием, закурил сигарету и почему-то вспомнил свою юность.
* * *В той самой далекой юности, на первый взгляд, Митя Валевский был самым обыкновенным, тощим, долговязым студентом, довольно несуразным, простодушным и без всяких амбиций, так, во всяком случае, могло показаться. Однако, если присмотреться к нему повнимательней, то довольно скоро улавливался тот самый тщеславный блеск в глазах.
Когда-то давно Мите нравилось сначала быть лучшим в классе, потом он блестяще закончил университет и аспирантуру, но отнюдь не из-за недюжинных способностей. Его умения были самые что ни на есть обычные, но вот тяга к совершенству, вызывающая восторги, зависть и восхищение, у него была как-то особенно развита. Окончательно повзрослев, Дмитрий Михайлович уже прямо-таки обладал уникальным талантом по части достижения всевозможных целей. Он умудрялся ставить огромное количество целей – повседневных и отдаленных, глобальных и откровенно ничтожных, – и с невероятным упорством осуществлять задуманное. То он шлифовал свой английский или французский, то брал уроки фортепиано, то занимался вольной борьбой, то шахматами, то вознамерился достичь максимального совершенства в профессии, погружаясь полностью в написание то диссертации, то всевозможных статей. Он шел как бы от вершины к вершине, а покорив одну, тут же намечал следующую, и это до краев наполняло его жизнь смыслом. Так продолжалось до тех пор, пока он не перестал чувствовать вкус самой жизни, как, например, перестают чувствовать вкус вина, бесшабашность, запах моря или радость беспечного смеха. Все в его жизни было слишком взвешенно и невероятно осмысленно – никаких глупостей, никаких оплошностей. И как только он почувствовал отсутствие полноты жизни, тут же был взят в тиски разочарования, густо смазанного отчаянием, что для его профессии непозволительно и даже, не будет преувеличением сказать, оскорбительно.
Что ж, в невесты он избрал себе чудесную невинную девушку, необыкновенно привлекательную, которая боготворила его, и его это нисколько не удивляло, скорее наоборот, Валевский воспринимал ее обожание, как нечто, само собой разумеющееся, и не спешил жениться. И лишь по прошествии четырех лет конфетно-букетного периода, да и то только когда, матушка сказала: «Митя, чего ты ждешь? Лида – чудесная партия», – Валевскиий женился. Он женился не только потому, что об этом мечтала его мать, но и потому, что стал плохо переносить одиночество, а внутри все чаще щемило от тоски. Потом, много позже, он не чувствовал недостатка в образовании или общении, зато самым парадоксальным образом ощущал недостаток счастья.
Так, жребий, выпавший на его долю, лишил его любви, как капризный старец лишает наследства по непонятным причинам самого достойного члена семьи, самого лучшего из всех претендентов. Валевский никогда не знал, что такое любовь. Многие женщины, включая жену, упрекали его в холодности, в отсутствии сладостных безумств, которых они терпеливо ждали от него, но к сожалению, тщетно. Жребий лишил его этих дивных восторгов, дав взамен рассудительность и хладнокровие. Жребий выделил ему чудесную жену, высокую финансовую стабильность, семейное благополучие, но забыл одарить самым главным – любовью.
Валевскому казалось, что не он, а кто-то другой живет этой жизнь, а он сам просто смотрит какой-то затяжной фильм про успешного неудачника, которого неверный жребий щедро одарил, правда, не тем, чем нужно. И эта бесхитростная, но вполне откровенная мысль не способствовала ни духовному, ни физическому подъему. Временами эти чувства и мысли притуплялись, подавлялись, и Валевский знал, что все скоро пройдет, уляжется. Он был, как всегда, прав: душевные хвори проходили, ненадолго сменяясь тихой радостью, а потом возобновлялись, и так повторялось вновь и вновь, бесконечное количество раз. «Ницше накаркал, – вновь злился Валевский, – прямо в воду глядел со своим бесконечным повторением. Ну что ты будешь делать? Прямо хоть плачь».
Любование собственными добродетелями, тяжело или легко обретенными, радости более не доставляло. Всего, чего только можно было достигнуть в жизни, он добился, но это все было не то, а главное, было непонятно, что нужно делать дальше. Он до чертиков устал носиться со своими внутренними и внешними переживаниями. Ему хотелось ощутить радость от самой жизни, а ее-то как раз и не было. «Ну хорошо, хорошо, – уже тогда говорил себе Валевский, – других, можно сказать, я обманул. Как же обмануть себя? Как же впарить себе, что я счастлив? А?»
Глядя на дымок сигареты, вкушая буйное благоухание летней ночи, Валевский ни с того ни с сего почувствовал, что в этой синевато-черной содрогающейся темноте что-то кроется. Он буквально физически ощутил запах тревоги, затаившийся и терпеливо поджидающий свою жертву, суливший ей в самом ближайшем будущем роковые перемены. От таких предчувствий, от столь пронзительных видений, нервы Валевского зазвенели как стекло, воздух разбух как на дрожжах и стал невероятно душным.
– Вот идиот! Совсем ополоумел на старости лет, – неубедительно даже для себя самого буркнул Валевский. Он грузно встал со скамейки, сердито покачал головой и, подняв воротник тонкого льняного пиджака, зашагал в сторону дома.
* * *Вряд ли в истории человеческой жизни найдется глава прекраснее той, что называется любовью. Любовь переливается в наших душах бесчисленным множеством разрозненных оттенков счастья, гармонично сливаясь в единое и сложное целое с предметом нашего обожания, и это позволяет нашей фантазии хотя бы ненадолго предположить, что силами и гением великого творца мы стали избранниками.
Примерно так себя чувствовали Валевский и Лара во время дневного свидания, когда первый румянец смущения с учащенным дыханием начал проходить, а они сами, пусть и на несколько мгновений, превратились в светлых, чистых, покорных птиц, поющих одну и ту же весеннюю песнь любви. В окна отеля струился неизъяснимый свет блаженства. Лара задышала свободнее, ее губы все еще невольно вздрагивали, ее еще затуманенный взгляд ласково рассматривал возлюбленного, ее обоняние улавливало его запах, а слух был предельно насторожен.
– Как тебе удалось убежать от мужа?
– Он мною не особенно интересуется.
– Он будет тебя ревновать?
– Мой муж слишком деликатен для этого.
– Значит, он попросту не ревнив. Ревность – это такая область, где трудно проявлять деликатность.
«Ха, нарциссу и в голову не придет ревновать, ему не до того», – злорадно подумал Валевский, но вслух говорить этого не стал.
Дмитрий блаженствовал, это было абсолютное счастье, когда невозможно желать чего-то сверх. Он лежал под одеялом и боялся пошевелиться. Словно, его счастье, равно как и он сам, состояли из миллиардов крохотных песчинок, представляющих собой слаженную форму, и стоит только пошевелится, как вся эта умиротворяющая гармония, представляющая собой тот самый лучший жребий, начнет рассыпаться. А Валевскому хотелось как можно дольше сохранить это состояние, эту умиротворяющую благодать, идеальность момента, похожую на музыкальную легкость мысли, божественно-прозрачные воды которой оказались расцвечены всей многоголосой, многоликой палитрой цветов и оттенков.
– У тебя красивый перстень, – сказал Валевский, глядя на вензель с тремя огромными белыми камнями.
– Это все, что осталось от моего рода, и это все, что останется после меня. Когда-то этот перстень носила моя мама, а до этого он принадлежал моей бабушке, а я завещаю его своему возлюбленному – мужчине, которого буду любить всегда, – очень просто, почти покорно, сказала Лара.
Валевскому не хотелось думать, что все может закончиться, ему не хотелось заглядывать в будущее, тем более что ничего хорошего, скорее всего, их там не ждет, сейчас он чувствовал себя романтическим, лирическим героем, и этого было вполне достаточно. Однако его мелкое тщеславие заставило предположить, что возлюбленным, о котором говорила Лара, должен быть он и никто другой.
– Почему ты ничего не рассказываешь о своих женщинах? – неожиданно спросила Лара.
– А что, разве надо? – с искренней непринужденностью поинтересовался Валевский.
Она пожала плечами и опустила глаза, как маленькая девочка, сказавшая глупость. Валевский подумал, какой нелепостью бы это ни казалось, но в ее женском теле живет душа ребенка – бесхитростного и открытого, невинного в своем детском любопытстве. Этот ребенок то и дело давал о себе знать. Валевский нежно обнял Лару за тоненькую талию.
– Лара, подумай сама, такие мужские признания обычно сильно огорчают женщин, – начал он наставительно. – В них нет вообще никакого смысла. Но в моем случае, признаюсь честно, и рассказывать-то нечего. Боюсь, это звучит глупо и ужасно банально, но до встречи с тобой женщины меня не интересовали. Вообще. Правда.
Произнося этот трогательный монолог, Валевский нисколько не кривил душой, ибо его интерес к жизни по большей части проявлялся в осознании собственного превосходства, поскольку во всех своих больших и мелких делах он, несомненно, был лучше многих. Ему представлялось, что достижение внешнего и внутреннего превосходства и является своеобразным мерилом «прекрасного жребия». Но теперь весь мир для него был заключен в ее теле. И в данный момент он был занят изучением этого мира, хотя и отлично понимал, что мир этот, скорее всего, так и останется для него terra incognita. Разум его бесконечно будет занят попыткой доказать вечную теорему, которую невозможно или почти невозможно доказать. Также он отлично понимал, что в последнее время он счастлив именно благодаря ей. Он ее не восхвалял, не идеализировал, не считал ее высшим существом, и даже мог сказать с большой долей уверенности, что ее внешность ничего выдающегося из себя не представляет, однако его внутренний голос то и дело пел: «Рахиль, ты мне дана небесным провиденьем…»[3]
– Неужели не интересовали? – она решила уточнить, так, на всякий случай.
– Можешь мне поверить, – твердо сказал Валевский.
А что прикажете делать, если угораздило жить в такое время, когда считается нормой душевная нечистоплотность, разнузданность в поведении, половая свобода и прочая несуразица, от которой дурно пахнет. Все это не просто не осуждается, а даже приветствуется, словно распущенность представляет собой особое личное достижение. Создается впечатление, что все мужчины видят в женщинах самок для спаривания и смотрят на них соответственно. Женщины же, в свою очередь, зная о таком неприглядном предназначении, ведут себя соответствующе, – можно сказать, из кожи вон лезут, чтобы не только не разочаровать мужчин, но и не уступать им в расхлябанности, а то и просто демонстрируют, что это, мол, они сами себе подыскивают подходящего самца – лишь бы не уступить пальму первенства.
А вот в давно минувшие времена, отголоски которых нам сохранила литература, причем литература с большой буквы, в те самые времена мужчины смотрели на женщин более чем почтительно, как на нечто недосягаемое, так, как смотрят на богинь. И это, надо сказать, приносило свои плоды: девушки и женщины, зная, что их обожествляют, и вели себя как подобает. Непотребные девки для мгновенной любви, разумеется, были во все времена (куда ж без них, ведь мужчины в обычной жизни отнюдь не монахи), но это никак не перечеркивало и не умаляло уважительного отношения мужского пола к благопристойным женщинам, к будущим невестам, женам и матерям. И мало кому приходило в голову осквернять невинную чистоту, даже если невинность по каким-то роковым обстоятельствам оказывалась не такой уж кристальной. В жизни, как говорится, может быть всякое, ни от чего нельзя зарекаться. Уважение, поклонение, почитание, высоту помыслов, вроде бы, пока никто не отменял, но нынешнее положение вещей существенно изменилось. «Это еще, конечно, не древний Вавилон, – иногда про себя думал Валевский, – но уже очень близко к этому. Если так и дальше пойдет, то мы даже сможем их переплюнуть».
Действительно, к современным женщинам Валевский относился с некоторой прохладцей. Однако, это ни сколько его не пугало, он даже ничего не имел против отсутствия тяги к распутству, но все равно на женщин поглядывал с некоторой брезгливостью – то ли потому, что они всячески демонстрировали свою быстродоступность, то ли потому, что сам он, соприкасаясь с прекрасным, не чувствовал особого восторга. «Поухаживать толком не дадут, – по молодости лет злился на женщин Валевский, – сразу им топчан подавай».
Злиться-то он злился, но мысли и чувства, как известно, – подруги непостоянные, и в благостные минуты его радовала свобода от женщин, а точнее, свобода его мужского естества от интереса к ним, в мрачные же периоды он переставал верить в нужность своих достижений и сильно сомневался во вреде некоторых вольностей.
Теперь все встало на свои места, теперь ему наконец-то хотелось признаться в любви Ларе, сказать, что она создана для него… Но именно в этот момент Лара так на него посмотрела своими выразительными песочными глазами, что он понял – никто ни для кого не создан, что все это не более, чем слова. Любовь! Прежде он не мог объяснить людскую суету вокруг этого слова, но и сейчас он был не уверен, что понимает его смысл. Что-то мешало родиться этой его уверенности, и он не знал, что именно.
Лариса же каким-то необъяснимым внутренним чутьем что- то улавливала во взгляде Валевского и понимала, что миг ее неожиданного счастья может оказаться последним. И эта в некотором роде обреченность, этот трагизм лишь усиливали сейчас вкус ее счастья. Почему в любви все становится ярче, красочнее, почему все кажется возможным и достижимым, а недостижимое заменяется грезами и фантазиями? В грезах, в мечтах, в том, что никогда не станет явью, легче смириться с реальностью. Это восхитительно, но вместе с тем и губительно, ибо в любви самое главное не давать волю туманностям, не начинать любовный роман пуская в ход собственное воображение.
– Хочешь, я расскажу тебе сказку? – игриво спросил Валевский, видя, что она сейчас где-то далеко, и пытаясь завладеть ее вниманием.
– Сказку? Ты умеешь рассказывать сказки?
– Я все умею. Ну, почти все. Слушаешь?
– Слушаю, – сказала Лара и закрыла глаза.
– Когда-то, давным-давно, в одном море-океяне стоял прекрасный остров с золотым городом. И были в этом городе-острове роскошные улицы, вымощенные мрамором, и золоченые храмы, и дома, наполненные красивой мебелью, цветами и ломившимися от избытка лакомств столами. А жили там богатые, но нелюдимые островитяне. Каждый день к этому острову подплывали византийские, саксонские, скандинавские корабли, нагруженные разными товарами, но жители острова никому не открывали ворот, на всех воротах висели тяжелые кованые замки. Висели они потому, что жители острова больше всего на свете боялись незнакомых людей. В каждом незнакомце они видели разбойника или бандита, способного причинить им вред, и даже безобидных дельфинов, проплывающих мимо, жители острова и то отпугивали. В общем и целом страдали они вот такой навязчивой идейкой. Но бывает и хуже, не правда ли; что уж тут поделаешь! А корабли все приплывали и приплывали, а островитяне все боялись и боялись. И до того они все добоялись, что решили построить высокую-превысокую неприступную стену вокруг острова, чтобы уже никто и никогда не смог нарушить их покой, не сумел преступить границу их владений. Быстро росла та каменная стена, слаженно трудились жители, и стена становилась все выше и выше, а покоя в душах островитян все не было и не было. И вот уже не видно пролетающих птиц, и корабли сторонкой обходят этот остров, и морские обитатели боятся к нему подплывать. И стоит себе остров, словно мертвый. И тогда другой жуткий страх охватил жителей, и стали они разбирать высокую стену. Но не поддавались им тяжелые упрямые камни, не уменьшалась стена, а, наоборот, становилась все выше и выше.