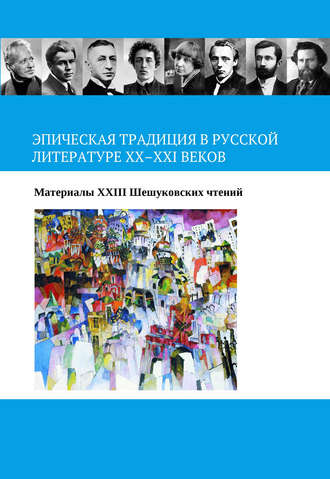 полная версия
полная версияЭпическая традиция в русской литературе ХХ–ХХI веков
Почему так случилось, что образ солнца в произведениях Леонида Андреева стал спутником сумасшествия, смерти, крушения надежд? Почему традиция, созданная ещё древними славянами, просуществовавшая сотни лет, вдруг рушится на глазах на рубеже веков? Почему раньше отсутствие солнца означало апокалипсис, а у Андреева само солнце – это вестник апокалипсиса? Мы постараемся ответить на эти вопросы, обращаясь к рассказам и повестям Леонида Андреева, где так или иначе присутствует образ солнца, а также оппозиция света и тьмы. Врач и писатель М. О. Шайкевич в книге «Психопатология и литература» пишет о творчестве Леонида Андреева: «Страх смерти, страх жизни, – уже эти грубо, так сказать, топором намеченные рубрики открывают обширные и разнообразные перспективы для поэтического творчества, а ведь есть гораздо более тонкие оттенки. Мы увидим, как у Андреева умирают люди, что они думают и чувствуют, приближаясь к той неизбежной точке, увидим, как жизни обрывает равнодушная слепая сила, вызвавшая нас из тёмных недр небытия» [7, с. 102]. Вероятно, Андрееву было важно показать ту самую равнодушную и слепую силу, которую он отчётливо чувствовал и потому в какой-то мере наделил своё солнце частью этой силы.
В начале повести «Жизнь Василия Фивейского» в знойный июльский полдень происходит большое горе, у героя погибает сын и после этого страшного события все в доме Василия начинают бояться солнца: «Скоро и все в доме о. Василия стали бояться ярких летних дней, когда слишком светло горит солнце и нестерпимо блестит зажженная им обманчивая река. В такие дни, когда кругом радовались люди, животные и поля, все домочадцы о. Василия со страхом глядели на попадью, умышленно громко разговаривали и смеялись, а она вставала, ленивая и тусклая, смотрела в глаза пристально и странно, так что от взгляда ее отворачивались, и вяло бродила по дому, отыскивая какие-нибудь вещи: ключи, или ложку, или стакан» [1, с. 290]. Жизнь останавливается в доме Василия: пока солнце продолжает быть источником радости для всего живого вокруг, эта семья себя уже похоронила. Как ещё назвать дом, в котором на протяжении многих лет царит тьма, как не могилой или склепом?
По мере того, как долго они продолжали существовать во тьме, безумие в этом доме развивается и каждый из героев сходит с ума по-своему, ведь даже маленькая Настя, дочь Василия, была не по годам мрачна: «как будто и на ее шестилетнее сердце уже легла черная тень грядущего» [1, с. 290]. Жена Василия, когда солнце поднималось к зениту, закрывала ставни и напивалась, однажды в один из таких дней ей в голову пришла безумная мысль родить нового сына и назвать его в честь умершего Васи: «В безумии зачатый, безумным явился он на свет» [1, с. 295].
Двадцать седьмого июля в доме Василия случается пожар, в котором погибает попадья. Солнце, от которого так упорно столько лет бегали эти люди, отомстило им, и стихия эта сожгла дом, в который её не впускали. После смерти первого сына эта семья похоронила себя и свой дом добровольно, после смерти попадьи семью и дом уже уничтожает разгневанная стихия.
Сам же Василий Фивейский, думающий сначала, что он избран господом (из-за своих страданий), в финале решает, что может воскресить человека, тем самым ставя себя выше бога. Сцена похорон Мосягина и в дальнейшем сцена якобы «воскресения» начинается так: «Хоронили Мосягина в понедельник, на духов день, и начался он зловещий и странный, точно смуте среди людей отвечала тяжелая и бесформенная смута в природе. С утра сильно парило, и такая жара стояла, что трава на глазах почти свертывалась и блекла, как от сильного огня. И непрозрачное плотное небо низко и грозно висело над землею, и точно вся замутившаяся синева его пронизана была тонкими, кроваво-красными жилками такое оно было багровое, звонкое, с металлическими отсветами и переливами. Огромное солнце пылало жаром, и так странно было, что светит оно ярко, а ни на чем нет определенных и спокойных теней солнечного дня, точно между солнцем и землею висела какая-то невидимая, но плотная завеса и перехватывала лучи» [1, с. 327]. В этом апокалиптическом пейзаже и кроваво-красные прожилки, и металлические отсветы, и жара такая, что трава свёртывалась и блекла, будто солнце испепеляет всё живое вокруг, а невидимая плотная завеса между солнцем и землёй, вероятно, есть уже воля самого Бога, гневающегося на человека, решившего пойти против него. И как бы в итоге не убегал Василий от гнева высших сил, они его всё равно настигают и даже умерший он как бы продолжает бежать, не находя покоя.
Образ солнца в повести «Жизнь Василия Фивейского» является неким орудием мщения в руках бога, само солнце не виновато в бедах и страданиях Василия, по большому счёту эти люди сами гневили высшие силы, обвиняя их во всём в силу своей духовной слабости, в силу своего неверия. В этой повести солнце всё ещё является радостью для всего живого, за исключением одного дома, в котором выбор стать на сторону тьмы сделали сами его обитатели.
Солнце как предвестник грядущей беды появляется в рассказе «Бездна». Студент и гимназистка прогуливаются по незнакомой местности, перед ними вспыхивает закат, солнце предстаёт «раскалённым красным углём», от которого хочется бежать: «Так близко и так ярко было солнце, что все кругом словно исчезало, а оно только одно оставалось, окрашивало дорогу и ровняло ее. Глазам идущих стало больно, они повернули назад, и сразу перед ними все потухло, стало спокойным и ясным, маленьким и отчетливым» [1, с. 782]. Обманчивая спокойность и ясность есть ложный путь, который выбрали герои, уходя от солнца. Если бы они не свернули с этого «светового» пути на «сумеречный» путь, то не оказались бы в «бездне», которая в финале поглотила Немовецкого. Шайкевич в статье «Психопатология и литература» пишет: «Поступок Немовецкого, продолжающего дело золоторотцев, не только омерзителен, но психологически немыслим. Автор как будто сам это чувствовал […] Но зачем же это всё понадобилось Андрееву? Дело в том, что очерк являлся иллюстрацией к «ницшеанской» мысли о слабости интеллекта перед тёмными, скрытыми от сознания силами нашего организма» [7, с. 128]. Вероятно, те самые равнодушные и слепые силы, исходящие из небытия, губящие жизни людей, находятся в самих людях, если следовать мысли Андреева, который принимал идею Ницше о силе подсознания над сознанием. Получается, что человек сам себе рок и скрывает внутри себя страшные силы, и если этот ящик Пандоры однажды открылся, как у Немовецкого, то его уже не закрыть. Солнце, являющееся наблюдателем и верным спутником героев Андреева, будто чувствует, в какой момент над разумом человека может начать властвовать тёмные силы подсознания.
В «Рассказе о семи повешенных» образ солнца предстаёт одновременно спутником и жизни, и смерти. Так, например, Янсон, ожидая казни, больше всего на свете хотел, чтобы солнце продолжало светить: «С наивностью дикаря или ребенка, считающих возможным все, Янсону хотелось крикнуть солнцу: свети!» [1, c. 422]. Ночь пугала его, по ночам он думал о предстоящей смерти, а день успокаивал, с появлением солнца туман ужаса рассеивался, но однажды он понял: «что смерть неизбежна и наступит через три дня, на рассвете, когда будет вставать солнце». То, что его успокаивало, должно его погубить. В главе «Я говорю из гроба» из черновой редакции «Рассказа о семи повешенных» Вернер пишет письмо перед казнью и там есть такие строки: «А теперь я, не больной и без жара, знаю, что через десять часов умру. Это невозможно. Тогда нужно уничтожить все часы и прекратить восход солнца. Во всяком случае, людей перед казнью – это практическое соображение, которое я усиленно рекомендую, – нужно два месяца держать в абсолютной темноте и в таких толстых стенах, чтобы времени совсем не слышно было. Нет, мысли у меня путаются, это не поможет, человек будет считать пульс и узнает время. Необходимо прекратить восход солнца» [1, URL]. Слова эти очень напоминают «Жизнь Василия Фивейского», а именно тот момент, когда они укрывают свой дом от всяческого попадания в него лучей солнца, тем самым становясь мертвецами и превращая дом в склеп и кликая на себя остальные беды. Вернер же пишет, что перед казнью нужно прекращать восход солнца, ибо оно является сильнейшим источником жизни, а люди, ощущающие свою скорую кончину, не могут выносить этого света. Но есть две большая разница между Василием и Вернером. Вернер знает наперёд, что завтра – смерть, и это оправдывает его, Василий же дразнил высшие силы, практически вынуждал мироздание послать ему смерть, укрываясь от восходов и лучей солнца, отрицая настоящую жизнь в её проявлениях.
В «Рассказе о семи повешенных» Цыганку предлагают роль палача и, представляя себя палачом, он видит: «Солнце освещает головы, весело поблескивает на топорике, и так все весело и богато, что даже тот, кому сейчас рубить голову, тоже улыбается» [1, с. 425]. И вот, казалось бы, солнце излучает такую радость, что даже казнённый улыбается, а жутко становится от такой радости и такого солнца.
«Завтра, когда будет всходить солнце, это человеческое лицо исказится нечеловеческой гримасой, зальется густою кровью мозг и вылезут из орбит остекленевшие глаза,− но сегодня она спит тихо и улыбается в великом бессмертии своем» [1, с. 435], − пишет Андреев о последней ночи Муси, представляя нам тьму как ложное бессмертие, после которого наступит правдивая и вечная смерть на фоне света. Однако один из героев чувствует накануне казни, будто от него отодрали солнце, Андреев снова меняет направление своей мысли и вновь делает солнце спутником жизни.
Завершается произведение жуткой сценой: тела казнённых везут обратно, а над морем восходит солнце: «Так люди приветствовали восходящее солнце» [1, с. 454]. И с одной стороны, люди ведь приветствуют этот восход, они радуются ему, и традиция солнце-радость продолжается, но на фоне семи мёртвых тел этот восход не кажется намёком на светлое будущее, солнце кажется светящейся громадиной, которую не волнуют трагедии людей.
В рассказе «Жили-были» дьякон, лежащий в больнице, слабел, но когда в палату проникало солнце, снова становился жизнерадостным, как прежде, однако стоило только солнцу покинуть пределы палаты, некогда радостный дьякон, сразу же затухал. Есть в рассказе сцена, в которой дьякон плачет, потому что ему «солнышка жалко», а Лаврентий Петрович сначала сердится на дьякона в свойственной ему манере, а потом и сам начинает плакать по солнцу, которое больше не увидит, вспоминает как светило солнце на его Волгу. Ночью он умирает. И получается, что воспоминание о солнце стало его последним воспоминанием перед смертью, воспоминанием, которое смогло сделать его человечнее хотя бы накануне кончины, воспоминание, которое заменило ему то ли исповедь, то ли покаяние. «Солнце всходило» – этими словами завершает Андреев свой рассказ, не давая ответы на вопросы, которые напрашиваются сами собой: а правда ли, что дьякон пошёл на поправку? Так ли здоров студент в финале или он только «как здоровый»? Возможно, дьякона всё ещё держит в этом мире его стремление к солнцу, и Андреев завуалированно повторяет свою мысль в очередной раз: если ты бежишь от солнца – оно тебя уничтожает, но, если ты стремишься к нему – у тебя появляется время.
В рассказе «Он, она и водка» герою многократно не везёт в любви, он знакомится, разочаровывается, пьёт и так по кругу много лет, пока однажды не встречает Её: «То было в лесу, в зелёном лесу. Ярко светило солнце, ласково шелестели вершинами деревья. И в ореоле солнечных лучей, в блеске и свете яркого дня явилась перед ним она – та, которую он искал, та, для которой безумною силой забилось его больное, измученное сердце» [1, с. 530]. Эта встреча так ярко описанная Андреевым и освещённая солнечным светом, стала роковой для героя и сделала его несчастным. Появившаяся, как мираж среди пустыни, она затуманила разум героя и в итоге стала причиной его сломанной жизни. Солнце одурманивает людей в произведениях Андреева и зачастую рушит всякую надежду на светлое будущее, так, например, в рассказе «Ангелочек» у Сашки не было большей радости, чем выпрошенная у богатой дамы ёлочная игрушка в виде ангелочка. И казалось бы обиженный жизнью мальчишка наконец счастлив, этого счастья в его жизни так мало, а тут один маленький ангелочек и больше ничего не надо. Сашка ложится спать и вешает ангелочка у горячей печи, и по мере того, как проходит ночь и приближается рассвет, ангелочек тает и к утру падает бесформенным слитком на пол.
Леонид Андреев жил и творил в страшное время, и узреть свет на рубеже веков, вероятно, было крайне тяжело. Андреев рушит традиционные понятия о тьме и свете, наделяя своё солнце пророческим даром, что многократно доказывается в его произведениях. Важно понять, что солнце не встало на сторону зла, оно продолжает оберегать тех, кто к нему устремлён, но оно может и отомстить тем, кто идёт против него. Андреев показывает нам горький реализм своего века: что бы ни случилось с человеком – это его личная трагедия, а огромное светило всегда продолжает всходить и заходить, вне зависимости от этих личных бед, потому что законы мироздания соблюдаются без участия человека и зависят только от высших сил.
Говоря о реализме Андреева, стоит отметить статью М. Неведомского «О современном художестве Л. Андреева», в которой отмечено: «Он представляет из себя какое-то соединение, какой-то сплав символизма с реализмом и даже грубым натурализмом» [6]. И действительно, невозможно однозначно отнести Андреева к какому-то определённому направлению, как и нельзя собрать в единое целое образ солнца в произведениях писателя. Ведь встаёт вопрос, почему солнце в его произведениях всё-таки оберегает тех, кто к нему устремлён и губит тех, кто от него отвернулся, но, как уже сказано выше, светило продолжает всходить и заходить, вне зависимости от личных бед и трагедий героев («равнодушная и слепая сила» Шайкевич М.О.) и, по сути, является нейтральным зрителем происходящего. А. Н. Веселовский в статье «Психологический параллелизм», подробно разбирая образ солнца, пишет: «Сопоставление, например, солнце = глаз (инд., гр.) предполагает солнце живым, деятельным существом; на этой почве возможно перенесение, основанное на внешнем сходстве солнца и глаза; оба светят, видят» [3]. И действительно, солнце у Леонида Андреева – это глаз, который всё видит и наблюдает за героями, а значит, оно является деятельным существом, которое имеет право на свою оценку и право на выбор, какую сторону принять. К тому же, как уже было сказано выше, не только и не столько карает солнце тех, кто совершает дурные поступки или ошибается, но оно будто чувствует тьму, исходящую из недр души человека, и само, вероятно, творит правосудие. Как видно, традиция, заложенная ещё древними людьми, продолжает свою жизнь на страницах произведений Леонида Андреева, но в уникальном, присущем только этому писателю, варианте.
Литература:1. Андреев Л. Полное собрание романов, повестей и рассказов в одном томе. М.: АЛЬФА-КНИГА, 2017. («Я говорю из гроба») URL: http://az.lib.ru/a/andreew_l_n/text_0400-1.shtml
2. Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян на природу: Опыт сравнительного изучения славянских преданий и верований в связи с мифическими сказаниями других родственных народов: В 3 т. – М.: Современный писатель, 1995, URL: http://slavya.ru/ trad/afan/
3. Веселовский А.Н. Психологический параллелизм и его формы в отражениях поэтического стиля. М.: Высшая школа, 1989, URL: http://az.lib.ru/w/weselowskij_a_n/text_0060.shtml
4. Ломоносов М.В. Утреннее размышление о божием величестве // М.В. Ломоносов. Избранные произведения. Л.: Советский писатель, 1986. (Библиотека поэта; Большая серия).
5. Минералова И.Г. «Анализ художественного произведения. Стиль и внутренняя форма». М.: ФЛИНТА, Наука, 2011.
6. Неведомский М. О современном художестве Л. Андреева. // Мир Божий, 1903.
7. Шайкевич М.О. Психопатологiя и литература. СПб.: «Типография Ц. Крайзъ, Театральная пл., №4», 1910.
The sun as an “active being” in Leonid Andreyev’s small proseAbstract. The article is devoted to the study of the image of the sun in the stories and novels of Leonid Andreyev. We will try to answer the question why the sun so often appears in Andreyev’s works as a companion of madness and death, but at the same time it can protect heroes from danger or warn them. Thanks to the research, we will see that the tradition, laid down in ancient times, continues his life on the pages of works by Leonid Andreyev, but in a unique, inherent only to this writer, version.
Keywords: Sun, Andreev, myth, mythology, death, light, higher powers, source, satellite.
Информация об авторе: Вартазарова Жаклин Артуровна, студент Института филологии МПГУ.
Information about the author: Vartazarova Zhaklin Arturovna Vartazarova, student of the Institute of philology, Moscow Pedagogical State University.
Специфика взаимодействия евангельских и фольклорных мотивов в творчестве А.Н. Башлачёва
Е.В. Летохо /Москва/, В.Ю. Свиридов /Москва/Аннотация. Статья посвящена актуальному вопросу взаимодействия фольклорных и евангельских мотивов в творчестве А. Башлачёва. В работе представлен краткий анализ смыслообразующих структурных элементов цикла песен автора. Особое внимание уделено специфике сочетания фольклорных мотивов, евангельских аллюзий, необходимых для понимания идеи исследуемых произведений. На основе анализа аллюзий и реминисценций, трансформированных фольклорных образов, паремий, фразеологизмов в текстах рок-поэта определены особенности его поэтики.
Ключевые слова: андеграунд, рок-поэзия, евангельские мотивы, фольклорные мотивы, паремии, фразеологизмы, аллюзии, реминисценции, эвфемизмы.
Творчество А.Н. Башлачёва, одного из самых ярких рок-поэтов советского андеграунда, достаточно изучено1, но на современном этапе возникает ряд вопросов, требующих более пристального рассмотрения. Речь, в частности, идет о специфике взаимодействия евангельских и фольклорных мотивов в поэзии автора, которым, на наш взгляд, в большинстве исследований не уделено должного внимания.
Представляется актуальным выявление подобной специфики в объединенных автором в единый цикл текстах: «Имя имен», «Вечный пост», «Тесто», «Пляши в огне», созданных «на метафорическом переосмыслении евангельских и фольклорных образов» [1, с.68]. В данной работе мы остановимся на двух первых произведениях цикла. Вышеназванные тексты создаются в период расцвета поэтического таланта А. Башлачёва и характеризуются прежде всего ярко выраженными евангельскими аллюзиями и их взаимосвязью с фольклорными мотивами.
Основные темы данных песен, лишенных примет церковного догматизма, – это предчувствие Апокалипсиса и призыв новой «горячей» веры взамен обветшалой «холодной».
Обращение к фольклору у рок-поэта довольно разнообразно: «это и частушка, как в «Ванюше» или других песнях, былина («Егоркина былина»), это характерные «узнаваемые образы» дороги, лиха, мельницы, коня, метели, «молодой», это «переосмысленные, народные речения и устойчивые обороты», и это, как метафорически отмечает исследователь, «на свой собственный ранжир измеренная мера Веры, понятая <…> через фольклор и русскую поэзию» [2, с. 55-63].
Александр Башлачёв искал новые способы самовыражения в фольклоре: использовал в текстах частушки собственного сочинения, традиционные фольклорные образы, перефразированные паремии. Примечательна в этом плане прежде всего песня «Имя имен»: здесь евангельские мотивы, взаимодействуя с мотивами фольклорными, создают некое семантическое «ядро» текста. Евангельские мотивы в песне угадываются с первых строк, несмотря на используемый эвфемизм:
«Имя имен в пеpвом вопле пpизнаешь пpизнаешь ли ты, повитyха?/ Имя имен…/Так чего ж мы, смешав языки, мyтим водy в pечах?» [3, с.152]
Автор чётко выражает свою позицию: если человек признает Имя имен, как иносказательно называет он Иисуса Христа, стоит ли нарушать третью заповедь, вносить смуту в отношения между людьми, что-то оспаривать, когда люди и так наказаны за своё высокомерие смешением языков. «Башлачёв ищет новые имена, чтобы «спасти», «воскресить» Бога для своего «времени колокольчиков», когда «небо в кольчуге из синего льда», когда «не слышны стоны краденой иконы»…» [1, с.70]. Доказательством того, что Имя имён – Христос, являются строки: «Имя имён ищут сбитые с толку волхвы». Мотив Рождества в песне закономерно отсылает нас к Новому Завету. Окончательным подтверждением мысли о том, что эвфемизм названия – аллюзия именно к Христу, могут служить слова Апостола Павла: «Посему и Бог превознес Его и дал Ему Имя паче всякого имени, дабы перед Именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних» (Фил. 2, 9-11), [4].
В исследуемом тексте мотивы о рождении мессии причудливо соединяются с рассказом о витязе, затевающим бой, про разгулявшийся «на печи пожар-самовар», про обращенные поклоны к девице-Маше: «А на печи разгулялся пожар-самовар да заварена каша./Луч – не лучина на белый пуховый платок» [3, с.153]. В песне также встречаются лексемы, обозначающие реалии крестьянской жизни: самовар, каша, лучина.
«Имя имён» было создано А. Башлачёвым до начала глобальной перестройки общества, до отказа М. Горбачевым от политики государственного атеизма.
Очевидно, в произведении читается социально-политический контекст: его строки можно трактовать как мысль о неистребимости веры в условиях насаждаемого отказа от веры в Бога. По мысли А. Башлачёва, Бог не заперт в церкви и неистребим в сердцах людей, Он повсюду:
«Имя Имен взято ветpом и пpедано колоколам.
И кyполам не накинyть на Имя Имен золотyю гоpящyю шапкy» [3, с.153]
Свидетельство гражданской жены А. Башлачёва, Анастасии Ралиной о (поэт часто ходил в церковь, читал Библию и знал наизусть Евангелие, которое всегда носил с собой) [5] помогают понять подтекст следующих строк:
Имя Имен/Да не отмоешься, если вся кровь да как с гуся беда и разбито корыто. /Вместо икон станут Страшным судом – по себе – нас судить зеркала [3, с.153].
Строка о зеркалах является аллюзией к притчам Соломона: «Как в воде лицо – к лицу, так сердце человека – к человеку» (Притч., 27:19) [6], таким образом, один человек должен быть другому зеркалом. Учитывая социально-политический аспект песни, несложно прийти к заключению: глубоко верующий автор обращается к атеистам. Кровь Христа «как с гуся беда», спаситель остался “у разбитого корыта”, но Страшного суда не избежать – судить людей, «не признавших Имя Имен» будут собственные друзья.
Устойчивое выражение «как с гуся вода», использовавшееся ранее в заговорах для лечения болезней, со временем начало употребляться в отношении человека, которого не берут беды, либо которому все поступки сходят с рук. А. Башлачёв, следуя, «на свой ранжир» созданной мере, обыгрывает фразеологизм. Разбитое корыто, очевидно, символизирует разбитые надежды.
Заканчивается стихотворение строкой «Да сходил бы ты по водy, мил человек!». Близкое к риторическому восклицание тоже служит своего рода отсылкой к Евангельскому тексту (теме Крещения прежде всего);
Поэт соединяет фольклорные и евангельские мотивы воедино, используя их таким образом, что они зависят один от другого, дополняют друг друга. Благодаря подобному приему, создается впечатление, что действие происходит в Древней Руси.
В другой песне цикла, «Вечный пост», народные, практически сказочные мотивы (посох, путь) причудливо сочетаются с Евангельской по сути своей миссией героя:
«Засучи мне, Господи, рукава!Подари мне посох на верный путь!Я пойду смотреть, как твоя вдоваВ кулаке скрутила сухую грудь. [3, с.148]Фразеологизм засучить рукава является синонимом усердного труда. Просьба лирического героя песни просит подарить ещё и посох, что отсылает к святому Иакову, одному из первых учеников Христа [7].
Во второй строфе привлекает внимание необычное по семантике словосочетание постные сухари: Отнесу ей постные сухари/ Раскрошу да брошу до самых звезд. / Гори-гори ясно! Гори…/ По Руси, по матушке – Вечный пост [3, с.149]
Известное всем значение народных выражений (сушить сухари – готовиться к ссылке, тюрьме), узнаваемые аллюзии к малым жанрам фольклора соседствуют здесь, по сути, с Богоборческими мотивами.
«Вечный пост» – «отчаянный вызов Богу, безрассудное требование «посмотреть» на страдания Руси-вдовы, потом – на унижения России-сестры. В словах и интонациях песни – мучительное, скрытое обвинение» [1, с.71]
Хлебом с болью встретят златые дни.Завернут в три шкуры да все ребром.Не собрать гостей на твои огни.Храни нас, Господи!Храни нас, покуда не грянет Гром! [3, с.150]Несмотря на то, что церкви не наполняются людьми, лирический герой просит хранить всех нас, до момента «Грома». Под словом гром в данном контексте подразумевается Второе пришествие Иисуса Христа, имеется в виду глас трубы с неба, превосходящий всякий гром. Подтверждение этому находим в «Слове на Второе Пришествие Господа нашего Иисуса Христа» Преподобного Ефрема Сирина. Учитель Церкви, пишет: «Нередко ныне бывает, что если сильнее обыкновенного блеснет молния, то всякого человека приводит она в ужас, и все преклоняемся к земле. Как же тогда перенесем, как скоро услышим глас трубы с неба, превосходящий всякий гром, взывающий и пробуждающий от века уснувших праведных и неправедных?» [1, с.71]. Именно поэтому рок-поэт использовал с заглавную букву при написании слова гром.









