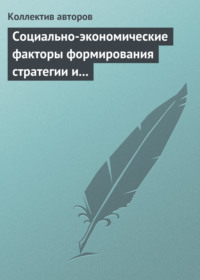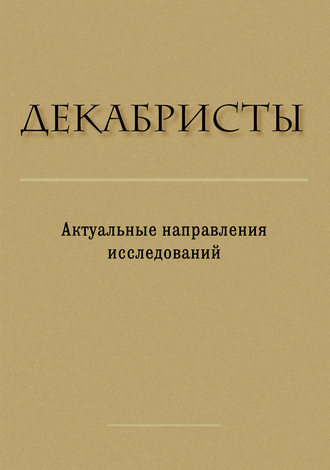
Полная версия
Декабристы. Актуальные направления исследований
Для Лунина важно было утвердить сам принцип конституционного строя в России, а потом его уже дорабатывать. Пестель же хотел сначала всё приготовить, а потом внедрять заготовленное в жизнь, чтобы иметь гарантии, что всё пойдет по задуманному плану. Б. Е. Сыроечковский справедливо заметил по этому поводу: «В таком единовременном декретировании новых отношений, возможность которого у него не возбуждала сомнений, Пестель видел гарантию от тех “беспорядков”, “междоусобий” и “ужасных происшествий”, которые смущали его во французской революции. Позднейшей “мысли” о необходимости длительного срока для перехода к новым порядкам и о сосредоточении на этот период власти в руках временного правления», – он, по его словам, «еще не имел»[246].
Итак, внешне план Лунина напоминал обычный дворцовый переворот, но важна суть его замысла: после смерти императора его преемник должен будет ввести конституцию, и его власть будет ограничена. В этом отличие и в этом революционность предложения Лунина.
Лунин, выбирая способ осуществления целей тайного общества, исходил из условий, в которых оно находилось. В 1816 г. в Союзе спасения было всего около трех десятков человек, и рассчитывать на открытое выступление, тем более на восстание, не приходилось. Наличными силами можно было организовать нападение и убийство царя. К тому же примером из недавнего прошлого была ночь с 11 на 12 марта 1801 г., когда успешно осуществленный заговор ускорил замену одного монарха другим. Поэтому нет ничего удивительного в том, что план Лунина очень напоминал дворцовый переворот, который легко было подготовить и осуществить силами тайного общества, но цели этого переворота были совсем другие, они связывались с ограничением самодержавия.
По всей видимости, предлагая свой план, Лунин учитывал и следующее обстоятельство: после смерти Александра I ему наследует его брат Константин Павлович, и, вероятно, декабрист считал, что цесаревича легко можно будет заставить принять конституцию. Служа в Кавалергардском полку, шефом которого был Константин, Лунин мог узнать великого князя достаточно близко. Есть версия, что будущий революционер не побоялся принять вызов на дуэль, которую наследник российского престола предложил офицерам полка[247].
Примечательно, что Лунин предлагал партии цареубийц надеть маски, т. е. он хотел остаться неузнанным сам, и чтобы никого из членов общества не узнали. По-видимому, он справедливо считал, что брат убитого царя не станет разговаривать с заговорщиками, тем более о введении конституционного строя.
Современные исследователи М. П. Одесский и Д. М. Фельдман отмечают: «Маски – деталь весьма важная. Не уголовной ответственности боялись заговорщики, а компрометации»[248]. Это заключение оспорил в своих работах В. С. Парсамов. Он считает, что «значение масок в данном случае не функциональное, а символическое. Вместе с кинжалом они образуют атрибуты трагедии. Вызываясь на цареубийство, Лунин мыслит себя героем великой трагедии, в которой ему предстоит сыграть роль тираноборца, а Александру I отводится роль тирана»[249].
М. П. Одесский и Д. М. Фельдман никак не связывают план Лунина с тираноборчеством. Действительно, для тираноборческого акта в нем много несообразностей. Во-первых, он не соответствовал классическому ритуалу, по которому убийце следовало оставаться на месте и принять заслуженную кару. По плану Лунина, участники покушения должны были исчезнуть. Во-вторых, тираноборцу незачем скрывать свое лицо, ведь он освободитель отечества – герой. В-третьих, Александр I очень мало вязался с образом тирана. В-четвертых, место покушения – дорога – придавало цареубийству скорее характер разбойного нападения, чем тираноборческого акта. И последнее, Лунин прямо связывал свое предложение с задачами тайной организации, не предлагая немедленного действия, тираноборец же себе этого позволить не мог, так как откладывать убийство тирана означало усугублять страдания народа.
Но значило ли всё это, что Лунин не мыслил себя тираноборцем? Думается, что нет. По воспоминаниям Н. Н. Муравьева, воевавшего вместе с ним на полях Отечественной войны 1812 г., Лунин однажды прочел своему другу «заготовленное им к главнокомандующему письмо, в котором, изъявляя желание принести себя на жертву отечеству, просил, чтобы его послали парламентером к Наполеону с тем, чтобы, подавая бумаги императору французов, всадить ему в бок кинжал. Он, – пишет мемуарист, – даже показал мне кривой кинжал, который у него на этот предмет хранился под изголовьем. Лунин точно бы сделал это, если б его послали, но, думаю, не из любви к отечеству, а с целью приобрести историческую известность»[250].
Комментируя этот отрывок, М. П. Одесский и Д. М. Фельдман пишут: «Удар кинжалом, когда его наносит парламентер, – типичное вероломство. Но Муравьев отнюдь не осуждает боевого товарища. Наполеон – узурпатор, тиран, потому кинжал и самоотвержение Лунина уместны. Противореча одному кодексу – воинской чести, будущий декабрист действовал бы в полном согласии с другим, тираноборческим»[251].
Свидетельство Н. Н. Муравьева указывает именно на тираноборческий характер предполагаемого покушения. Во-первых, кинжал – обязательный атрибут тираноборца; во‑вторых, налицо желание принести себя в жертву; в‑третьих, именно любовь к отечеству и стремление войти в историю определяют помыслы монархомаха.
С. Б. Окунь утверждал: «Лунинский проект покушения на жизнь Александра по своим исходным моментам ничего не имел общего и с теми планами убийства Наполеона, которые вынашивались им же в начале войны 1812 года»[252]. Мы полагаем, что между ними все-таки было много общего. Пестель в своем показании о плане покушения на Царскосельской дороге ничего не говорит о кинжалах в руках партии цареубийц, но значит ли это, что их не было? Ему запомнилась другая деталь – маски на лицах. Видимо, наличие кинжала как естественного и непременного атрибута покушения на царя-тирана его не удивило, а вот маски были необычны в данном случае, они действительно вносили некий театрализованный элемент в план Лунина. Возможно, именно поэтому его предложению и не придали тогда большого значения.
Известно, что Лунин искал способ прославиться: его проделки во время службы в гвардии, его бретёрство, намерение отправиться в Южную Америку в армию Симона Боливара, чтобы сражаться за независимость этого континента, или написать книгу о Лжедмитрии[253] доказывают это. Участие в тайном обществе и вызов на цареубийство давали такую возможность[254]. Предлагая свои «решительные меры»[255], Лунин, несомненно, видел себя тираноборцем, героем трагедии, местом действия которой, как указал В. С. Парсамов, «является авансцена Истории»[256].
Но истребление тирана, по мнению Лунина, было мерой недостаточной. Он соотносил свои планы с целями тайного общества, и идея ограничения самодержавия не была ему чужда. Императора Александра I необходимо было убить не только потому, что он как царь-самодержец являлся потенциальным тираном[257], – его смерть открывала путь к введению в России конституционного правления.
Планируя политическое действие, Лунин исходил из реальных возможностей тайного общества и соотносил их с теми задачами, которые им были поставлены. Для их решения подходила традиционная тактика заговора, которая не исключала использования тираноборческой модели для оправдания цареубийства.
Несмотря на то, что идея Лунина первоначально не нашла поддержки членов тайного общества, несомненно, она повлияла не некоторых из них, – и прежде всего на Пестеля.
Встреча в 1817 г. с П. А. Паленом, главой заговора против Павла I, убедила Пестеля в эффективности методов, которые предлагал Лунин[258]. М. П. Бестужев-Рюмин показывал на следствии: «Издавна Пестель был того мнения, что политический переворот в России должен… начаться заговором, приведенным в исполнение шайкой отважных людей…» (IV, 137). Сам Пестель признавался, что «ежели таковая партия была составлена из отважных людей вне [тайного] общества, то сие бы еще полезнее было, и точно разделял при этом действие революции на заговор и переворот или собственно революцию» (IV, 179–180).
Тактика, предлагаемая Пестелем, таким образом, усложнилась. Организовать заговор – убийство монарха необходимо. Это если и не принесет желаемых результатов, зато создаст ситуацию, удобную для захвата власти. Переворот, непосредственный захват власти, в данном случае был возможен или при наличии сильного и многочисленного тайного общества, имеющего своих представителей в государственных структурах, или при поддержке армии. С последним пунктом была связана идея «военной революции».
Эта идея была широко распространена среди членов тайного общества. Она возникла в 1820 г. под влиянием успеха европейских революций такого типа[259]. Однако, как заметил В. В. Пугачев, «военная революция неодинаково понималась разными декабристами». Например, М. Ф. Орлов мыслил ее как «генеральский переворот», произведенный популярным военачальником при поддержке тайного общества[260]. С. И. Муравьев-Апостол и М. П. Бестужев-Рюмин предполагали, что удастся «двинуться с одной значительной массой» войск, увлечь за собой всю армию, а затем, не встречая сопротивления, подойти к столице и продиктовать свою волю[261] (XI, 177). К. Ф. Рылеев, по свидетельству Д. И. Завалишина, считал, что переворот «должен быть сделан гражданским состоянием» (III, 371) при поддержке военных частей[262]. Н. И. Тургенев мыслил «военную революцию» как восстание войска, руководимого тайным обществом. П. И. Пестель был убежден, что переворот надлежало начинать в Санкт-Петербурге убийством императора, заговором против правительства, опираясь на гвардию; армия выполняла вспомогательную роль (IV, 102–103).
Идея «военной революции», таким образом, потеснила концепцию заговора в тактических планах многих декабристов. Элемент заговора остался лишь в проектах П. И. Пестеля.
Н. И. Тургенев позднее в своей «оправдательной записке», рассуждая о связи революций в Испании и Италии с восстанием 1825 г. в Петербурге и во 2-й армии, писал: «Неудивительно, что эти события (европейские революции – Д. А.) нашли отклик в русской армии, не стоит удивляться и тому, что они встретили там известное сочувствие… сие сочувствие определенным образом изменило взгляды русских на революцию. Ранее в России известны были лишь дворцовые перевороты, теперь же русские, похоже, стали отдавать предпочтение переворотам, производимым средь бела дня»[263].
Здесь Н. И. Тургенев доказывает, что только опыт европейских событий 1820-х гг. убедил декабристов воспользоваться тактикой испанских, итальянских, португальских и греческих революционеров. Их тактика противопоставлялась тактике русских заговорщиков XVIII в.
Но всё же нельзя отрицать факта влияния традиции дворцовых переворотов на восприятие декабристами идеи «военной революции», и не только в случае с П. И. Пестелем.
Так, Д. И. Завалишин в своих воспоминаниях писал, что декабристы, исследуя «происхождение разных правительств в России», видели «целый ряд революций, и притом при полном безучастии народа, и совершаемых большею частью военною силою, как было при воцарении на престол Екатерины I-ой, при свержении Бирона, регентши и Петра III. Все эти примеры показывали, что вся Россия повиновалась тому, что совершала военная сила в Петербурге, и признавала это законным – и потому несправедливо, во‑первых, чтобы военные революции в Испании, Португалии и Италии определяли характер тех средств, которыми тайные общества в России намерены были совершить переворот, – во‑вторых, чтобы крайние средства были заимствованы из европейских революционных идей, а не из своей собственной истории»[264].
В «военной революции» декабристов привлекала возможность проведения переворота без участия народных масс, что позволило бы избежать кровопролития. Это подтверждается словами М. П. Бестужева-Рюмина, который, говоря о революции в России, полагал, что «она не будет стоить ни одной капли крови, ибо произведется одною армиею, без участия народа…»[265].
Но и в дворцовых революциях XVIII в. народ не участвовал, и не всегда они носили кровавый характер. А. Ф. Бриген отмечал, что свергнуть с трона Петра III «удалось без малейшего кровопролития, чем этот coup d’etat и отличается от всех прочих, произведенных когда-либо во дворцах, теремах и на площадях…»[266] Конечно, Бригену было известно, что на восьмой день после отречения император Петр III был задушен, но «кровь, – саркастически замечает он, – все-таки не была пролита!»[267]
Заговор, направленный на устранение первого лица в государстве, позволяет свести до минимума число жертв при захвате власти, что было очень важно для декабристов, стремившихся не допустить в России разгула убийств, как во времена Французской революции.
Накануне 14 декабря 1825 г. споры о форме переворота были очень актуальными, предлагались и рассматривались различные варианты. В общем, набор альтернатив был не так уж велик. Их можно выделить три: народное восстание, заговор или военная революция.
Под народным восстанием подразумевался переворот с опорой на городскую «чернь». А. И. Якубович предлагал «разбить кабаки, позволить солдатам и черни грабеж, потом вынести из какой-либо церкви хоругви и идти ко дворцу» (I, 188), а Г. С. Батеньков, по свидетельству С. П. Трубецкого, говорил тогда: «Надобно и в барабан приударить, потому что это сберет народ»[268] (I, 66). Но такой способ был очень опасен. В. И. Штейнгейль доказывал К. Ф. Рылееву, что «в России революция в республиканском духе еще невозможна; она повлекла бы за собою ужасы. В одной Москве из 250000 тогдашних жителей 90000 было крепостных людей, готовых взяться за ножи и пуститься на все неистовства». Поэтому он советовал «прибегнуть к революции дворцовой и провозгласить императрицею Елизавету»[269], жену Александра I. Это свидетельство подтверждается показаниями П. Г. Каховского: «Предполагалось, – пишет он, – в первых днях по известии о кончине императора, если цесаревич откажется от престола, или если здесь успеют, то истребить царствующую фамилию в Москве в день коронации; сие тоже говорил Рылеев, а барон Штейнгейль сказал: “Лучше пред тем захватить их всех, у всенощной в церкви Спаса за Золотой решеткой”. Рылеев подхватил: “Славно! Опять народ закричит: «Любо! Любо!» В Петербурге все перевороты происходили тайно, ночью”» (I, 376).
Таким образом, незадолго до решающих событий декабристы рассматривали заговор как вполне действенный вариант захвата власти, но, как известно, ими была предпринята попытка совершить переворот силами гвардейских частей.
Неприятие бунта «черни» объяснялось декабристами нежеланием «употреблять низкие средства» (I, 270). Отрицание тактики заговора было обусловлено, собственно, тем же. Дворцовым переворотам, «совершенным во мраке», противопоставлялось открытое выступление тайного общества. М. С. Лунин писал: «Воцарение императора Николая, напротив, ознаменовалось событием, носящим характер публичного протеста против произвола»[270]. Это противопоставление было чисто внешним: осуществление заговора происходит тайно, действие же декабристов – явное. Н. И. Тургенев писал об этом: «Впервые в этой стране люди, задавшись целью насильственным путем изменить существующий строй, не напали под покровом ночи на государя, а открыто подняли знамя восстания. Очевидно, что в 1825 г. восставшие хотели отступить от старых русских традиций; сам факт восстания является тому доказательством: оно вспыхнуло средь бела дня…»[271]
Противополагая русскую традицию дворцовых переворотов восстанию 14 декабря 1825 г., Н. И. Тургенев, М. С. Лунин, К. Ф. Рылеев осмысляют это противопоставление в бинарной оппозиции ночи и дня. То, что совершено ночью, скрытно – неприемлемо, а то, что сделано днем – благородно, возвышенно и более всего соответствует природе декабристского движения. Ночь – время заговорщиков прошлого столетия, революционеры новой эпохи действуют в светлое время суток. Этим подчеркивается их основное различие: темные, своекорыстные интересы первых и светлые мотивы вторых.
«Организаторы восстания, – писал Н. И. Тургенев, – конечно, знали, на что шли; потерпев неудачу, они могли упрекать в ней только себя и сами несли ответственность за свой замысел. Если бы человеческое правосудие покарало их на законном основании, никто не стал бы протестовать; быть может, сами жертвы, даже перед угрозой эшафота, не стали бы сожалеть, что предпочли восстание средствам борьбы, применявшимся ранее, хотя в прежние времена цареубийцы за свое преступление получали в награду и богатства, и почести»[272].
В этом отрывке явно прослеживается стремление Тургенева использовать тираноборческую модель для оправдания восстания декабристов. Восставшие у него – жертвы, которым предстоит взойти на эшафот и умереть за свое преступление. Судить их должны, опираясь на закон, который они нарушили, дабы «человеческое правосудие» восторжествовало. На этом основании заговорщикам XVIII в. было отказано в праве именоваться тираноборцами, так как они не понесли никакого наказания, а получили награды и почести. Отсюда и негативное отношение к дворцовому заговору, как факту русской истории, которому противостоит восстание 14 декабря 1825 г.
У В. И. Штейнгейля это выражено еще более отчетливо: «В окраины царствования Александра стали вечными терминами – ненаказанность допущенного гнусного цареубийства и беспощадная кара вынужденного, благородного восстания – явного и с полным самоотвержением»[273].
Таким образом, противопоставление в сочинениях декабристов заговора тираноборческому акту, к которому приравнивалось и восстание декабристов, выражалось в следующем: 1) заговор совершается тайно, ночью, тогда как восстание и убийство тирана днем, явно; 2) заговорщики не несут наказания, тираноборец же обязательно должен погибнуть – он жертвует своей жизнью; 3) восставшие, как и тираноборец, стремятся установить закон, заговорщики же его нарушают; 4) цели и мотивы заговорщиков – своекорыстные, отвратительные; тираноборцев, наоборот, – благородные.
Итак, подводя итог, необходимо отметить: заговор как форма политической борьбы был приемлем и для декабристов. Практика дворцовых переворотов подсказывала наиболее эффективные способы захвата власти, не прибегая к помощи народа, что позволяло избежать большого кровопролития. Элемент заговора сохранялся и в теории «военной революции», как ее восприняли декабристы. Незаконность вступления на престол почти каждого монарха из династии Романовых, нелегитимность их власти служили оправданием для декабристов, стремящихся произвести государственный переворот. В то же время монархические цели заговорщиков XVIII столетия безоговорочно отрицались, им были противопоставлены конституционные идеи декабристского движения. Противопоставление производилось в форме антитезы: заговор – тираноборчество, и если заговорщикам прошлого было отказано в праве именоваться тираноборцами, то восстание декабристов приравнивалось к тираноборческому акту. Тираноборческая модель политического действия использовалась М. С. Луниным в его плане заговора (покушения на императора), но вместе с тем он определенно связывал свое намерение с целями и задачами тайного общества.
Декабризм и Речь Посполитая
М. М. Сафонов
Название этой статьи не может не вызвать удивления. Когда существовала Речь Посполитая, никакого декабризма еще не было. Когда же возник декабризм, Речи Посполитой уже не было. Но эти два предмета связаны между собой теснейшим образом. Многообразное влияние польской культуры на Россию проявилось, в частности, и в том, что Речь Посполитая самим фактом своего исторического существования явилась одним из тех факторов, которые породили декабризм. Как это ни покажется парадоксальным на первый взгляд, но декабризм возник прежде всего для того, чтобы не дать возможности только что созданному Королевству Польскому вновь стать Речью Посполитой.
Официальной датой образования первого декабристского общества – Союза спасения – считается 9 февраля 1816 г. Ее назвал один из основателей тайного общества С. П. Трубецкой на первом же допросе в Следственном комитете по делу декабристов[274]. Четверть века спустя он повторил ее в своих «Записках»[275]. Трубецкой был единственным человеком, который назвал месяц и число – точную дату, когда образовалось тайное общество. Поскольку все декабристские юбилеи отсчитывались от известных событий на Сенатской площади 14 декабря 1825 г., никто никогда не придавал точной дате образования Союза спасения серьезного значения. Хотя тот факт, что Трубецкой десять лет спустя мог назвать дату с точностью до дня, не может не привлечь к себе пристального внимания и требует объяснения. Очевидно, один из основателей декабристской конспирации запомнил точную дату потому, что в этот день произошло что-то очень важное. И оно было связано с образованием тайного общества. Как это ни покажется странным, но ни один ученый не задавался вопросом, что же такого произошло в этот день. Между тем, это «что-то» служит ключом для понимания того, что побудило офицеров гвардии, принадлежавших, что называется, к сливкам общества, создать тайное общество и назвать его Союзом спасения. Кого и от чего юные гвардейцы, прошедшие горнило наполеоновских войн, собирались спасать?
Оказывается, событие, послужившее толчком к образованию декабристской конспирации, имело непосредственное отношение к Царству Польскому. Точнее говоря, оно явилось важным моментом в истории сложных русско-польских отношений.
8 февраля 1816 г. Александр I подписал указ, который в Полном собрании законов обозначен так: «Об определении в Виленской губернии и в других губерниях исправников и заседателей земских судов по выбору дворянства»[276]. На первый взгляд, этот указ – одно из рутинных распоряжений правительства, ничего важного в себе не заключающих. Однако это далеко не так. Новый закон очень больно бил по интересам русского дворянства и мог быть воспринят чуть ли не как предательство национальных интересов России. В указе речь шла о русско-польских губерниях, присоединенных к России в результате разделов Польши. В 1802 г. там был установлен порядок, на основании которого на этих территориях со смешанным населением заседатели в земских судах и земские исправники должны были не выбираться дворянством этих губерний, как это предписывалось во всей империи «Учреждением об управлении губерний», а назначаться правительством. Понятно, что таковые назначения позволяли лучше отстаивать интересы российского населения. 8 февраля 1816 г. законодатель отменил этот порядок. Царь мотивировал это тем, что опыт показал: назначаемые правительством чиновники не знают местных особенностей и не могут успешно выполнять возложенные на них функции. На практике это означало, что суд и расправа в русско-польских губерниях передавалась в руки поляков. Численное превосходство польского дворянства на этих территориях гарантировало обеспечение, прежде всего, польских интересов.
Но могло ли это, пусть и значительное само по себе, событие повлечь образование декабристской конспирации? Чтобы ответить на этот вопрос необходимо рассмотреть этот указ через призму русско-польских отношений второго десятилетия XIX в.
Как известно, в противостоянии александровской России и наполеоновской Франции Польша являлась разменной картой, и вопрос о восстановлении польского государства делал ее картой козырной. После разгрома Наполеона по инициативе Александра I на Венском конгрессе из большей части Герцогства Варшавского, созданного французами, было образовано Королевство Польское, которое стало частью Российской империи и было накрепко связано с ней одной правящей династией. 21 апреля (3 мая) 1815 г. Россия подписала два трактата – один с Австрией[277], другой с Пруссией[278]. Варшавское герцогство под именем Царства (Королевства) Польского навсегда объявлялось владением российского императора, принявшего титул царя (короля) польского, его наследников и преемников (ses héritiers et successeurs). 9 (21) мая 1815 г. манифест Александра I известил поляков о присоединении к России Герцогства Варшавского и создании Царства Польского[279]. 13 (25) мая об этом было объявлено полякам[280]. 28 мая (9 июня) 1815 г. был подписан заключительный генеральный акт Венского конгресса. 1-я статья акта буквально воспроизводила формулировки трактатов, заключенных Россией с Австрией и Пруссией относительно Царства Польского. В частности, здесь говорилось: “Sa Majeste Imperiale se réserve de donner à cette Etat joussant d’une administration distincte, l’extension intérier qu’elle jujera convenable”[281]. В манифесте, объявившем российским подданным об акте Венского конгресса, это выражение было передано так: «Его императорское величество предполагает даровать по своему благоусмотрению внутреннее распространение сему государству, имеющему состоять под особым управлением»[282].
Выражение “l’extension intérier”, то есть «внутреннее распространение», было неопределенно и двусмысленно. Можно было увидеть в нем расширение прав особого управления этой части России, то есть большей самостоятельности, или же обещание дальнейших территориальных приращений только что созданного государства. Но большинство современников увидели в этой фразе право императора и польского короля расширять территорию Королевства Польского за счет его собственных владений[283].