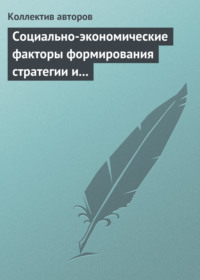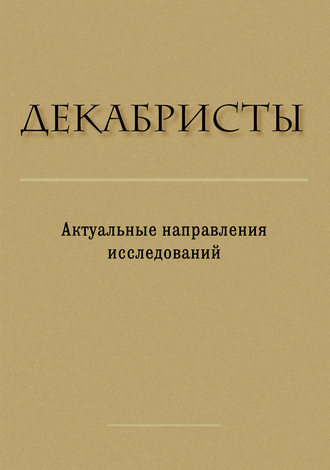
Полная версия
Декабристы. Актуальные направления исследований
6. Свобода вероисповедания. В «Манифесте» С. П. Трубецкого четвертым пунктом объявляется «свободное отправление богослужения всем верам»[165]. Такие мыслители, как М. С. Лунин или М. Ф. Орлов, захваченные индивидуальным религиозным чувством, рассуждали о близости принципов раннего христианства идеям либерализма. Однако в массе своей декабристы остались равнодушны к религиозной составляющей реформирования общества.
7. Национальное самоопределение. В проектах П. И. Пестеля можно найти противоречивые идеи о переселении евреев из России (правда, с перспективой создания национального еврейского государства на исторической территории), лишении политических преимуществ поляков, в случае если они не поддержат дело «тайного общества», псевдорусские языковые опыты, которые придают политической терминологии «Русской Правды» националистический окрас. Зато идеи федерализма, переведенные в практическую плоскость, питают проект Н. М. Муравьева и отражаются в документах Общества соединенных славян. Но и «славяне», и даже Муравьев в последних редакциях своего проекта не понимают федерализм как право на свободу для национальных меньшинств. У Н. М. Муравьева развернута вполне утилитарная конструкция 14 самоуправляющихся «держав», в основу которой положен не национальный, а территориально-административный принцип, заимствованный из государственного устройства США.
8. Представление о необходимости индивидуальной (личной) свободы. Обоснование нераздельности индивидуальной (гражданской) и политической свободы при подчиненном значении последней приобрело завершенность в публицистических выступлениях Б. Констана. В центре политической философии Констана – интересы отдельной личности, индивидуальности, и это составляет центральную идею либерализма. Преимущество, определенное либеральными институтами для отдельной личности в современных условиях, – это обеспеченное гарантиями преимущество быть представленным в государственных делах, участвовать в них, производя свой выбор[166]. И. Д. Якушкин вспоминал, что в откровенных разговорах многие члены тайного общества стремились порицать не только политические «язвы Отечества», но и «явное неуважение к человеку вообще»[167]. Вместе с тем, несмотря на подобные суждения, индивидуальная свобода не понималась как самостоятельная цель политических реформ.
Некоторое невнимание к этой стержневой идее либерализма, возможно, объясняется имевшимся ощущением громадного культурного разрыва между Россией и Европой. «Противоположность нашего государственного быта, ничтожество наших народных прав, – писал С. Г. Волконский о времени окончания заграничных походов и возвращения русских офицеров на родину, – резко выказались уму и сердцу многих»[168]. Отсюда – выдвижение либеральной программы-минимум: как можно быстрее приблизить «государственный быт» (т. е. политическое устройство) к идеалу, чтобы потом, быть может, в течение десятилетий, Россия двигалась к подлинному «гражданскому быту». Именно поэтому в области политических форм (монархия или республика) различия толкований, столь удивлявшие декабристоведов, не столь важны. Для России речь идет не о реальном уравнении всех в гражданских правах с соответствующими гарантиями, и даже не о реальных выборах «президента республики», а о создании механизма политического представительства, ускоряющего гражданское развитие, социальную унификацию.
Декабристы оказались восприимчивы в основном к политической программе либералов, и то очень избирательно, применительно к российским условиям, готовы были вводить ее элементы. «Гражданская свобода», которая уже в проектах М. М. Сперанского не смешивается с политической (вернее, политическая устанавливается как условие гражданской), ее формы и ее гарантии специально декабристами не обсуждаются.
Исключения в декабризме, конечно, были: не все принимали приоритет конституционных реформ перед социальными. О позиции Н. И. Тургенева, горячего сторонника программы освобождения крестьян раньше установления представительного правления, написано достаточно[169]. А. А. Тучков, бывший член Союза благоденствия, в 1825 г. на совещании в Москве заявил: «Мы говорим о конституции для России, но не видим еще примера фермы для возделывания земли свободными людьми и способа управления оными»[170].
Отмечая нечеткость представлений декабристов о том, установление каких свобод приоритетно для России, в сравнении с классической либеральной доктриной идеального политического устройства легче понять механизм деформации либеральных настроений членов тайных обществ в 1818–1821 гг. (время Союза благоденствия) в настроения политического заговора. Для большинства вышедших на площадь 14 декабря серьезным побудительным мотивом этой акции оказалась перспектива «в один день» решить проблему «конституции», то есть нового государственного устройства, путем давления на правительство или путем его устранения. Эта тактика совершенно противоположна тактике французских либералов, мастеров парламентской борьбы и литературной полемики. Однако она близка тактике участников военных заговоров во Франции 1820–1823 гг., избравших путь радикального политического действия под либеральными лозунгами, но потерпевших поражение. Революционные «клубы» в разных городах Франции, преследуемые правительством, представляли собой радикальное крыло во французском либерализме, но размежевались с парламентской оппозицией[171].
В то же время, выясняя отношение декабристов к политической доктрине французского либерализма, их нельзя выделить из массы образованных, либерально мыслящих дворян, «русских европейцев», «либералистов» (П. А. Вяземский, братья Тургеневы, П. Б. Козловский, десятки других). Поэтому, характеризуя политическую программу декабристов, мы говорим об общей «либералистской» платформе, подобно тому, как во Франции у либералов парламентских и непарламентских (заговорщиков), как и у деятелей испанской «либеральной революции» 1821–1823 гг. была общая политическая база. Другое дело, что приверженность тех и других идеям либерализма могла быть более и менее последовательной. Мы пытаемся показать, что участники российских тайных обществ не были последовательными либералами даже не в силу приверженности тактике революционного (радикального) действия, а по системе воззрений, недостаточно последовательных.
Почти для всех названных «либералистов» этого «тургеневского круга» характерно преклонение перед английской политической системой, обеспечивающей человеку максимальное благосостояние. Английская конституция представлялась Н. И. Тургеневу «шедевром… рассудка человеческого»[172]. Однако вопрос о возможности использования английского опыта при преобразованиях в России почти всегда решался отрицательно. К. Ф. Рылеев в разговоре с П. И. Пестелем заявлял, что английская политическая система устарела: «Английская конституция имеет множество пороков, обольщает только слепую чернь, лордов, купцов…». «Да близоруких англоманов», – подхватил Пестель[173].
В печати, как и в обществе, до 1821 г. широко обсуждался вопрос о сравнительных достоинствах политических систем европейских государств. В российской печати появились тексты почти всех действующих европейских конституций[174], что давало основания для внимательного сравнения и формирования представлений о возможных направлениях переноса в Россию западного политического опыта.
В конечном счете большая часть «либералистов» и декабристов оказались «франкоманами», считая английский опыт исключительным, а Россию – слишком далекой от возможности его усвоения. Политическая жизнь послевоенной Франции, наоборот, была предельно актуализирована. Н. И. Тургенев в 1820 г. пишет очень глубокий политический трактат о сравнении политических систем Англии и Франции, защищая конституционные преимущества Британии, но считая опыт Франции более пригодным для заимствования[175].
П. А. Вяземский, как и Н. И. Тургенев, считал, что политический опыт и текущая политическая жизнь Франции полезнее «в приноровлении» к предстоящим в России преобразованиям, чем идеальный опыт Англии. «Надобно непременно ехать в Париж, – пишет он в 1818 г. А. И. Тургеневу, – теперь метафизическая философия уступила место метаполитической философии, и родимый край – все тот же Париж… Ступайте учиться там, где только начали пахать, и следуйте постепенно за шагами земледельца»[176]. Можно предположить, что трактат Н. И. Тургенева, написанный идеологом и политиком высокого уровня, стремится популяризировать изложение политических систем двух государств с точки зрения представлений об идеальном политическом устройстве в духе классического либерализма. Скорее всего, он был написан для печати, но о мере его распространения в обществе и даже в среде товарищей по конспирации говорить трудно.
В целом представления о действующих политических системах большинства декабристов, недостаточно знакомых с историческими условиями их появления, механизмом их существования, современной политической литературой, оставались довольно схематичными. При этом во время «политбесед» в тайном обществе часто использовался примененный Н. И. Тургеневым прием сравнения существующих систем правления – для заключения об идеальной для России модели государственности и возможных заимствованиях. Так, на встречах в Каменке В. Л. Давыдов, по показаниям В. Н. Лихарева, сравнивал системы европейских государств и США, эмоционально защищая последнюю[177].
Переписка М. Ф. Орлова и П. А. Вяземского 1820 г. открывает безусловный интерес первого к Констану, Бентаму и «прочим писателям сего рода»[178]. Однако над «софизмами Вилеля» (Ж. Виллеля, главы кабинета министров) и «логикой Мануэля» (Ж.-А. Манюэля, либерального депутата и публициста) Орлов одинаково иронизирует, считая, что интерес к политике несет угрозу гонений, без различия оттенков[179]. Он просит Вяземского прислать «журнал» польского сейма 1818 г., однако лишь для того, чтобы получить материал для составляемого им «Протеста против учреждений, дарованных Польше».
Чем индивидуальнее и глубже политические взгляды того или иного из декабристов, тем более они выдаются за грань общих мест раннего либерализма, тем отчетливее личность наблюдателя и налагаемая особенностями восприятия граница между областью «чужого» и «своего». На этих отзывах и суждениях лежит отчетливая «печать национального», печать принадлежности к определенному поколению и культурному горизонту, уровня образования, наличия или отсутствия опыта государственной деятельности. Чем разительнее представлялся контраст между Россией и Европой, тем интенсивнее была работа сознания в направлении конкретизации собственно российских потребностей и путей реформирования страны.
Фиксация смещенного, избирательного восприятия русскими «либералистами» 1810-х гг. (и декабристами в том числе) политических реалий и идей Запада не закрывает того факта, что эта небольшая общественная группа внесла свою посильную лепту в процесс идейного и культурного сближения России и Западной Европы, который после 1825 г. был приостановлен на десятилетия.
С одной стороны, именно либеральные идеи, накладываясь на российскую специфику, подтолкнули выступление 14 декабря. С другой стороны, это был антилиберальный способ приближения к идеализированной свободе. События 14 декабря в Петербурге и выступление Черниговского пехотного полка на юге красноречиво свидетельствует о соединении либеральной идеологии и нелиберальной (революционной) тактики. Это – не знак политической ограниченности декабристов, а исторически обусловленный выбор, подобно тому, как левые либералы во Франции, не допущенные в парламент, занимались организацией революционных клубов и готовили военный переворот по испанскому сценарию. При этом никто из упомянутых теоретиков французского либерализма, властителей дум военной молодежи поколения декабристов, в военных заговорах 1816–1817, 1821–1823 гг. участия не принимал. Но, кстати сказать, и практически все идеологи декабризма, представители старшего поколения участников тайных обществ по разным обстоятельствам и в силу разных причин не участвовали в попытке революционного переворота 14 декабря. На Сенатской площади фактически оказались только молодые «действователи», без идеологов, – и большинство нюансов политических программ и их теоретические источники в тот момент уже не имели большого значения.
Пытаясь определить глубину политических взглядов и отчетливость политических понятий декабристов, мы всё же должны отличать идейных лидеров (идеологов) от массы «рядовых членов» тайных обществ и участников выступления 14 декабря. Многими из последних нюансы либеральной доктрины и детали ее возможного приложения к России попросту «не прочитывались». На наш взгляд, если судить по показаниям на следствии и мемуарам тех, кого правомерно отнести к «рядовым» декабристам, можно заметить, что неопределенный контекст употребления понятий «конституция», «либеральный», нечеткие и слишком краткие объяснения по поводу своих воззрений, – всё это говорит о том, что часто мы имеем дело не с либеральной системой взглядов, а с паралиберализмом, псевдолиберализмом, когда за либерализм принимается и выдается (часто неосознанно) нечто иное.
Так, распространенным является утверждение декабристов на следствии о всеобщей моде на либерализм как причине их собственного интереса к нему. Так, майор Вятского пехотного полка Н. И. Лорер, активный член Северного и Южного обществ, на вопрос следствия «Каким образом революционные мысли возрастали и укоренялись в умах», отвечал: когда наступили «времена смутные, в 1821 и 22 году, тогда всякий молодой человек желал слыть либералом»[180]. Лорер имеет в виду известия о европейских революциях, не называя точных событий. Будучи сторонником активного действия тайного общества «через людей значащих», ближайший помощник Пестеля, Лорер не делает различия между понятиями «либеральный», «вольнодумческий», «революционный»[181]. Он этих тонкостей не различает.
Вместе с тем эта отмечаемая нами неотчетливость и размытость суждений не мешает отнести декабристов к приверженцам либерального переустройства политических и социальных отношений в стране, конституционалистам и реформаторам в самом широком смысле.
Изучение идеологии декабристов неотделимо от изучения организационных связей, самого феномена тайных обществ, специфики декабристского патриотизма, который требовал «действия» на «благо Отечества». Сам по себе этот деятельный патриотизм был несомненным порождением фронтового опыта «старших декабристов» – основателей первых конспираций. С. П. Трубецкой вспоминал: «Связи, сплетенные на биваках, на поле битвы, при делении одинаких трудов и опасностей, бывают особенно между молодыми людьми откровеннее, сильнее и живее. Я был дружен с Александром Муравьевым, с Шиповым (что ныне г [енерал] м [айор]); сей был дружен с Пестелем, с которым и я познакомился. Мы часто говорили между собой о бывших событиях, о славе государя, о чести имени русского, рассуждали, что уже, быв каждый по возможности полезен Отечеству в военное время, не должны быть бесполезны и в мирное, что каждый из нас, сопутствуя своему государю в трудах военных, должен и в мирных подвигах Его величества по возможности своей содействовать, что содействие каждого часто малозначаще, то полезнее содействовать общими силами…»[182]. Патриотизм как форма консолидации общества во время войны определил умственное развитие поколения молодых ветеранов, представители которого спустя два года после победы сублимировали священный патриотизм в программу государственного переустройства.
Отсутствие единомыслия в декабризме объясняет сама причудливая десятилетняя история конспирации, куда принимали отнюдь не по принципу единомыслия. Фронтовики-декабристы (в действительности более связанные общим прошлым, общим духовным опытом, чем единомыслием) в начале 1816 г. составили тайное политическое общество Союз спасения. Как нам кажется, не могло быть настоящего единомыслия между армейскими капитанами, прочитавшими одну-две политических книги по совету товарищей по тайному обществу, и идеологами с университетским образованием, вроде Н. И. Тургенева и Н. М. Муравьева, размышлявшими не менее десяти лет о конституционных и социальных преобразованиях. Поэтому и определения «идеология декабризма», «программа декабризма» достаточно условны. Это программы лидеров, но не «символ веры» всех и каждого, не «программа партии», более привычная современному сознанию.
В заключение, возвращаясь к задачам данной статьи, скажем, что феномен декабризма представляется нам не особым национальным типом либерализма, рядоположенным раннему (классическому) французскому или немецкому либерализму, а особым национальным опытом политической деятельности и политического переворота.
Дворянский либерализм 1810-х – начала 1820-х гг., вызванный к жизни правительственным реформаторством, с одной стороны, и европейскими политическими событиями, с другой, – явление более общее, питавшее декабризм, но с ним полностью не совпадавшее. Общелиберальные настроения и взгляды, безусловно, отличавшие практически всех вступивших в декабристскую конспирацию, в той же мере были свойственны и широкому кругу «либералистов», не считавших, однако, нужным примыкать к «заговору» и вести опасную политическую игру с властью.
Дифференцированность восприятия декабристами современных им западных либеральных идей – лишь одна из проблем назревшего теоретического переосмысления декабризма как типа «русской революционности» или «русского либерализма». Сравнительно-исторический подход к решению этой задачи видится многообещающим, во всяком случае, он сможет противопоставить научное знание разнообразным упрощениям и мифам о декабристах.
Традиция дворцовых переворотов в России и декабристы
Д. С. Артамонов
Исследователи не раз отмечали интерес декабристов к прошлому своего отечества, особенно их привлекала русская история XVIII в. Задачи движения определяли характер внимания его участников к этой эпохе. Наибольшую ценность для них представляли сведения о конституционных проектах и дворцовых переворотах[183]. Планируя государственный переворот, декабристы не могли не обратиться к изучению опыта своих предшественников на политической сцене. Тем не менее в исследовательской литературе до сих пор нет ответа на вопрос, как этот опыт использовался тайными обществами, как вообще ими воспринималась политическая традиция «дворцовых революций»[184].
Для основательного решения этой проблемы требуется, прежде всего, установить, что декабристам было известно о тех событиях.
Убийство императора Павла I, наиболее близкий к декабристам эпизод дворцовых переворотов, – одно из наиболее загадочных событий в российской истории. На протяжении более ста лет оно было окружено непроницаемой тайной, но не переставало волновать пытливые умы. Обстоятельства смерти императора невозможно было скрыть полностью, слишком много людей принимало участие в заговоре. Многие заговорщики и не пытались утаить свою причастность к этому делу и охотно делились известными им подробностями, что порождало множество слухов. И если в печати до 1907 г. упоминать об участи Павла I было запрещено[185], то в устных разговорах, по крайней мере, на протяжении всей первой трети XIX в., когда еще были живы современники и участники злополучного события, тема эта вызывала постоянный интерес и бесконечно обсуждалась. Следует отметить, что многие из рассказов просочились в заграничные работы о перевороте 1801 г. и определенным образом воздействовали на представления декабристов о заговоре[186]. Но главным источником информации для них были беседы с очевидцами и современниками.
Многим декабристам история екатерининского, а затем и павловского царствования была известна по семейным преданиям еще с детства. Многое они узнавали из подслушанных разговоров своих родных с друзьями. Так, Д. И. Завалишин вспоминал, что посещавшие его отца всегда вели какую-нибудь «замечательную беседу» и даже при нем «говорили и рассуждали совершенно откровенно». «Это и было причиною, – утверждал Д. И. Завалишин, – что я знал русскую историю не так, как преподавали ее в учебниках». Из одного такого разговора будущий декабрист узнал «о тех обстоятельствах, которые сопровождали смерть Павла I-го»[187]. Тверской предводитель дворянства Сергей Александрович Шишкин рассказывал о них отцу Дмитрия Завалишина в его кабинете. Это свидетельство мемуариста показывает, как широко в обществе распространились рассказы о заговоре 11 марта 1801 г. Даже в провинции люди могли узнать все подробности происшествия в Михайловском замке.
Родители некоторых декабристов были непосредственными участниками событий. Отец братьев Сергея и Матвея Муравьевых-Апостолов Иван Матвеевич был вовлечен в заговор, за что впоследствии попал в немилость к императору Александру I. Н. Я. Эйдельман отмечал, что «неблагодарность императора из подробности семейной легко перерастала в черту политическую, связанную со многими важнейшими обстоятельствами»[188]. Несомненно, что рассказы отца о правлении Павла I и его смерти очень сильно повлияли на формирование мировоззрения будущих декабристов.
С заговором 11 марта 1801 г. были связаны первые детские впечатления М. И. Муравьева-Апостола. В. Е. Якушкин, рассказывая его биографию, записал: «Следующее воспоминание Матвея Ивановича относится уже к 1801 г. 12-го марта утром, после чаю, он подошел к окну и вдруг спрашивает у своей матери: «Разве сегодня Пасха?» – «Нет, что ты?» – «Да вон же солдаты на улицах христосуются!» – оказалось, что солдаты поздравляли друг друга с воцарением Александра I. Матвей Иванович был с матерью на поклонении праху покойного императора. Он помнил, что гроб был поставлен очень высоко, так, что «лица никто не видел»[189].
Отец В. К. Кюхельбекера также находился 11 и 12 марта 1801 г. в центре событий и смог сообщить своему сыну некоторые интересные подробности последних дней жизни императора Павла I, к которому он вошел в доверие и «чуть не сделался таким же временщиком, как Кутайсов».[190]
М. А. Фонвизин, написавший обстоятельный очерк истории насильственной смерти императора Павла I, подробно рассказывает, откуда он почерпнул известные ему сведения: «Вступивши в службу в гвардию в 1803 г., я лично знал многих участвовавших в заговоре, много раз слышал все подробности преступной катастрофы, которая тогда была еще в свежей памяти и служила предметом самых живых рассказов в офицерских беседах. Не раз, стоя в карауле в Михайловском замке, я из любопытства заходил в комнаты, занимаемые Павлом, и в его спальню, которая долго оставалась в прежнем виде… Очевидцы объясняли мне на самих местах, как все происходило»[191].
В годы существования тайных обществ интерес к истории переворота 11 марта 1801 г. усиливается. Подробности заговора декабристы стараются узнать от непосредственных участников событий. М. А. Фонвизин и М. И. Муравьев-Апостол в 1820 г. ведут продолжительные беседы в Английском клубе с А. В. Аргамаковым, при содействии которого заговорщики смогли проникнуть в Михайловский замок и в покои императора. М. И. Муравьев-Апостол слушает рассказы бывших в 1801 г. подпрапорщиком Л. О. Гурко и рядовым И. Агапеева, стоявших в ту ночь в карауле[192]. П. И. Пестель, будучи в Митаве в 1817 г., не раз встречался с одним из руководителей заговора П. А. Паленом, поселившемся в своем имении близ этого города[193]. С. Г. Волконский, находясь в Лондоне, был вхож к Ольге Александровне Жеребцовой, «сестре известного фаворита Екатерины князя Зубова, пользующейся некоторой знаменитостью по соучастию ее в заговоре против императора Павла I»[194].
Есть основания предполагать, что последний дворцовый переворот, закончившийся смертью Павла I, использовался в целях пропаганды необходимости «политических преступлений» для блага отечества. Так, М. И. Муравьев-Апостол вспоминал: «В 1820 г. Аргамаков в Москве, в Английском клубе, рассказывал, не стесняясь многочисленным обществом, что он сначала отказался от предложения вступить в заговор против Павла I, но великий князь Александр Павлович, наследник престола, встретив его в коридоре Михайловского замка, упрекал его и просил не за себя, а за Россию вступить в заговор, на что он и вынужден был согласиться»[195].
Подобные беседы с участниками дворцового переворота 1801 г. среди многолюдного общества, видимо, широко практиковались и преследовали вполне определенные цели. В воспоминаниях Н. И. Греча есть эпизод, в котором он рассказывает, как К. Ф. Рылеев его вербовал в тайное общество, приводя в пример дворцовый переворот 11 марта 1801 г.: «Подумайте, если бы заговор был составлен для блага и спасения государства, как, например, против Павла Первого»[196]. К. Ф. Рылеев совместно с А. А. Бестужевым для агитационных целей написали песню, стилизованную под народную:
Ты скажи, говори,Как в России цариПравят.Ты скажи поскорей,Как в России царейДавят.[197]На каторге и в сибирской ссылке интерес декабристов к истории дворцовых переворотов не угасал. Из бесед друг с другом они узнавали новые подробности. В созданных ими по возвращении из Сибири записках они поместили известные им сведения о потаенной истории России. В этих очерках отразилось их отношение к политической традиции дворцовых переворотов.