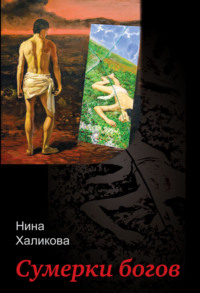Полная версия
В надежде на лучшее прошлое
– Скажи мне правду: где ты все время пропадаешь, куда тебя уносят твои мысли? К ней? Я всё, всё пойму и всё прощу! Только скажи правду!
Олег Васильевич молчал. Ему порядком надоела эта сцена самоистязания, этот ритуал, происходящий по молчаливому обоюдному согласию обеих сторон. Татьяна словно нарочно бередила свои раны, чтобы полюбоваться болью, как будто втайне наслаждаясь ею.
– Танюша, правда состоит в том, что я очень люблю тебя, – как можно спокойнее сказал Олег и при этом почти не соврал, – давай на этом на сегодня остановимся. Я сейчас провалюсь в мертвый сон, а ты опять не сможешь заснуть, а под утро тебя будут мучить кошмары. У тебя слишком богатое воображение, побереги себя. Мне никто, кроме тебя, не нужен, ты же знаешь.
Он привлек ее к себе, легонько сжимая в объятиях. Ее лицо мгновенно вспыхнуло радостными лучами, словно от невинного поцелуя первой девичьей, трогательной любви. Татьяна в это мгновение испытала спокойствие и все же собственную свою обреченность, как смертельно больной человек, которому осталось совсем недолго и немногому радоваться. Олег вздохнул с облегчением, на сегодня оскорбительно-комедийная экзекуция окончена. Сейчас она примет порошок и постарается заснуть, а он будет всю ночь старательно ее обнимать. Если женщина что-то заподозрила, и заподозрила не беспочвенно, необходимо окружить ее усиленным вниманием и, самое главное, физической любовью, если, конечно, расставание пока не входит в планы. Вообще говоря, Олег Васильевич полагал, что исполнение супружеского долга в значительной степени можно было бы рассматривать как некое алиби для мужчин. Да и женщину это всегда заметно утешает и служит своеобразным доказательством отсутствия у нее сколько-нибудь серьезных соперниц, а иногда даже дает возможность надеяться на собственную исключительность.
II
«Подкрепите меня вином, освежите меня яблоками, ибо я изнемогаю от любви…» Марина Елецкая не знала слов ни единой молитвы, и шептала про себя всплывающие в памяти библейские отрывки. Она стояла посреди маленькой церквушки и не понимала, как здесь оказалась, и что полагается делать. Просить она не смела, а благодарить не знала кого и как. Марина Андреевна долго переминалась с ноги на ногу, покорно склонив голову и беспомощно вытянув руки вдоль тела. «…На ложе моем ночью искала я того, которого любит душа моя, искала его и не нашла его…» Она чувствовала тяжкую, смертельную тоску, и тоска эта была как бесконечная, безжизненная, серая пустыня, по которой она влачилась из последних сил, и надеяться-то ей было не на кого, кроме как на саму себя. Ей казалось, что она скоро доберется до края, до окончательного и бесповоротного края, и вот-вот сорвется, и провалится в какую-то черную пропасть. Пропасть эта совсем не пугала, даже наоборот, как будто притягивала её. Лучше уж ужасный конец, чем ужас без конца. Только вот как же будут дети?
Церковь эта была тихая, теплая и полутемная, несмотря на дневное время и огромные окна в стенах. В два часа дня здесь оказалось мертвенно-тихо, народу почти не было, лишь в стороне одиноко стояла немолодая, плохо одетая женщина и поспешно, тайком молилась, крепко прижимая пальцы ко лбу. Она потихоньку плакала у лампады, иногда становясь на колени и припадая к полу как-то слишком уж набожно, а затем мучительно-тяжко поднимаясь. Марина огляделась в поисках скамейки. Скамья была в правом углу, но на ней уже сидел сильно оборванный человек, видно, с большого похмелья, с сизым опухшим лицом и жесткими, грязными волосами, прислонив к стене деревянный костыль. Он кряхтел и кашлял, сипя грудью, и затыкал рот потрескавшимся кулаком. Видно было, что человек тяжело болен. Чуть поодаль, в углу, стоял лишь покосившийся стул о трех ногах, и Марина не решилась сесть там, а осталась стоять посреди церкви.
Глаза ее постепенно наливались тяжелыми слезами. Остро пахло пряным ладаном, парафином и еще какими-то маслами. Перед иконами горели лампадки. Марина не любила лампадного церковного света и даже пугалась его. Этот свет как будто заранее убеждал её в какой-то виновности и самых разных прегрешениях, вольных и невольных. Скамейки тоже ведь наверно отсутствовали неспроста. Скорее всего, это было напоминание о неважности жизни при жизни. «При жизни нужно терпеть муки, и тогда после, что-то там, возможно зачтется…» – пыталась здраво рассуждать Марина, но сама смутилась своих крамольных мыслей. В испуге за свои непомерно смелые рассуждения, она посмотрела на иконы, не зная, что теперь ей делать и о чём думать. Она словно безуспешно чего-то ждала. Тишина была безмятежной и начинала давить.
С трудом, не без горечи, Марина подумала: раз уж она сюда пришла, стало быть, она нуждается в помощи, или опоре, или просветлении, или во всем сразу. Отпираться и говорить, что забежала в церковь случайно, было бы нечестно. Если бы кто-то в эту минуту ей сказал, что она влюблена тяжелой, безнадежной любовью в женатого мужчину, то она искренне, с негодованием отвергла бы эту мысль. Она надеялась, что все еще возможно, что счастье уже не за горами, несмотря на затянувшийся ее любовный роман. До недавнего времени ей казалось, что все так и должно быть, их любовь еще не истлела, а наоборот, только разгорается, и она не чувствовала ни малейшего оскорбления по поводу своего щекотливого и даже неприличного положения. Но в последние месяцы что-то случилось, и блаженная покорность любви все чаще стала сменяться тревогой, необузданной тревогой и тоской, растравляющей ей все внутренности и уносящей равновесие и покой. «Зачем я здесь? – спросила себя Марина. – Я что-то ищу, что-то или, может быть, кого-то. Кого именно ты ищешь? Я пришла к Богу, значит, я его ищу. Отчего же ты раньше сюда не приходила? Простая земная любовь с лихвой заменяет богов. Поиск богов всегда начинается с утратой любви. Стало быть, отведенная тебе любовь исчезла? Нет, нет, это неправда, мы все еще любим друг друга», – Марина заставила умолкнуть свой неприятный внутренний голос.
Сердце ее сейчас нехорошо колотилось, лицо горело, спина была влажной от пота, руки дрожали, как у вора. «Я и есть вор, – вертелось в голове, – я ворую чужого мужа у его жены и пытаюсь оправдать свое воровство». Она стояла и, склонив голову, смотрела на восковой пучок горящих свечей у иконы, серый дымок от которых легко улетал в сторону приоткрытого окна. Перед глазами поплыл какой-то мутный туман, огоньки свечей задрожали и тоже поплыли. Марине стало стыдно, как никогда в жизни не было. Ей вдруг захотелось рассказать кому-нибудь всю свою жизнь с того дня, как она себя помнила, до этой самой минуты. Рассказать, что она добрый и честный человек и смело смотрит в глаза всем на свете, но вот только последние несколько лет сбилась с правильной, с верной дороги и увязла в любви к женатому человеку. Она не знала, как сказать об этом гнетущем чувстве здесь, среди множества святых, глядящих на нее серьезно и даже строго, как будто уже осуждающих ее. Марина боялась непонимания и насмешки. «Можно ли в этих стенах думать и говорить о подобных вещах, – тихонько спрашивала себя она, – здесь правильнее было бы просить здоровья детям».
Вспомнив о детях, она улыбнулась, и глаза ее счастливо осветились. Дети. Что может быть лучше? Марина Андреевна Елецкая была детским доктором, и всю свою пока еще недолгую жизнь посвятила здоровью детей. Ее тоскующее сердце сразу размягчилось, и она принялась перебирать в памяти детские, испуганные личики своих крохотных пациентов, которые болели, а потом выздоравливали, росли и мужали у нее на глазах, и превращались во взрослых, складных, улыбающихся мужчин и женщин. Никто бы не посмел упрекнуть ее в неосмотрительности или неумении в ее благородном деле. Марину Андреевну любили все: любили дети, любили родители, и она с каким-то упоительным материнским трепетом и материнской безотказностью откликалась на это всеобщее чувство, каким ее окружали в семьях. Дальше к ним примешивались улыбки двух ее сыновей: младшего Сереженьки и старшего Мити. Незаметно слезы радости увлажнили ее щеки. «Я не затем сюда пришла, чтобы восхвалять собственную добродетель и блаженно упиваться ею, под шумок, позабыв о грехах», – резко оборвала свои мысли Марина.
Она опять вернулась мыслями к Олегу, и тут же устыдилась своего слишком прямого и навязчивого, почти болезненного чувства по отношению к нему. Это ее надоедливое беспрерывное напряжение стало переходить в настоящую лихорадку, а в последнее время она ловила себя на том, что плохо владеет собой в его присутствии, и от этого ей становилось все хуже и хуже. За эти прошедшие пять лет их любовных скитаний она всерьез прикипела к нему и бессознательно искала в нем такие же, зеркальные чувства по отношению к ней, но отыскать никак не могла, отчаивалась и злилась. Временами она просто ненавидела его за то, что он отказывается на ней жениться. Марина мысленно его оскорбляла, считая «трусом, избегающим трудностей, ищущим облегченные варианты», и даже смеялась над его нерешительностью, несколько преувеличивая его вполне цветущий возраст и называя это «старостью», а потом принималась корить себя за свои грубые выходки, за то неделикатное вымогательство, которым она занималась. Она ругала себя за то, что все чаще и чаще заглядывает ему в лицо пытливо и страдальчески, в то время как он упорно молчит. Иногда она беззастенчиво плакала прямо перед ним, понимая, что дурно, очень дурно поступает и только отвращает этим его, но продолжала плакать, обнимала его, бросалась ему на шею, терлась своими непослушными волосами о его скуластые щеки и прижимала к своей груди его руки. Она рассказывала ему о своих мальчиках, и своих сыночках, Сереженьке и Мите, и обещала, что они будут сильно любить его и будут послушными вежливыми детьми и ничего не станут у него просить…
А теперь ей было стыдно за такое свое поведение, за собственное измельчание, позволяющее многого не замечать в их отношениях, за его давно остывший любовный пыл. Хотелось бы просто найти время, спокойно посидеть и не спеша все обдумать, сделать над собой усилие и не врать самой себе. Но она знала, что как только увидит его скуластое лицо, вдохнет его родной запах с примесью ветивера, запах, соединённый в её сознании с сильным чувством, она непременно позабудет и стыд, и все приличия и вновь примется побираться и выпрашивать хоть немного любви. Все эти болезненные мысли до неузнаваемости исказили ее бледное лицо, так и не принеся желанного облегчения, а тоска стала еще более безнадежной, серой и мрачной, как освещение и воздух в этой церкви. «Господи, стыдно-то как, – бормотала еле слышно Марина, – как ведь стыдно-то». Она украдкой взглянула на распятие, ненадолго приложилась краем лба к большому, холодному кресту, пахнувшему ладаном, и еще ниже опустив голову, выскочила на улицу.
Тусклый петербургский день едва освещал улицу. Бело-серые жиденькие, снежные шарики не спеша усыпали асфальт и засохшие газоны. Марина, в осенних туфельках, стояла, не отворачиваясь от ветра, в холодном осеннем пальто. Мельчайший снежный бисер сверкал на ее одежде и лице, мгновенно превращаясь в крохотные, прозрачные капельки воды. Через час она встречается с Олегом. «Может быть, сегодня и решится моя судьба, – подумала Марина, – но, скорее всего, это будет очередное банальное и пошлое свидание. Ну и пусть! Наверное, я дурная, скверная женщина и лучшей участи не заслуживаю».
III
Мария. Крым, июнь 1911 год.
Начало июня. Утренний воздух ещё обдавал ночной сыростью, как будто пропитался моросящей пылью. Побережье было одиноким, покинутым, словно о нём совсем позабыли. Ночной отлив оставил после себя ровные, песчаные полосы под сероватым, безоблачным небом. Всё вокруг казалось сонным, тихо-однообразным, немного монотонным.
Маша остановилась и окинула взглядом летний, бледнеющий рассвет, немного пошатываясь после бессонной ночи, проведённой за чтением. Частые волны набегали на берег, надувались и лопались, как мыльные пузыри, принося с собой бахрому перепутанных водорослей. Край дикой скалы осторожно заглядывал ей за плечо, птицы, расправив лёгкие крылья, бесшумно поднимались в воздух. Маша медленно шла дальше, уверенно ступая по песку крошечными белыми сандалиями, свежая, как утренняя роса на листьях, пробуждая мир к новому утру. На ней было белое, льняное платье с длинными рукавами и высоким лифом, на манер гимназической формы, белые носочки, и такого же цвета матросская шапочка, выдающая слишком юный возраст, русые волосы сплетались в тугую косу, подхваченную атласной лентой. Она дышала глубже, чем обычно. В последний год ночное чтение её из робких, несмелых попыток переросло в неутомимую потребность, неукротимое желание читать, читать как можно больше и чаще, читать всё, что подвернётся под руку. Её семья сняла на лето старый домик, один из небольшой горсточки белых дач, распластавшихся по направлению к Феодосии, с окнами в виде маленьких, крепостных бойниц и ветхой верандой с некрашеным дощатым полом, выходящей прямо на море. На веранде всегда шуршал свежий, южный сквозняк, стоял круглый стол резного дерева, за которым вполне можно обедать. В это утро Маша пораньше покинула прибрежный домик, тихонько миновав веранду с плетёной мебелью, хрустким столовым бельём и приборами на дубовом столе, она направилась к морю, запасливо прихватив с собой небольшой томик Бодлера, чтобы понапрасну не терять драгоценное время.
Едва освоив азбуку в пятилетнем возрасте, она, как голодный маленький щенок, принялась ненасытно поглощать всё подряд, всё, что находила, не веря своему внезапному счастью. В один день, в один миг нескончаемые стеллажи с рядами самого разного вида книг – отцовская и дедова библиотека – превратились в священное для нее место. Полки с книгами стали долгими, неведомо куда ведущими дорогами, и Маша поняла: книги – это вселенная, которая вмещает в себя всё: разум и безумие, любовь и страдания, роковое и божественное. В их пыльных завалах, в их гладкой и шершавой толще заключена сама жизнь, и теперь это всё: сложные шрифты, виньетки, старые переплёты, – всё по праву принадлежит ей одной. После подобных открытий становилось жарко, и было бы непростительно глупо тратить время на самый обычный сон.
– Доброе утро, милая барышня. Я вижу вас впервые.
Маша обернулась. Рядом с ней стояла странно остриженная девушка в белой блузке с короткими рукавами и широкой тёмной юбке. Девушка была среднего роста, как и сама Маша, с округлым, русским лицом. Прямая чёлка выстрижена, словно по линейке, её короткие каштановые волосы золотились восходящими лучами.
– Меня зовут Марина Ивановна, прежде я вас здесь не встречала.
– Мария Дмитриевна Лытневская, – она чуть присела в книксене, склонив голову. Томик выскользнул из рук, Маша собралась его поднять, но странная девушка оказалась проворнее и опередила ее.
– Ah, est-ce que telle jeune personne s’interesse a Baudelaire?[1] – её голос звучал мягко, но как-то отстранённо, с явно наигранными высокомерными нотками. Она наугад открыла страницу и прочла:
Скажи, откуда ты приходишь, Красота?Твой взор – лазурь небес иль порожденье ада?Ты, как вино, пьянишь прильнувшие уста,Равно ты радости и козни сеять рада.Заря и гаснущий закат в твоих глазах,Ты аромат струишь, как будто вечер бурный;Героем отрок стал, великий пал во прах,Упившись губ твоих чарующею урной.Смущённая Мария начала волноваться и теребить завязку на своей русой плотной косе, переброшенной на грудь. Девушка с короткой стрижкой была гораздо старше её и вела себя слишком уверенно.
– Эти строки принадлежат гению, которому посчастливилось безупречно описывать. Это поэтический дар, – несмело шепнула сконфуженная Маша.
– Чтобы быть великим поэтом, одного поэтического дара мало. Нужен равноценный дар личности: ума, души, воли… Так отчего же я вас не видела? Я здесь ровно месяц.
– Мы приехали третьего дня. Моя мама взяла внаём небольшой домик с террасой, в той стороне, – Маша неопределённо махнула рукой, – и мы, скорее всего, останемся здесь до конца лета. А вы здесь с родителями?
– Нет, я живу у друзей с начала мая. Знаете, Мари… Вы позволите так себя называть? У нас здесь образовалась замечательная компания, я вас обязательно познакомлю. Вы ведь любите поэзию?
– Боюсь, я в этом ничего не смыслю, – Маша неловко запнулась, – вы позволите пригласить вас прогуляться со мной? Моя мама говорит, что пешие прогулки чрезвычайно полезны, они оздоравливают тело.
– Дорогая Мари, слишком здоровое тело всегда в ущерб духу. Вы не находите? – при этих хоть и резких словах, сказанных с обязательной вежливостью, Маша уловила светло-серую задумчивость в бездонных, широко поставленных глазах взрослого, пожившего человека.
– Сколько вам лет?
– Четырнадцать.
– Четырнадцать, – как будто издалека, словно эхо повторила Марина, – вы не дитя, и не взрослая. В детстве у меня была довольно странная игра, я писала годы наперёд. В восемь лет я писала длинный столбец, начиная с 1902 года и далее на много десятилетий, в полном сознании предвосхищения и неизбежности… Дети слишком понимают. В семь лет, Мари, Мцыри или Онегин понимается верней и глубже, чем, скажем, в двадцать. Дело не в недостаточности понимания, а в слишком глубоком, болезненно-верном понимании.
Маша внимательно, с детским любопытством, позабыв правила приличия, разглядывала девушку, странно говорящую и экзотически выглядящую. Её собеседница была собрана и тверда, словно отлита из стали, уверенные глаза её без стеснения смотрели прямо в растерянные глаза Марии. Много, много замысловатых колец на пальцах.
– Приходите к нам вечером, дом моих друзей совсем рядом. Я буду читать стихи, – обронила Марина как бы невзначай и тут же отвернулась, словно совсем позабыв о своей случайной, робкой собеседнице. Дальше девушки пошли молча, как незнакомые.
Две юные, стройные, удивительно красивые девушки… Совсем скоро они станут взрослыми женщинами, и каждая пойдёт своей, непростой дорогой. Если бы только красота была способна приносить счастье, если бы только красота была достойна любви, то они не знали бы в них недостатка. Через одиннадцать лет одну из них ждёт долгая, тяжёлая эмиграция, с трудностями и лишениями, но и с любовью. Через двенадцать лет они обе почувствуют себя несчастными рядом с супругами, но будут сохранять каждая свой брак на протяжении многих лет. Одна из них, с тяжёлым сердцем, разбитым сильной, но недолгой страстью, создаст поэму «Горы», лучшую поэму о любви двадцатого столетия. Её стихам будет суждено стать великими и любимыми миллионами людей. Через тридцать лет, не в силах вынести на своих хрупких плечах непосильный груз прошлого и не в состоянии «продолжать дальше», оставив три предсмертные записки, она покончит с собой в маленьком городке Елабуга. Другая, так и не сумев смириться с большевистским террором, через двадцать три года покинет семью и навсегда уедет из этой страны. Соблазнительные мысли о самоубийстве регулярно будут её посещать, но она сможет сохранить себя до глубокой старости, обретя любовь и покой в работе, в спасении незнакомых людей. Но это будет потом. Ещё не скоро их горящие девичьи глаза потухнут и опустеют, плечи устало ссутулятся, а волосы поредеют и заблестят на висках, сейчас они полны сил, радужных надежд и благородных порывов.
Марина ступала лёгкой, неслышной походкой, думая о чём-то своём, а Мария тут же загорелась огненным любопытством, ей не терпелось как можно скорее всё разузнать, но она пыталась себя сдерживать, злясь на своё беспримерное, детское легкомыслие. Ей хотелось сделать какой-нибудь «шаг», чтобы оказаться ближе к этой девушке с зеленовато-кошачьими глазами на смугло-розовом лице, несмотря на то, что рядом с ней она почувствовала себя ещё младше и глупее. По совести сказать, она отчего-то уверовала в собственную непросветлённость по части возвышенного, но разговор, однако, хотелось продолжить.
– Чьи стихи вы собираетесь читать? – запинаясь, спросила она, не выдержав затянувшейся паузы. Марина как будто очнулась, увидев идущую рядом девочку в белом летнем платье.
– Свои. Прошлой осенью вышел первый мой сборник. Я сама его издала. Мой отец не знал, что я выпустила книгу. А чем занимаетесь вы, помимо полезных пеших прогулок и литературных увлечений?
– Учусь в гимназии.
– А я бросила гимназию, не дожидаясь конца учебного года, и не получила аттестат. Мой отец был очень расстроен.
– Вы бросили гимназию? – с робким удивлением выговорила Маша. – Как же так? Разве девушке так поступать дозволено?
– Я устроена иначе, иногда чувствую себя бунтарём. Что такое действительность? Жизнь скучна, и всё время нужно представлять себе самые разные вещи. Воображение тоже жизнь. Но, знаете, Мари, маленькой девочкой, я огорчалась и плакала, провожая уходящий навсегда старый год, и от огорчения была не в силах радоваться новому. Я сплав противоположностей, – её золотисто-русые пушистые волосы трепал лёгкий ветер, рассыпая их по округлым щекам, серьёзному лицу, тонкому, с маленькой горбинкой, носу, подчеркивая её юную красоту.
Несколько минут Маша внимательно смотрела на Марину, кожей чувствуя соприкосновение с неким нематериальным космосом, пробуждаясь от своей детской непосредственной наивности. Это были всего лишь несколько необыкновенных, но настолько волшебных минут, что Маша не заметила, как к ним подошёл огромный широкоплечий мужчина. Он был похож на древнегреческого Зевса, в длинной рубахе без рукавов, напоминающей тунику, из-под которой выглядывали волосатые ноги. Большое лицо с округлой, русой бородой, кудлатая, спутанная, редко поседевшая шевелюра была откинута назад, светло-карие, проницательные глаза глядели на неё вполне искренне и бережно-внимательно. В таком более чем странном, совсем даже неподходящем для взрослого мужчины наряде он тем не менее производил самое приятное впечатление.
– Мари, познакомьтесь, это мой друг и наставник, поэт и художник Максимилиан Александрович, но он не очень любит, когда его имя произносят вместе с отчеством. Ему больше нравится – Макс.
Мария вновь присела в гимназическом реверансе, протянув мужчине-Зевсу свою тоненькую ручку для пожатия. Он бережно коснулся её руки, изучая глазами, и с чуть заметной улыбкой сказал:
– Добро пожаловать в нашу компанию, юная барышня.
– Макс сразу понял меня и дал положительный отзыв о моей книге, душевный и сердечный, а другие… – она не договорила.
– Мари, посмотрите, у Макса глаза, как две капли морской воды, в которой прожжен зрачок. Когда он смотрит на вас, не сводя глаз с лица и души, слёзы выступают, как будто глядишь на сильный свет. Только здесь свет глядит на тебя. Когда он увидел меня впервые, я была обрита наголо, и он сказал, что у меня идеальная форма головы для поэта, и ещё, что я похожа на римского семинариста.
Рассеянная улыбка блуждала по губам и сентиментальным, длинным ресницам совсем юной девушки Марии, она обеими руками придерживала на голове матросскую шапочку, чтобы её не унесло порывами тёплого ветра. Ей хотелось совсем по-взрослому проникнуться священным безмолвием, замкнуться и наблюдать странную парочку исподтишка, словно встречать необыкновенных людей для неё дело самое привычное, но простодушная детская непосредственность брала верх над всеми этими условностями, и она, немного осмелев, стала смотреть во все глаза на своих новых знакомых, доверчиво улыбаясь и показывая детские щербинки на зубах.
– Вы знаете Клоделя? – спросил Максимилиан. – Любите ли Рембо? Можете ли поделиться мыслями? – задав этот короткий вопрос, его губы тут же плотно сжались, словно он ничего и не сказал.
– Видите ли, Мари, Макс всегда находится под ударом какого-нибудь писателя, с которым не расстаётся ни на миг и которого внушает всем. Он подарил мне Анри де Ренье как очередное самое дорогое. Не вышло. Я не только не читаю романов Анри де Ренье, но и драм Клоделя тоже. Люблю бродить по пяти томам Жозефа Бальзамо.
Маша чувствовала, что здесь-то её и застигли врасплох. Ей было нечего сказать. В учении она всегда была прилежна и, взгромоздившись на старый, пахнущий плесенью и дубом письменный стол деда, строго задавала сама себе задания. Ей позволяли копаться в фамильной библиотеке. Она то вскарабкивалась на самые верхние полки, то ползала на коленях по потёртому паркету, извлекая очередное сокровище из нижних недр. Библиотека в основном состояла из русских и французских классиков, которые и открывали ей мир. Мир идеальный и осмысленный, чудовищный и опасный. В книгах она и находила жизнь с прописными истинами, безапелляционными заявлениями и полной зыбкой бессмыслицей сущего. Мысленно она соглашалась или отвергала прочитанное, внимательно вглядываясь в разного рода деликатные материи, но вот сама от уверенных суждений пока что воздерживалась. Сейчас она стояла, боясь очертя голову рухнуть в этот неправдоподобный и реальный мир вместе со своими неожиданными знакомыми, она боялась выглядеть глупо, оказавшись среди тех, кто творил этот мир, где красота и добро, мучительные, трагические скорби и ощущение разбитой жизни – всё, всё сливается воедино. Быть одиноким странником, или даже зрителем, наблюдать со стороны, решила Маша, намного безопаснее, чем самостоятельно мыслить о жизни и творчестве и говорить об этих вещах вслух. И даже несмотря на свой слишком юный возраст, она всегда боялась быть идеалисткой, рассуждающей отвлеченно и восторженно, но и отстранённый цинизм ей тоже казался вовсе неуместным. Пока ей оставалась лишь наивная, зато безопасная познавательная созерцательность. Но сказать об этом она не посмела.