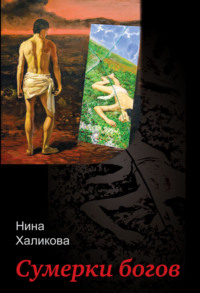Полная версия
В надежде на лучшее прошлое

Нина Халикова
В надежде на лучшее прошлое
© Халикова Н., 2016
Фантазии и реальность. История двух женщин, живших в разное время, но оказавшихся одинаково бессильными перед тяготами судьбы. В формате художественного текста я пыталась показать, насколько глубинная психология способна помочь человеку осознать собственную реальность, не отрицать её, не уходить от неё, не заглушать её, а принимать и, познавая ясное видение жизни, продолжать свой истинный путь.
На этих страницах вымышленные персонажи встречаются с реальными. Так, психотерапевт вымышленной Марии Лытневской – реальная историческая фигура, французский учёный Пьер Мария Феликс Жане, живший и практиковавший в Париже как раз в описываемое время. Его выражения и мысли, высказанные в диалогах с пациенткой, в большинстве своём подлинны и взяты мной из его трудов, таких как «Психический автоматизм», «Психологическая эволюция личности». Подруга Марии Лытневской, Марина Ивановна, – это Марина Цветаева. В той части книги, где женщины ненадолго встречаются в Праге и Париже, сама Мария Лытневская неосознанно, пусть и ненадолго, пытается выполнять функцию психолога и служит своеобразным крохотным входом в психику Цветаевой, помогая тем самым составить представление о её психике, приоткрывая некоторые её проблемы. Я пыталась выстраивать их диалог именно с точки зрения детской психологической травмы, повлиявшей на установившиеся взгляды и дальнейшую жизнь, а не самого творчества. Подобные встречи на самом деле могли произойти в октябре 1923 года, когда Цветаева действительно жила в Праге и была страстно влюблена в К. Родзевича, впоследствии отказавшегося от неё, и в ноябре 1937 года в Париже. Все слова, мысли, фразы Цветаевой сугубо документальны и взяты из её личной переписки, а также ряда автобиографических произведений, таких как «Мать и музыка», «Живое о живом», «Мой Пушкин». Я старалась соблюдать точность и в описании жизни и быта семьи Волошиных, здесь использовались книги Л. Фейнберга «Три лета в гостях у Волошина», Э. Миндлина «Необыкновенные собеседники», М. Волошина «Женская поэзия».
Как глубинный психолог, я пыталась психотерапевтически спасти от распада двух моих вымышленных героинь, Марию Лытневскую и её правнучку Марину Елецкую (современное воплощение гуманизма и добродетели, русской интеллигенции, изрядно пострадавшей и видоизменившейся после событий 1917 года), наглядно демонстрируя возможности психологической работы. Каждая из этих женщин, столкнувшись с тяжёлыми проблемами своего прошлого, прибегла к помощи психологии, коей когда-то не суждено было воспользоваться Марине Цветаевой, оставшейся один на один со своим прошлым.
Земную жизнь пройдя до половины,
Я очутился в сумрачном лесу,
Утратив правый путь во тьме долины.
ДантеI
Идея Аристотеля об обладании серединной ровностью окутана густым туманом слишком общих, обволакивающих, хотя и довольно красивых, слов. Так, к примеру, мужество – это обладание серединой между страхом и отвагой, а щедрость – это середина между мотовством и скупостью. На словах всё оказывается довольно просто. «Можно стремиться к чести столько, сколько следует, а также больше и меньше, чем следует». Что же посередине? Да и вообще, где находится эта самая середина, как же ее определить? Где бесчестье и вседозволенность превращаются в пытку и для себя, и особенно для других? Чем ученик Платона отмерял эту середину? Ложь и правда, честность (истину трогать вообще не будем) – полярные противоположности, но как быть с ложными представлениями о мире, в плену которых мы все находимся? Религия трактует мир по-своему, совсем не так, как Эйнштейн или Дарвин, и выходит, что правда у каждого своя, и с этим приходится считаться. А сказать не всю правду – значит ли это солгать? Или нет? А как же быть с искренними заблуждениями и непреднамеренными ошибками? Ведь даже то, что внешне кажется вполне правдоподобным, не обязательно является правдой или справедливостью, и даже самая высокая вероятность чего бы то ни было не защищает нас от ошибки.
Идем дальше. Порок и добродетель – понятия слишком пластичные и взаимопроникающие. Аристотель считал, что нравственная добродетель состоит в обладании серединой между двумя пороками, один из которых состоит в избытке нравственности, а другой, соответственно, в ее недостатке. Слова, Слова с большой буквы. Как отыскать середину в каждом отдельном случае? Он и сам, по правде сказать, считает, что это дело чрезвычайно трудное. Выходит тупик. Найти середину между этими крайностями невозможно, они ведь непрерывно соприкасаются, видоизменяются, и совсем непонятно, на чем остановиться. Да, кажется, это повод для бесконечных рассуждений. Это дело не просто трудное, а даже запутанное, ибо середина у каждого своя, и грани ее, мягко говоря, размыты. То, что для одного еще пока находится в рамках добродетели, для другого уже давно перешло границы порока. Для самой же добродетели губительны как недостаток, так и излишество. Отлично, чем же будем мерить недостаток и излишество? А возможно ли, уместно ли говорить об обладании серединной ровностью в проявлении страстей, наслаждений, чувственных удовольствий? Скорее всего, их следует отнести к порокам, от греха подальше, и не искать никакой середины, поскольку здесь ее определить будет максимально сложно. Стоп, стоп. Зачем же сразу к порокам? Ведь страсть – это скорее несчастье или рок, но не порок и не грех. Да, конечно, не грех, во всяком случае, так удобнее, так легче думать. Возможно, любовная страсть – это просто страшный недуг, но он двигатель жизни, причина жизни на земле. А конфликт страсти и нравственного долга во все времена были неразрешимой внутренней дилеммой. Аристотель вообще считает, что нужно остерегаться удовольствий и того, что их доставляет. Выходит, если отдалять себя от удовольствий, то и порочных проступков будет совершено меньше. Аристотель, к сожалению, забыл сообщить, как освободиться от этих самых желаний.
Олег знал, что освободиться от желаний можно, лишь до тошноты пресытившись ими, но это неправильный, если можно так выразиться, очень даже нефилософский подход. Либо, в качестве альтернативы, податься в буддийские монахи, а это уже, как ни крути, крайности.
Олег Васильевич Костин в одиночестве сидел на кухне в домашних тапках на босу ногу и пил третью чашку растворимого, дурно пахнущего кофе. И думал о том, что эта самая растворимая бурда – такая же отвратительная муть, как и его жизнь в последние годы. Олег лениво перелистывал потрепанный томик античного философа, не скрывая своего глубокого недоверия к философии. Он размышлял сам с собой, пытаясь таким образом себя успокоить и хоть как-то прояснить надоевшую трагикомедию, происходившую в его жизни, которая незаметно переросла в скучнейшую драму. Было бы несправедливо сказать, что жизнь или природа чем-то обделила Олега Васильевича, однако последние несколько лет он чувствовал себя отвратительно.
На полу, в ногах, примостился старый пес Вергилий, грел об Олега свои худые, ввалившиеся бока. Ещё будучи щенком, он неотступно следовал за Олегом, сопровождая его по всей квартире, за что его и нарекли соответственно. Олегу льстила безропотная привязанность пса, и он видел в ней свой пропуск в мир добродетели. Ведь если собаки любят только хороших людей, стало быть, он, Олег, прекраснейший человек. Природу не обманешь.
В этом году Олегу Васильевичу исполнилось пятьдесят два, и вот уже почти пять лет как он с завидным упорством делит свое драгоценное время и силы между двумя женщинами, женой и… ну, словом, совсем не женой. Он для себя до сих пор не смог определить, кем для него является Марина Елецкая – подругой, любовницей или кем-то еще. Понятие «подруга» кажется, отдает дружбой и пониманием, чего и в помине не было в их отношениях, слово «любовница» как будто говорит о некой любви, чем тоже нельзя похвастаться, во всяком случае, с его стороны.
Марина была молодой, здоровой, крепкой женщиной, с большими белыми руками, на тринадцать лет моложе Олега Васильевича. Она прямо-таки притягивала его своей жизненной силой, какая часто встречается у женщин из простонародья. Впрочем, она иногда плела ему небылицы о своем высоком происхождении, но Олег пропускал мимо ушей ее рассказы про бабушку, уехавшую в молодости в Париж и скромно доживающую там остаток дней, не сильно нуждающуюся, но, как и полагается, страдающую от одиночества. Ему, как истинному цинику, было забавно наблюдать это распространенное стремление обзавестись приличным прошлым и блестящей родословной. В последнее время – удивительное дело – у всех стали появляться высокородные родственники. Просто шагу не ступить, чтобы не столкнуться с отпрыском древней, аристократической фамилии. Радостнее было думать, что его Марина – простая русская женщина с нежной кожей и детским пушком на щеках и над верхней губой. Восхитительные волосы, круглое лицо и никаких диет. Олег благодарил Бога за то, что сохранились такие вот женщины с их первозданной, природной красотой, не замаранные инъекциями, раздельным питанием и прочими глупостями, портящими женскую природу. Поначалу ему просто нравилось согреваться у ее большой, нежной, почти материнской груди, нравилась ее благопристойность и финансовая непритязательность, иногда ему даже казалось, что он влюблен в нее. Правда, мысль эту он старался гнать подальше от себя, считая её непозволительной блажью для современного, взрослого мужчины.
Сама Марина, Олег был в этом просто уверен, любила его жадной, ненасытной любовью одинокой разведенной женщины и всячески старалась женить на себе. Из этого следует вывод, что ее можно называть любовницей. От этой мысли он криво поморщился, словно от зубной боли. В последнее время обе женщины – и жена Татьяна, и любовница Марина – вцепились в него мертвой хваткой, ловили на лжи, зорко что-то в нем высматривали, заводили неприятные разговоры и ссорились. Олег старался соблюдать спокойствие, улыбался им, раскланивался и заискивал. Их надоедливая ревность в общем не пугала Олега Васильевича, скорее, ему было любопытно наблюдать, как они старательно расставляют свои ловушки и капканы в надежде на успех. Временами он видел в себе самом вершителя судеб, от одного слова которого зависит их женское счастье. Мысль эта и колола, и убаюкивала одновременно, но все же была приятной. И он, снисходительно посмеиваясь, продолжал наблюдать за их копошением, сравнивая себя с Гуливером, попавшим в страну лилипутов. Чувствовал он себя всесильным и непобедимым рядом со своими крохотными и беспомощными женщинами, отчаянно предпринимающими все новые и новые попытки его связать. Строго говоря, жить это ему не мешало, и он этому не препятствовал. Временами ему хотелось порвать то с одной, то с другой женщиной. Его даже посещала мысль о холостяцкой жизни и радостях свободы, которые она дарует, но подобных идей он побаивался. Свобода мужчины, живущего в одиночестве, не привлекала Олега Васильевича и не вызывала в нем головокружительного опьянения. Женское тело для него было продолжением материнской утробы, и только рядом с женщиной, неважно какой, он чувствовал безопасность и гармонию.
Сегодня Олег Васильевич снова вернулся домой после полуночи. Супруга уже спала или, как всегда, старательно притворялась спящей. Ему нестерпимо хотелось почувствовать вкус свежемолотого кофе, но включать среди ночи кофемолку означало разбудить супругу, и тогда придется прятаться от ее укоряющего взора. Он тоскливо вглядывался в дремотную тишину улицы за окном, с тускло мерцающим одиноким фонарем, и предавался своим невеселым думам. Сказать жене о существовании другой женщины или же разорвать отношения с Мариной? Он оказался перед выбором, перед нелегким, мучительным выбором. Можно ведь все оставить как есть, занять наблюдательную позицию, но тогда ему придется снова и снова возвращаться домой за полночь, воровато отсиживаться на кухне, давясь всякой отравой. Отказаться от выбора – это ведь тоже выбор. Скорее всего, он так и поступит, правда, с его последствиями ему придется столкнуться не теперь, позже. Ну и ладно.
Олегу нестерпимо хотелось покоя, обладание серединной ровностью античного философа ему пригодилось бы как нельзя кстати. Только вот как ее достичь? По правде сказать, живя во лжи, он достиг ощутимых результатов, научившись блестяще обманывать не только женщин, но и себя самого. Ему нравилось себя обманывать. Он жил долгие годы уютно и безопасно под покровом собственной лжи, как под ватным одеялом в мороз. Ведь холод реальности – это тяжелое испытание, и даже очень смелым правдолюбцам к нему необходимо подготовиться. После пятидесяти лет ему показалось, что он как будто готов к переменам, ему отчего-то стал надоедать путь лжи и предательств, и потребовалась остановка.
Философию сложно применять в жизни, а уж античная она или современная, не имеет значения. «Все эти пространные рассуждения о золотой середине еще больше запутывают, совершенно не принося ясности», – раздраженно бубнил себе под нос Олег Васильевич.
Не удовлетворившись остывшим, отдающим кислятиной кофе, он налил солидную порцию виски в широкий стеклянный стакан и выпил в один глоток на вздохе, довольно громко выдохнув и икнув.
В кухню неслышно и робко, как виноватая, вошла супруга Татьяна Юрьевна и неуверенно села на краешек стула. Она была на год моложе мужа, но выглядела значительно старше его. Татьяна Юрьевна была все еще стройна и красива последней, предзакатной красотой, подернутой той особенной грустью, которая все еще веет ускользающей радостью и которую так трудно удержать женщине, особенно после пятидесяти. Лицо ее было бледно, тонкие черты болезненно заострились. Она смотрела себе на колени, словно в них было что-то привлекающее ее внимание, а затем, покусывая изнутри и без того впалые стареющие щеки, принялась стряхивать с колен невидимые соринки. Олег Васильевич знал ее тактику ведения боя и внутренне крепко выругался. Он смотрел на нее с раздражением, недоумевая, куда же подевалось то блаженное ощущение счастья, которое он испытывал каждый раз, встречая ее, в их давно ушедшей юности. Что же делает с пылкими чувствами узаконенная любовь, как ловко она их истребляет. Сейчас у него было тяжело на душе от ее присутствия. Старый пес Вергилий, почуяв неладное, тяжело поднялся, покрутил лохматой башкой и деликатно удалился, подгибая лысеющий хвост. Олег проводил взглядом своего тактичного друга, а потом вызывающе уставился на жену.
Татьяна неловко закурила, часто затягиваясь и некрасиво, по-мужски выпуская дым через нос. Она избегала смотреть на Олега, пристально разглядывая черноту не задернутого шторами окна. Олег знал эту необходимую увертюру, вступление, за которым последует первый акт. Такие спектакли вызывали у него безумное желание расхохотаться ей в лицо и одновременно ненависть с едким привкусом собственной вины.
Вдруг Татьяна Юрьевна резко затушила недокуренную сигарету о блюдце, на котором стояла чашка мужа с растворимой бурдой, и, уронив голову на колени Олега, жадно зарыдала. Ему не пришло в голову поднять ее и усадить на стул, все, что он мог сделать, – это положить свои вспотевшие от напряжения ладони на ее все еще прекрасные непослушные волосы и легонько их поглаживать. Ее плечи, уже тронутые предательскими коричневыми пятнышками, по-детски часто вздрагивали и тряслись. Уж он-то понимал, преддверием чего были эти слезы и что за ними последует. Он склонился над ней, стал осторожно обнимать ее за плечи, слегка прикасаясь губами к приятно пахнущим волосам. Она казалось, утешилась, проворно встала с колен и посмотрела на него горящим, сверкающим взглядом, как будто силясь передать глазами все, что накопилось в душе, а затем спокойно сказала:
– Ты нужен мне.
– Чего же ты плачешь?
– Я знаю, ты был с этой женщиной. С этой… суч… С этой женщиной.
Остатки хорошего воспитания, видимо, не позволили ей высказаться прямолинейно.
– Только прошу, не опускайся до вульгарностей, тебе это совсем не к лицу, – прикрикнул на нее Олег.
Он тяжело поднялся на ватных ногах и настежь распахнул окно, за которым заговорщицки шептались деревья, и, если протянуть руку, можно было ощутить свежую росу, колебались огни редко проезжающих машин, и ему даже показалось, что с улицы в это самое открытое окно повеяло молодостью и свободой. Как его неодолимо потянуло сейчас же окунуться в эту зовущую прохладу, в этот свет низкой, поздней луны, обещающей новую жизнь без томительного страха перед принятием решения. Он стоял, смотрел в пустоту и чувствовал, как тяжелая туча, плывшая из глубины его мозга, начинает застилать глаза. Он с силой и злостью захлопнул оконную раму, налил виски в стакан, мгновенно опрокинул содержимое в себя и, слегка покраснев, сел на прежнее место. Он уловил, как нескончаемо часто пульсирует его голова и по спине катится капля пота. После выпитого виски и ее слез мысли Олега пребывали в полном тупике, отчего сердце жестоко колотилось. Олег приготовился к длинному объяснению: где он был, что делал, и все такое прочее, желательно с мельчайшими подробностями. Жена взглянула ему в лицо и странно, истерически расхохоталась:
– Расскажи, как ты проводишь с ней время, и не отпирайся, я все знаю.
– Тань, опомнись, что такое ты говоришь? Мне уже пошел шестой десяток, какие женщины? Они мне и раньше-то были не нужны, я всегда был однолюбом, а уж теперь, кроме охоты и работы, меня вообще ничего не интересует. Я старею, вот такая странная штука время. Ты что же, думаешь, деньги берутся из воздуха, или мне их любовницы одалживают? Ты, птичка моя, когда машины меняешь или шубки покупаешь, особенно не интересуешься, какое количество времени должен потратить в трудах праведных твой муж, чтобы ты могла пробежаться по магазинам. Я всерьез занимаюсь своим заводом, и на это, как ни странно, уходит уйма времени.
Она с недоверием взглянула на него, и он тотчас понял, что теперь, по установленному регламенту, пришло время ей из жертвы превратиться в палача, правда, ненадолго, а затем вновь стать жертвой. Его уставшие глаза злобно заблестели от возмущения и выпитого виски. Мысленно он послал ее ко всем чертям. «Они делают больно мне, я делаю больно им, или наоборот и по кругу, – думал Олег Васильевич, – такова жизнь».
– Если ты не скажешь правду, я ведь не смогу тебя уважать. Я все расскажу детям. Пусть знают, какое дерьмо их отец, – сказала она дребезжащим, старушечьим голосом, от которого у Олега зазвенело в ушах.
«Медея ты моя ненаглядная, как мне страшно от твоих угроз! Да и плевать же я хотел на твое уважение, – подумал он, – лучше бы дала мне выспаться как следует».
– Олежек, я родила для тебя двух детей, сына и дочь. Дети, как известно, рождаются от любви. Ты должен с этим считаться, – более мягко и даже нежно сказала Татьяна Юрьевна. Когда на него не действовали сцены ревности, она это видела, и сразу меняла тактику.
Вот это уже запрещенный прием. Она всегда любила манипулировать Олегом с помощью детей, особенно когда они были маленькие, а их появление на свет ставила себе в исключительную заслугу. По ее уверениям, она их родила не потому, что она была молода и красива, и не потому, что ее пышущее здоровьем тело просило материнства, и не оттого, что ее инстинкты кричали ей о том же, а, видите ли, она их родила исключительно «ради него» и «для него». Слова, Слова. «Дети рождаются не от любви, а от того, что проворный сперматозоид оплодотворил готовую яйцеклетку, кажется, так», – все так же устало думал Олег. Ему вовсе не хотелось начинать копаться в этой сентиментальной чепухе, кто кому кого родил, когда и зачем, и что из этого следует. Сейчас она примется рассказывать, что принесла на жертвенный алтарь всю свою жизнь. Его жена долгие годы управлялась с ним удивительно ловко, точно карточный шулер с колодой карт, перекидывая с место на место, пересыпала его из рукава в карман, вертела им, как это может себе позволить лишь слабая женщина по отношению к сильному мужчине, и ему это даже нравилось. А теперь он от всего этого устал.
– Я пробовала себя обманывать, ничего не выходит. Когда ты возвращаешься от нее, все написано на твоем лице. Мне даже стыдно на тебя смотреть.
Было очевидно, что он сам вызывает все эти безумные порывы ревности и оскорбленного доверия, однако злиться Олег продолжал на нее, а вовсе не на себя.
– Я знаю, что ее зовут Марина. Она, кажется, детский доктор, – холодно и агрессивно отчеканила Татьяна Юрьевна. – Тебя можно поздравить с повышением, прежде ты предпочитал медсестер и парикмахерш, ввиду их легкой доступности, а теперь вот дорос до более высоких социальных слоев населения, так, глядишь, и до заведующей поликлиники доберешься, если повезет.
– Не собираюсь состязаться с тобой в остроумии, во всяком случае, сегодня. Ну, а если ты все знаешь, зачем спрашивать? Ты хочешь, чтобы я все опроверг, или тебя интересуют чисто технические подробности?
– Ты просто старый, похотливый ублюдок, жаждущий продлить себе молодость. Придёт день, и ты сильно об этом пожалеешь, когда останешься совсем один. Не стоишь ты моей заботы и уважения, да и слёз моих тоже.
Олег пытался понять её боль за поруганную гордость, но никак не мог, её уродливые вердикты не открывали ему ничего нового, а лишь разжигали в нём желание сильно и безжалостно дать сдачи, отхлестать терновыми словами по её мертвенного цвета лицу.
– Да, возможно, мне будет плохо, и я буду корчиться, как бес, окропленный из купели, но это моя жизнь. Позволь мне самому ею распоряжаться. Совместная супружеская жизнь – это ведь не рабство, а проживание бок о бок, по договорённости, в согласии и мире. В связи с тем, что согласие и мир нас, к сожалению, покинули, договорённость отменяется. Мне ни к чему твоё уважение и твоя забота, будь она неладна, мне бы хотелось от тебя покоя и деликатности, граничащими с равнодушием, но ты, как назло, везде стала совать свой любопытный нос.
Он смотрел на нее с преувеличенным вниманием, словно это была дуэль двух противников и не на жизнь, а на смерть. Сколько времени он сможет выносить такую жизнь, прежде чем сделается истериком и импотентом? Ему захотелось сейчас же уйти, убежать от этого напряжения, из этого адова жилища, громко хлопнув дверью и оставить ее наедине с ее удушливой злобой и ревностью, с ее бессонницей и расстроенными нервами. Пусть делает, что хочет, бьется в истерике головой о стенку, пусть разыгрывает суицидальные спектакли или найдет себе мужчину, слепого как Эдип, равнодушного к другим хорошеньким женщинам, пусть трезвонит все подругам и рассказывает, какой он, Олег, мерзавец, или пойдет поработает для разнообразия и восстановления баланса. Его это уже не будет касаться, и он не ляжет на диван и не станет стрелять себе в виски одновременно из двух пистолетов, а напротив, станет наслаждаться жизнью в обществе хмельных юных девок.
Слова, Слова. Он знал, что не посмеет встать и уйти, и не из чувства долга или жалости к жене, не из уважения к их почти тридцатилетней совместной жизни, а из-за банального страха перед неизвестностью. Такой уверенный в себе, молодой и подтянутый, такой всесильный Олег Васильевич Костин с его жестким, категоричным взглядом и властным низким голосом, руководитель судостроительной компании, панически боялся той растерянности, которая неминуемо будет поджидать его после того, как он уйдет из дома и сделается ничьим мужчиной. Он старался избежать той мучительной неразберихи с самим собой и с женщинами, которые последуют за его уходом. Одинокие женщины начнут жесткую охоту на состоятельного холостяка, оставшегося без укрытия, превратятся в наваждение, кошмар, в дождь из змей, падающий на его грешную голову, как падали на провинившихся евреев. А его измученная истеричная жена как раз и была для него тем самым спасительным штандартом. Она была плодородной почвой, наполнявшей его жизненными соками в течение их долгой совместной жизни, она всегда была твердой землей под его ногами, его жена и его семья были каменной крепостью, в надежных стенах которой брутальный Олег Васильевич прятался от всех внешних неудач, от надоедливых притязаний не в меру пылких, влюбленных в него поклонниц, да и от Марины Елецкой он прятался за спину все той же жены. Он не в силах уйти от жены, пока не найдет такую же надежную, гранитную спину, за которую мог бы спрятаться его маленький беспомощный Олежек, он не уйдет из семьи, пока не отыщет новый спасительный штандарт Моисея, который, кстати сказать, неизвестно кем был, то ли египтянином, то ли евреем. Иногда Олег неохотно себе в этом признавался. Случалось, он верил в собственные вымыслы, верил в собственное мужество и силу, в самостоятельность и значительность, но только не теперь.
Раздражение Олега медленно пошло на убыль, и он почти с нежностью посмотрел на супругу. Она сильно затряслась, злобно сжав кулаки, так что выступили белые костяшки, и рыдания вновь хлынули из нее. Сегодня она была как-то особенно не в себе. Олегу показалось, что она нарочно растравляет свои раны, что у нее потребность в страданиях, как у человека, привыкшего к жизни в муках. Он зачем-то вспомнил ее такой, какой когда-то любил, и с упавшим, измученным сердцем смотрел на нее, и ему самому хотелось плакать.