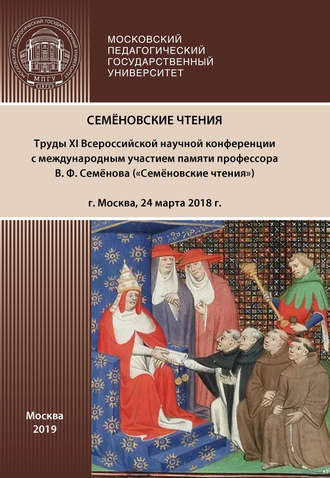 полная версия
полная версияСемёновские чтения
Уже в 494 г. папа Геласий I бросил вызов претензиям светской власти Византии вмешиваться в дела Церкви, подчеркивая противозаконность этого, и сформулировал теорию о двух силах: «Две силы, августейший император, по преимуществу управляют этим миром, это – священный авторитет архиереев и царская власть, и между ними тем важнее значение священников, что они и за самих царей должны дать ответ Господу на суде Его. Ведь ты знаешь, милейший сын, что, хотя ты по своему достоинству вознесен над всем человечеством, но перед духовными руководителями и тебе надлежит благочестиво склонять главу: в них ты видишь путь к своему спасению и знаешь, что в принятии и (если необходимо) в восстановлении необходимого порядка в совершении святых таинств ты должен подчиняться священству, а не повелевать» (это письмо папы Геласия Ι к императору Анастасию в издании Миня обозначено номером 8) [6, p. 350–351; cр. 10, c. 90; 7, col. 42AB]. Фактически можно говорить о том, что папа в своем послании требует от императора Анастасия отказаться от принципа цезарепапизма, а кроме того, закрепления за апостольской кафедрой привилегий над Вселенской Церковью. [2, р. 194]. Как отмечал в прошлом веке французский историк Церкви Пьер Батиффоль это «письмо навсегда определит духовную самостоятельность и превосходство папы» [2, р.194].
Через 20 лет, когда тот же Анастасий под давлением православных кругов Империи начнет новые переговоры с Римом о восстановлении церковного единства, папа Гормизд выдвинет такие условия церковного мира, что старый император в сердцах ему напишет: «Можете нас оскорблять и нас считать ничем, но не будет того, чтобы нам давали приказания» [4, (No.138.5), р. 565.13–14]. Это письмо императора Анастасия папе Гормизде датируется 11 июля 517 года [2, р. 194; 5, р. 233].
С вступлением на престол Юстина Ι меняется направление церковной политики Империи. Унизительные для Востока требования папы Гормизды под прямым нажимом нового императора и его племянника Юстиниана будут с трудом, но приняты на Востоке. В специальном «Либеллусе» [4, (No. 159), р. 607–610], который должен был подписывать всякий епископ, вступающий в общение с Римской Церковью, заявлялось, что он будет следовать во всем апостольскому престолу и осуждать все ереси («Итак мы, желая не отпадать от сей веры и во всем следуя установлениям отцов, анафематствуем все ереси». [4, (No. 159.4), р. 608.21–22]), делая особый акцент на том, что будет достоин войти в общение с представителем апостольского престола, который сохраняет твердо неповрежденную и истинную христианскую веру («…Надеюсь, что я пребуду с вами в том едином общении, которое проповедует апостольский престол… Обещаю на последующее время не сообщаться с отлученными от общения кафолической церкви, т. е. с несоглашающимися во всем с апостольским престолом, мы обещаем не вспоминать имена их при священнодействиях». [4, (No. 159), p.609.20– 25]) [10, с. 312].
Для Юстиниана этот последний документ на многие годы стал знаком восстановленного союза Рима с Восточными Церквами, «выражением вселенского общения». В послании к папе Иоанну II от 6 июня 533 г. император подчеркивает, что желает видеть рост чести и авторитета римского престола: «(8) Воздавая почесть апостольской кафедре и вашей святости, к чему, как подобает, всегда мы стремились и стремимся, почитая вашу благодать [как] отца, всё, что относится к церковному положению, мы спешим донести до вашего сведения, поскольку у нас всегда было большое усердие охранять единство вашей апостольской кафедры и положение святых Церквей Божьих, которое до сих пор имелось и оставалось неизменным, не встречая противоречия. [9] И поэтому мы поспешили объединить всех священников всего Востока и подчинить кафедре вашей святости. [10] Итак, мы посчитали необходимым в настоящем [письме] довести до сведения вашей святости то, что было сделано, хотя явно и несомненно, и согласно с апостольским учением вашей кафедры всегда твёрдо охраняемым и проповедуемым священниками. [11] Ибо мы не дозволяем, чтобы что-либо, относящееся к положению Церквей, хотя явно и несомненно то, что делается, осталось в неведении вашей святости, поскольку [она] есть глава всех святых Церквей. Прежде всего же, как было сказано, мы стремимся возрастить честь и авторитет вашей кафедры» [3, (1.1.8), p.11]. Это послание было с удовлетворением воспринято в Риме. 24 марта 534 г. последовал ответ Иоанна IIимператору: «[2] Ведь нет ничего, что светило бы ярче, чем правая вера в императоре; и нет ничего, что было бы настолько лишено возможности падения, как истинная религия… [4] Ибо это то, что укрепляет ваше правление, то, что сохраняет ваше царство. Ведь мир Церкви, единство религии, охраняет вознесенного ввысь виновника свершившегося в дарованном ему спокойствии» [3,(1.1.8), p.10].
В 20–30 гг. VI века, т.е. в последние годы правления Теодориха Великого и его преемников, папство стало использоваться остготскими королями как инструмент в их дипломатических отношениях с Константинополем. Папа Иоанн I и Агапит были вынуждены возглавлять посольства в Византию для решения важных для правителей остготов проблем межгосударственных отношений с византийцами.
В первым случае, в 525 г. папа Иоанн должен был убедить императора Юстина отменить незадолго до этого принятые в Империи антиарианские меры. Вероятно папе этого не удалось добиться, и, поэтому, по возвращении в Рим он был брошен в Равенне в темницу, где вскоре скончался (†18.05.526). Тем не менее, правда уже после смерти Теодориха (†30.08.526), вероятно в 527 г. в новом эдикте Юстина и Юстиниана против всех еретиков, которым поражались в правах и подвергались преследованию с конфискациями, ссылками и смертными казнями язычники, самаритяне, манихеи и различные ответвления еретиков, ариане получили некоторый иммунитет: «Рассматривая то, что мы часто причисляем готов среди наших преданных союзников, которым ни их природа, ни их прежняя жизнь не дали разума (чтобы быть православными), мы до некоторой степени смягчаем строгость (законов) к ним, и разрешаем им быть нашими союзниками и награждать почестями, как нам покажется лучшим» [3,(1.5.12(17)), р. 54].
Во втором случае, король Теодат отправил папу Агапита весной 535 г. в Константинополь, надеясь предотвратить готовившуюся с целью захвата Италии войну Византии с остготами. Папа прибыл в столицу империи в начале 536 г. Его так же, как когда-то Иоанна Ι, торжественно встретил император. Но Юстиниан в ответ получил упрек от папы за поддержку монофизитов и давление на Церковь. Более того, папа требовал от императора поддерживать православное учение о двух природах во Христе, когда-то утвержденное на Халкидонском Соборе. В жизнеописании папы Агапита, сохранившемуся в LiberPontificalis (LVIIII), приводятся его ответ на угрозу Юстиниана отправиться в ссылку, если он не согласится с Анфимом, занимавшим в этот момент патриарший константинопольский престол и вступившим в общение с умеренными монофизитами экс-патриархом Антиохийским Севиром и Феодосием Александрийским: «Я, правда, грешник к христианнейшему императору Юстиниану захотел прийти; теперь же обнаружил Диоклетиана; что касается угроз твоих, я не боюсь… Однако, чтобы ты понял, что ты не крепок в христианской вере, пусть твой епископ исповедует, что две природы во Христе» [8, p. 287].
Папа Агапит добился суда над Анфимом, который, однако, состоялся уже после смерти понтифика (†22.04.536) в мае – июне 536 г. Примечательно, что на этом Соборе было провозглашено, что в Церкви нет ничего, что можно было бы сделать вопреки воле и приказу императора. Правда, патриарх Мина тут же признал, что его Церковь следует апостольскому престолу и ему повинуется, поддерживает общение с ним, и осуждает тех, кого тот осудил (в актах этого Собора содержится следующая реплика патриарха Мины: «Святейший архиепископ сказал: Мы полагаем, что ваша любезность не находится в неведении относительно воли и ревности благочестивого нашего императора, которые он имеет к православной вере нашей: и ничему из того, что в святейшей церкви происходит, не подобает совершаться помимо его воли и приказа. Итак, в настоящее время мы просим вашу любезность утихнуть, чтобы мы получили время довести до самих своих ушей то, что вами было провозглашено. Мы же, как знает ваша любезность, апостольскому престолу следуем и повинуемся; с его причастниками мы имеем общение; и осужденных им и мы осуждаем») [1,p. 181.35–182.5].
Из изложенного можно заключить, что место Римской Церкви в сфере межгосударственных связей Византийской империи в первой трети VI века было весьма скромным, однако это отнюдь не умаляет роли папства как важного центра влияния в складывавшихся в этот же период межцерковных и церковно-государственных отношениях.
Список использованных источников и литературы1. ActaConciliorumOecumenicorum / Ed. E. Schwartz. B., 1940. T. 3.
2. Batiffol P. L‘Empereur Justinien et le Siege apostolique // Recherches de science religieuse. Paris, 1926. T.16.
3. Codex Iustinianus / Ed. P. Krueger// Corpus Iuris Civilis. B., 1892.
4. CollectioAvellana // Corpus ScriptorumEcclesiasticorumLatinorum / Ed. O. Guenther. Vienna, 1898. Vol. 35.
5. Frend W. H. C. The Rise of the Monophysite Movement. Cambridge, 1972.
6. Gelasii IEpistula 12 // EpistulaeRomanorumPontificum / Ed. A. Thiel. Braunsberg, 1868.
7. Gelasius I.Epistula VIII. Ad AnastasiumImperatoremmpopulum// Patrologiae cursus completus. Series latina. P., 1862. Vol.59.
8. Le Liber Pontificalis /Texte, introduction et commentaire, par l‘abbé L. Duchesne. P., 1886. T.1.
9. Stein E. Histoire du Bas-Empire : In 2 t./Publ. par J.-R.Palanque. P., 1949. T. II.
10. Болотов В. В. Собрание церковно-исторических трудов. М., 2002. Т. 4.
Этические взгляды Николая Мистика как средство защиты Византии от войн с Болгарией
Гусарова С.В.аспирант Московский педагогический государственный университетАннотация: Статья посвящена выявлению и анализу миротворческих приемов, которые использовал патриарха Николай Мистик в диалоге с болгарским правителем Симеоном I. Религиозные ценности константинопольского первосвященника помогли уберечь Византию от очередного нападения болгар в тяжелый период отсутствия сильной политической власти. Долг перед Богом и людьми являлся главным мотивом деятельности Николая Мистика, а умиротворение Симеона I патриарх считал своей важной пастырской задачей.
Ключевые слова: Николай Мистик, патриарх, миротворец, Симеон I.
Annotation: The article is devoted to the identification and analysis of peacekeeping techniques used by Patriarch Nikolai Mystic in his dialog with the Bulgarian ruler Simeon I. The religious values of the High Priest of Constantinople helped to protect Byzantium from another attack by the Bulgarians during the difficult period while the strong political power was absent. Duty before God and people was the main motive for Nicholas Mystic, and he considered the appeasement of Simeon to be his most important pastoral task.
Key words: Nikolai Mystic, patriarch, peacemaker, Simeon I.
Данная статья посвящена выявлению и анализу миротворческих приемов, которые использовал византийский патриарх Николай Мистик (901–907; 912–925 гг.) в письмах к болгарскому царю Симеону I (893– 927 гг.). Нам известны 27 таких посланий, написанных в промежутке с 912 по 925 гг. Ответы Симеона I не сохранились, однако об их общем содержании можно судить по письмам самого патриарха и по проявлениям внешней политики болгар.
«Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими» – говорил Христос в Евангельском сюжете о Нагорной проповеди. Ревностый христианин и первосвященник, Николай Мистик стремился тщательно претворять эту Иисусову заповедь в жизнь.
После смерти василевса Александра II (912–913 гг.), патриарх Николай I возглавил регентский совет при малолетнем Константине Багрянородном (905–959; 913–959 гг.) и временно соединил в себе светскую и духовную власть. Патриарх пытался предотвратить очередную войну между империей и болгарами при помощи заключения нового даннического договора. При этом Византия была готова поступиться значительными материальными средствами и отдельными территориями. Однако это не удовлетворило желаний Симеона, который целенаправленно двигался к византийскому трону, в связи с чем Николай Мистик писал: «Измени свои требования на достижимые: такие, например, как увеличение суммы золота или одежд, возможно, даже части территории. Если есть в твоем сердце какое-либо боговдохновенное отношении к миру Христа, дай нам знать, о том, чего желаешь» [1, с. 217]. Фактически болгарский царь предлагал бескровный захват наиболее развитого и богатого государства своего времени и это требование, очевидно, было неудовлетворимо. Святитель в этой частной переписке выступал одновременно имперским дипломатом с широкими полномочиями, которые, однако, никем не прописывались и не регламентировались. Отечественный политолог Устян А.Р. назвал идеи патриарха религиозным прагматизмом, указывая на их совпадение с практическими интересами Византии [6].
В августе 913 года патриарх отправился в болгарский стан для переговоров. Симеон I согласился снять осаду Константинополя после того, как регент пообещал в будущем устроить матримониальный союз между дочерью болгарского царя и Константином Багрянородным. [4, с. 347]. И хотя впоследствии эта договоренность нарушилась византийцами, миротворческая деятельность Николая Мистика не прошла бесплодно. Благодаря стараниям патриарха в период отсутствия в Восточной римской империи твердой власти, дипломатическими методами была устранена военная угроза. Византия выиграла время для подготовки боевых действий против болгар.
Попытки найти компромисс в вопросе перезаключения мирного договора не увенчались успехом, тогда патриарх пробовал испугать Симеона масштабностью кампании против болгар, которую развернули греки накануне своего наступления в августе 917 года, например, он сообщал: «Страшное движение подготовляется или скоро подготовится царским старанием против твоей власти и вашего рода. Русские, печенеги, аланы, угры – все договорены и все поднимутся на войну. Однако едва ли Симеона могли поколебать такие приготовления, поскольку сами болгары еще раньше греков стали нанимать для военных походов представителей все тех же народов» [1, с. 332].
Святитель апеллирует к сыновним и религиозным чувствам, указывая на боголюбивую жизнь отца Симеона Бориса I (852–889 гг.), насадившего в Болгарии христианство через отношения с Константинопольским патриархатом: «Я прошу тебя (Сын мой) ответить в соответствии с твоей честью и добротой: если бы он, прибывающий в лике святых на небесах, все еще присутствовал в жизни и видел как ты себя ведешь, видел объявление и начало войны, что бы он сказал? Что ты делаешь, сын мой? Почему ты порочишь мою славу? Почему разрушаешь труд, который я совершил с Божьей помощью, ведь это моя и твоя гордость, гордость всего нашего народа? Почему ты сводишь на нет достижения, за которые люди во все века благословляли бы меня и мое поколение, и навлекаешь на себя и меня ни с чем несравнимые потери?» [1, с. 338].
Красной нитью сквозь все без исключения письма святителя идет воззвание к религиозным чувствам, которое выражается в увещеваниях, основанных на текстах Писания, в упоминании ужасов посмертных мук и в рефлексии самого Николая Мистика. Примечательно, что источником зла патриарх называл не конкретных людей. Для святителя совершенно естественным представляется обольщение Симеона князем мира сего, заражением его семенем властолюбия, вследствие чего патриарх пытался достучаться до сознания болгарского правителя, в частности, в таких строках: «Что это, сын мой? Какой злой дух, завидуя твоей славе, привел тебя, чтобы ты наследовал имя узурпатора? Насколько лучше было бы назваться "князь, назначенный Богом", чем "узурпатор"! Какой яд змей изрыгнул в уши сына моего?» [1, с. 252– 253] Делом собственной чрезвычайной важности считал патриарх переговоры с Симеоном, поскольку был уверен, что Господь спросит с него, как с пастыря, как он пас овец Его. Несмотря на то, что в 918 году по инициативе царя в Болгарии установилась автокефальная церковь, Николай не перестал обращаться к Симеону со словами «Сын мой» и по-прежнему считал его своим заблудшим духовным чадом. В том же послании святитель предупреждает его о событиях иной жизни: «И на Страшном суде я буду стоять рядом с тобой и свидетельствовать против тебя, скажу, что не игнорировал твое стремление впасть в это преступление, не пренебрегал твоим спасением, но был готов спасти тебя и отвести от рокового неповиновения твоей души, и от ввержения ее в бездну нерасторжимого осуждения» [1, с. 385]. Основообразующей внешнеполитической идеей, которую Николай Мистик пытается донести до болгарского царя, является утверждение из Ветхого Завета, согласно которому Господь положил предел обитания каждому народу.
Святитель чувствовал себя в ответе за души всех греков, поэтому перспектива ухода из жизни тысяч христиан в период военного времени являлась для Николая Мистика личной духовной трагедией. Деятельное изучение Евангелия и трудов Отцов Церкви формирует индивидуальное православное сознание, которое работает на службу окружающих людей.
Выявив и проанализировав различные приемы, с помощью которых Николай Мистик пытался предотвратить военные конфликты между Византией и болгарами, мы можем сделать вывод о том, что святитель был личностью с незаурядной силой духа, следовавший строго своим внутренним ценностям, готовый терпеть пренебрежение к собственному высокому положению ради спасения христианских душ. Письма патриарха демонстрируют феномен индивидуального христианского сознания, служившего целому государству. Николай Мистик оградил Константинополь от вторжения болгар в тяжелый в политическом отношении период для Византии. Он вошел в историю как самоотверженный добросовестный пастырь, чей опыт назидателен для духовных лиц и мирян. За свои множественные заслуги и подвижническую жизнь Николай Мистик был причислен к лику святых.
Список использованных источников и литературы1. Nicholas I Letters by Jenkins R.J.Н., Westernik., Dombarton Oaks Center of Byzantian Studies Trustees for Harvard University. Washington, 1973.
2. Диль Ш. Византийские портреты. М., 2011.
3. Иванов С.А. Византийское миссионерство. М., 2015.
4. Лебедев А.П. Исторические очерки состояния Византийско-Восточной церкви от конца XI до середины XV века. СПб., 2012.
5. Литаврин Г.Г Византия, Болгария, Древняя Русь. СПб., 2014.
6. Устян А.Р. Политические и философские воззрения константинопольского патриарха Николая I, Мистика (901-907) [Электронный ресурс] URL: http://socius.ru/backup/portal/publish/nicolo_1.htm (дата обращения: 25.03.2018).
К вопросу об идеологическом обосновании войны в Византии в IV–VI веках
Булдаков В.А.преподаватель истории Медицинский колледж № 5 г. МосквыАннотация : В идеологических принципах обоснования войны христианская вера не могла не отразиться. Став одной из основ государственного строя, религия изменила и отношение ромеев к войне. Византийское военное дело в IV–VI вв. развивалось напрямую под влиянием новой идеологии, изменив, как и отношение к войне, так и обоснование военных действий в отношении врагов Империи.
Annotation: In the ideological principles of justifying the war, the Christian faith could not but be reflected. Becoming one of the foundations of the state system, religion changed the attitude of the Romans to the war. Byzantine military science in the IV–VI centuries. developed directly under the influence of a new ideology, changing both the attitude to the war and the justification of military actions against the enemies of the Empire.
Ключевые слова : Византийская империя, Идеологическое обоснование войны, Маврикий, Ориген, Христианство.
Key words The Byzantine Empire, The ideological basis of the war, Maurice, Origen, Christianity.
Понимание войны с точки зрения христианства противоречиво для истории культур, в которых данная вера играла главенствующую роль. С одной стороны она может проявляться агрессивно, как например западноевропейская цивилизация в эпоху Крестовых походов, с другой стороны достаточно миролюбиво, на примере Византийской империи. Хотя формально и не была выработана в христианском мире идея войны против «неверных», элементы противостояние с другими религиями присутствовал. Например, тринадцатый канон св. Василия Кесарийского: «Убиение на брани отцы наши не вменяли за убийство, извиняя, как мнится мне, поборников целомудрия и благочестия. Но может быть добро было бы советовати, чтобы они, как имеющия нечистые руки, три года удержалися от приобщения токмо Святых Тайн» [7]. Но в Евангелии от Матфея сказано: «И вот, один из бывших с Иисусом, простерши руку, извлек меч свой и, ударив раба первосвященникова, отсек ему ухо. Тогда говорит ему Иисус: возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут.» [5, гл. 26, с. 51–52] Что приводит к возникновению вопроса, как же византийские христиане относились к вопросам войны?
Христианский апологет III в. Ориген утверждал, отвечая языческому философу Цельсу, что христиане создали новое воинство, не сражающееся с мечом в руках, но молящееся за государство, а молитвы – это причина существования его [9, с. 73]. Идеи в произведении Оригена явно выражали воззрения многих христиан, существовавших в враждебном окружении, и если оно перестанет быть враждебным, то война исчезнет как явление. Но пока этого не произошло, война остается неизбежным злом, необходимостью. Но с приходом к власти императора Константина ситуация меняется радикально. Во-первых, земной правитель, избранный Господом, фигура более приемлемая, нежели чем языческий властитель. Во-вторых, Миланский эдикт 313 г. и Собор в Арле дали разрешение христианам вступать в ряды имперской армии [4, c. 505]. В поддержку выступают церковные деятели IV в. митрополит Афанасий Александрийский, Августин Блаженный и епископ Милана Амвросий, объявляя готовность христиан вступить в армию ради борьбы с врагами государства достойным похвалы деянием, хотя все трое и предполагали, что кровопролитие не является столь необходимым действом [1, c. 614– 615; 6, с. 29–30].
Далее во времена Феодосия I христианство становится официальной государственной религией, а нехристиане постепенно удаляются с государственной службы. К концу IV в. появился запрет на привлечении к службе в армии нехристиан. Хотя с другой стороны вопрос о военной службе стал делом личного выбора жителей христианской империи, но защита государства от внешних врагов, защита христианства, освобождение территорий от нехристиан, варваров и еретиков оставалась приоритетной задачей. Война и убийства не являлись похвальным и достойным мероприятием, оставаясь всё также «неизбежным злом» [4, c. 507].
Данная концепция развивается в течение последующих двух веков, становясь прагматичной и частью имперской пропаганды, идеологической борьбы Византии с внешним миром. Византийская государственность, не смотря на религию, должна была отстаивать свою территориальную целостность и защищаться против внешней агрессии. Следствием чего реализация необходимости военных действий против врагов Империи была обязательна. Враги Империи в первую очередь становились врагами христианства, а значит и война против них оправдана. В основе же данного парадокса лежали сугубо практические воззрения. [6, гл. V] Также религиозный фактор становился особым поводом для войны, когда на территории соседних государств начинали преследовать христиан. Частностью являются Персидские войны против Сасанидского Ирана, начавшиеся в 421 г. н.э. вследствии гонений христиан зороастрийцами на территории Армении, продолжавшиеся и на протяжении VI века. По большей части конфликты между двумя державами были связаны с вопросами контроля границ на Кавказе, но идеологический контекст присутствует. О конфликтах с персами в конце VI в. мы имеем источник за авторством Маврикия [8, кн. XI, гл. II] и подробнейший разбор британского учёного-антиковеда Майкла Витби в его монографии об василевсе Маврикие [3].
Становление христианской идеологии в византийском военном деле сыграло одну из ключевых ролей во внешней политики Восточной римской империи. Не смотря на трудности из-за постоянного давления со стороны внешней угрозы и вопросов веры в области отношения к военному делу с точки зрения христианства, византийцы смогли использовать христианскую идеологию как источник обоснования сопротивления внешней агрессии, не выработав в IV–VI вв. принципов «священной войны против неверных», а лишь используя её в своих практических целях.









