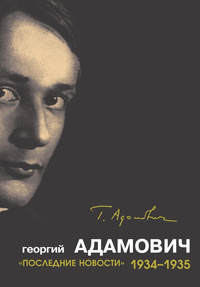Полная версия
«Последние новости». 1936–1940
Мир… Ни один из современных русских писателей не создал чего-либо, схожего с алдановской трилогией по сложной стройности частей, по законченности и четкости архитектоники. Часто говорят о композиционном даровании Сирина, – и, действительно, Сирин исключительный мастер в области завязок, развязок и ведения действия вообще. Но у Сирина всегда одна тема, один фабульный замысел, который он и «подает» с необыкновенным остроумием и необыкновенной находчивостью. У Алданова совсем не то: его композиционный рисунок, менее резкий, менее драматический, чем сиринский, растекается в сторону гораздо свободнее. Сирин исходит из факта, Алданов кладет в основу творчества образ: «дьявольская разница», хотелось бы сказать словами Пушкина. Сирина всегда можно пересказать, потому что логика в его писаниях играет подавляющую роль, так же как и стиль событий. Алданов, несмотря на последовательность повествования, «непередаваем» иначе как ценой обеднения или даже искажения. Оба, в сущности, чувствуют время гораздо острее, нежели пространство (в противоположность Бунину – наименее «временному», наиболее «пространственному» из новейших русских художников), – но во времени Сирин очерчивает эпизод, а Алданов эпоху. Оговорюсь, что было бы ошибкой истолковывать это замечание как упрек или комплимент: ни то, ни другое, конечно! И с сиринским, и с алдановским творческим ощущением можно взлететь под облака и пасть совсем низко. Метод так же мало определяет значение художника, как описание черт лица в паспорте – красоту или безобразие человека.
Достоинство и силу алдановской эпопеи нельзя оценить вблизи. Некоторое пренебрежение автора «Пещеры» к внешней, показной артистичности – пренебрежение, унаследованное, кажется, от Льва Толстого, – порой вводит в заблуждение или даже расхолаживает читателя, привыкшего к «роскоши красок», призрачной или подлинной. У Алданова красок нет. (Кстати, тут, в этом пункте, как, впрочем, и во многих других, он гораздо ближе к Достоевскому, чем к Толстому, несмотря на все свое отталкивание от первого, несмотря на все влечение ко второму. У Алданова нет природы, как нет ее и у Достоевского. У Алданова все его «эпохальное» чувство пронизано, как стержнем, авантюрностью, – совершенно так же, как в «Карамазовых» или в «Бесах», и в полную противоположность «Войне и миру».) Но он и не живописец вовсе, он – скульптор. Каждый его герой именно вылеплен – с такой отчетливостью, с такой скульптурной всесторонностью, что нечего и добавить. Человек не намечен, а создан, – и мы не догадываемся по одной, хотя бы и волшебно-яркой, черте об остальных свойствах, мы все знаем, все видим. Именно она, эта алдановская скульптурная галерея, и производит впечатление «мира», хоть моментами и кажется, что перед нами мир неподвижный, безмолвный, как представляется застывшим и неподвижным подлинный, живой мир ночью при внезапной ослепительной вспышке молнии. Но каждый отдельный персонаж совершенно ясен. Никогда не перестаем мы удивляться Семену Исидоровичу Кременецкому, этому русскому мосье Омэ из «Мадам Бовари», этому шедевру «типичности»! Когда-нибудь будут говорить «Кременецкий», как теперь мы говорим «Обломов»: в имени все сказано, больше никакой характеристики не нужно. Не забывайте, что Кременецкий все-таки второстепенное лицо в романе, так же как Тамара Матвеевна, или Клервилл, или Витя Яценко, или дон Педро – все наиболее удавшиеся Алданову люди. Героиня – Муся, и, как не раз бывало даже в самых великих, самых прославленных и гениальных романах, именно центральный образ бледнее остальных, неуловимее в своей сложности, расплывчатее в очертаниях. Отчего? На характеристику Муси Алданов потратил не меньше сил, чем на обрисовку Семена Исидоровича, и направил на нее лучи не меньшего напряжения, вернее, даже большего напряжения, во всяком случае большей длительности. И не в этом ли разгадка? Чем пристальнее художник вглядывается в человеческую душу, тем яснее видит ее изменчивость и тем труднее ему, оставаясь правдивым, придать ей какую-либо постоянную характерность. Кременецкий-отец обрисован по классическому принципу создания «типа», т. е. по принципу отбрасывания случайностей, очищения, подчеркивания, обобщения, по мольеровско-грибоедовско-гончаровскому методу однотонной гипнотизирующей яркости. Муся очерчена в соответствии с новым шекспиро-толстовским ощущением, что в человеческой душе нет ни конца, ни начала, что она наполовину бесформенна, что в ней есть провалы, которым нельзя найти определения, что вся она соткана из противоречий. Муся как будто уходит из алдановской галереи, не найдя в ней места… Эта ее особенность, эта ее уединенность в романе наталкивает на мысль, которую я решился бы развить более смело, если бы не авторское напоминание о «почитывании». Может быть, автор прав? Может быть, важнейшее, основное в его творчестве остается непонятным, незамеченным? Нечего, однако, делать: приходится говорить о том, что представляется верным, с сознанием, что ошибка и возможна, и вероятна.
В «Пещере», как и во всей трилогии, как будто не хватает воздуха. Употребляю умышленно выражение импрессионистическое, с растяжимым, неотчетливым смыслом… При всех крупнейших и высоких достоинствах романа, достоинствах, в которых современники, кажется, еще не вполне отдают себе отчет, «Пещера» воспринимается сознанием как история, как отвлеченный вымысел, как явление, которое возникло вне воздействия нашей жизни и без желания воздействовать на нее. Это тем более поразительно, что быт в романе – самый современный, парижско-эмигрантский, и никакой внешней отчужденности нет. Но нет и связи. Скульптурная округленность замкнута в самой себе. Нельзя ни на минуту представить себя участником событий: мы только свидетели… Алданов демонстративно создает «произведение искусства» – объективное, самодовлеющее, «мир». Но не случайно же сейчас, в наши дни, искусство, самое понятие искусства, непрерывно терпит испытание и все сильнее взрывается изнутри всевозможными личными документами, книгами, в которых вымысел сливается с признаниями, а интрига – с автобиографией, не вздорная же это мода, не пустая прихоть ослабевших дегенератов! Объяснение только в том, что в игру искусства, как и вообще в человеческую «игру», вторгаются новые элементы, которые сейчас еще не могут быть претворены в образы, обезвреженные и облагороженные. Алданов держится юлиановской, отступнической традиции – со всей тяжестью этой позы, но, правда, и со всем ее героизмом. В образе его Муси есть просвет, как ни старайся он замазать щель. Но в общем построении романа щелей нет, и ему трудно найти вольное живое соответствие, естественное продолжение. В этом смысле роман иногда кажется более ирреальным и даже иррациональным, чем самая фантастическая сказка с чертями и ведьмами: ни с чем не считаясь, им управляет воля автора.
Если бы принято было у нас, чтобы авторы сами себя комментировали! Согласится ли Алданов с определением его места в современной литературе? Как относится он к понятиям искусства и творчества и к своей роли в этой области? Человек может насчет самого себя обольщаться, но все-таки знает он о себе много больше, чем кто-либо другой. Избыток «attention» не мешает, и редчайшие образцы подлинной писательской «самокритики» были всегда исключительно интересны.
Конечно, «Пещеру» можно читать просто так, для удовольствия, для наслаждения. Но можно и задуматься над вопросами: что это за книга? к чему она ведет? чего она хочет? что за ней и что перед ней?
<«Стихи и поэмы» Н. Гронского. – «Всадники» Ю. Яновского>
Есть у Боратынского знаменитые строки о музе, которая поражает свет «лица необщим выраженьем».
Строками этими не раз злоупотребляли критики, применявшие их ко всякого рода поэтам, даже таким, которые лишены всякой оригинальности. Кто только ни цитировал этого злосчастного «необщего выраженья», на лице каких только поэтов не было оно уловлено. В свое время даже Дмитрий Цензор был им удостоен, – но и это не отбило охоты искать его у других стихотворцев.
По привычке, по безотчетной склонности к «линии наименьшего сопротивления» я едва не начал отзыва о книге стихов покойного Н. П. Гронского истрепанной, затасканной цитатой из Боратынского… А книга действительно не похожа на другие сборники стихов, выпускаемые молодыми авторами! Она действительно своеобразна. Обойдусь поэтому без цитаты – чтобы не испытывать доверия читателей. Очень много в творчестве безвременно погибшего поэта представляется мне спорным. Бесспорна только его принципиальная, вызывающая, подчеркнутая «необщность», его постоянное желание плыть «против течения».
Вокруг этого посмертного сборника уже разгорелась любопытная и характерная полемика, не дошедшая до большой печати, но волнующая нашу литературную молодежь. К сожалению, полемика эта осложнена и «снижена» вмешательством давней, вздорной распри эмигрантской литературной «столицы», то есть Парижа, с «провинцией», – распри, инициативу которой по справедливости приходится отнести на счет «провинции». Именем Гронского воспользовались отрицатели «парижской поэзии», для того чтобы под прикрытием высокой идейности лишний раз свести какие-то темные самолюбивые счеты: в Париже Гронского будто бы не заметили, не поняли, не признали, не признают и до сих пор, – а вот «провинция» его оценила, ибо она, провинция, еще сохранила чувство великого и прекрасного, столица же разменяла это чувство на всякие мелкие изыски, утонченности, штучки, недомолвки и намеки. Не будем в полемику ввязываться. Как водится, обличители приписывают ум и достоинство себе, глупость и ничтожество оставляют на долю противника, после чего и празднуют победу. Интересно в разногласиях не это. Интересно то, насколько тоска о великом, героическом, прекрасном сейчас остра и как разбивается политическая реализация этой тоски о тысячи препятствий психологических, словесных или общекультурных… К чести покойного Гронского надо сказать, что он сделал на трудном, почти безнадежном пути одинокую смелую попытку. Но минимум беспристрастия и правдивости требует сразу же добавить, что попытка и осталась попыткой. Да и могло ли быть иначе, раз поэт умер, не достигнув и 25 лет?
Наша лирика уже давно больна боязнью яркости, боязнью красноречия, боязнью величия, давно уже прячется по углам и закоулкам вдохновение, избегая простора. Поставить диагноз – легко, найти метод лечения – несравненно сложнее. Нельзя же сводить все дело к примитивному смехотворному объяснению, будто у людей просто-напросто испортился вкус, и только потому предпочитают они остатки, объедки, обглодыши чувства, мысли и воли былым роскошным пирам. Вкус не испортился, но былые яства протухли. Упрек приходится возвратить, он не по адресу. Подделки под великое искусство, откровенно и властно апеллирующее к основным человеческим устремлениям, настолько стали общедоступны, и столько повсюду развелось «почти Пушкиных», «почти Бодлеров» или «почти Достоевских», что поэзия (может быть, не в самой сильной своей части, но, наверно, в самой впечатлительной и чуткой) ушла в щели, где и довольствуется полу-днем, полу-сумерками. Ей тесно, она задыхается, но у нее осталось по крайней мере утешение творчества, то есть встреч с новым материалом, упоительной борьбы с ним, обработки его, – и на мнимо-ширококрылых счастливцев, беспечно пребывающих наверху, она посматривает без всякой зависти… Конечно, долго это длиться не может. Выход, путь надо найти. Но где, но как? Сколько ни думай, ответ уводит нас из чисто литературных областей к широкому полю социальных (а для некоторых – и религиозных) исканий. Нарушена связь человека с миром, задето сознание, – и горьким обольщением было бы считать, что «здоровую» поэзию можно восстановить, не спускаясь к самым корням недуга. В России поэзию поставили на ноги «в два счета», как и все вообще: нам может быть не по душе такое обращение, но мы должны признать, что по-своему оно законно. Там, во всяком случае, начали «перестройку» с самого основания, – и метаморфоза поэзии там явилась неизбежным следствием беспрепятственного разрешения общих задач культуры. Не касаюсь сейчас вопроса, насколько советская поэзия удачна, жива, талантлива. Ясно, однако, что у нее нет на плечах нашего груза, – а наша-то творческая трагедия именно в том, что мы от этого груза не отказываемся, что без него нам самый полет ни к чему, что мы не чувствуем ни малейшего желания превратиться в «новых людей», которых насаждает на земном шаре Сталин. Нам нужна своя великая поэзия. Как ее создать?
Надо отдать справедливость Гронскому: он не принадлежал к поэтам типа «неподозревающих», то есть сочиняющих гладкие, звонкие, эффектные стихи о Боге, родине, любви или бессмертии души, в безмятежной уверенности, что это-то и есть поэзия. У него была, по-видимому, острая потребность обновления, – и соединил он в своих стихах державинскую манеру с манерой Марины Цветаевой не случайно. В строфах, где почти всегда чувствуется упорная работа, он искал выхода голосу больших и чистых порывов, больших и чистых страстей… Но стиля он не нашел, и – даже больше – он не приблизился к нему ни на шаг, не уловил, не почувствовал самых расплывчатых очертаний его. Лирика его всегда серьезна, значительна, но, собственно говоря, не как поэзия, которой она еще не стала, а как свидетельство о юном, душевно-одаренном и сильном человеке. Интересно было бы сделать опыт: перевести стихи Гронского на какой-нибудь иностранный язык. Вероятно, получился бы слепок с чего-то подлинно-прекрасного. Беда, однако, в том, что и по-русски эти стихи – лишь слепок, и мучительная нестройность слов, какая-то глубочайшая неслаженность их звукового состава вместе с рассудочной книжностью позволяют только догадываться о чертах настоящего «лица».
Все-таки книгу эту ни с какой другой спутать нельзя. В ней есть что-то смутно-орлиное и рыцарское, независимо от литературных ее достоинств или неудач. Образ горных вершин, постоянно в ней мелькающий, очень верно передает впечатление, которое она оставляет. И хорошо, что это действительно молодые стихи. В наше время много юношей, все уже знающих, все уже понявших, и этим знанием, этим пониманием подкошенных и обессиленных. Для них все в мире относительно, они к «добру и злу постыдно равнодушны». Здесь, у Гронского, молодость берет реванш, – а если иной двадцатилетний скептик взглянет на этот задор с остывшей усмешкой, то, может быть, позднее, много позднее, догадается он, что усмехаться было нечего. Догадается и пожалеет, что не горел, не мечтал, не рвался в какой-то неведомый бой сам.
* * *«Всадники» Юрия Яновского – книга «необычайная», по отзывам советской критики. О ней в Москве говорят как об одном из замечательных литературных явлений за последние годы. Не так давно Замятин в парижской «Марианне» поддержал это мнение, выделил из текущей «продукции» сборник Яновского вместе с прелестным и удивительным «Жень-шенем» Пришвина.
Интерес, значит, возбужден. Книга действительно заслуживает внимания. К сожалению, приходится читать ее в переводе, так как написана она по-украински.
«Всадники» – сборник рассказов о гражданской войне на юге России. Рассказы эти связаны между собой общим действием, повторением имен, но связаны настолько слабо, что цельность книги возникает лишь благодаря единству настроений. Настроение знакомо, его не раз передавал Бабель, передавал Пильняк и другие: бесшабашная удаль, нищета, беспечность, презрение к жизни и смерти, ожидание коммунистического рая, одним словом, все то, что условно принято называть «романтикой революции». На этом фоне движутся красноармейцы, махновцы, белые, занимаясь почти исключительно взаимным истреблением. Первый рассказ, «Двойное кольцо», особенно характерен.
Герои его – четыре брата Половцы. Петлюровец, Оверко Половец, берет в плен деникинца, Андрея Половца, и, не задумываясь, убивает его. Панас Половец, махновец, поступает так же с Оверком. Наконец, Иван, коммунист, расправляется с Панасом. Каждый из братьев с иронией вспоминает перед убийством поговорку, которую повторял отец: «Тому роду не будет переводу, в котором братья любят согласие и угоду», но один оправдывается тем, что «государство важнее рода», второй – тем, что «братья одного роду, но разного класса», и так далее. Другие рассказы – приблизительно в том же духе.
Если бы в наше время мир не был бы кое в чем похож на сумасшедший дом, такая книга должна была бы вызвать омерзение, содрогание и ужас… Описывать, конечно, можно все. А случаи, подобные тем, которые описал Яновский, вероятно, происходили в действительности, и, следовательно, автор не выдумывает, не лжет. Но автор захлебывается от восторга – и пересыпает свои идиллические картинки такими, например, стихотворениями в прозе: «О, девятнадцатый год поражений и побед, кровавый год исторических баталий и человеческих битв, критический, несокрушимый, бурный и нежный, бессонный девятнадцатый год!.. О, девятнадцатый год мстителей и плательщиков, достойный год расчетов и записей в бухгалтерскую книгу Революции, далекий год живых генералов, набитых астмой, калом и страхом, год ненайденных образов и трагедийных метафор, год любви и смерти, трепета восставших сердец, простоты жертв, сладости ран и высоты классовых чувств, о, милый, экстатический год!».
Не знаю, как все это сказано по-украински. Но по-русски словечко «милый» – незабываемое и поразительное. Именно он, этот эпитет, дает толчок и своей неожиданностью как бы заставляет очнуться: в сущности, мы уже так много читали романов и рассказов в духе Яновского, так привыкли к ним, что перестали удивляться этой «романтике». Но «милый» девятнадцатый год – это все-таки чересчур: вся его кровь и жестокость сразу встают в памяти!
Разумеется, в России на фоне теперешней производственной беллетристики, серой и скучной, «Всадники» должны казаться вещью волшебно-яркой. Не отрицаю, что Яновский действительно талантливый человек: Замятин совершенно прав, отмечая живописные достоинства его стиля, меткость характеристик, своеобразие ритма. Во «Всадниках» есть ощущение степной безбрежной шири, есть налет дикой, какой-то азиатски-унылой поэзии. Дикая эпопея, отраженная в ней со стенько-разиновским привкусом, издали может взволновать души и сердца, вянущие в теперешней бытовой обыденщине.
Но если очнуться… Какая все-таки это звериная, волчья книга! Куда идет человек, если эти поэтически-талантливые, даже вдохновенные картины взаимной бойни и травли вызывают в нем только поэтические эмоции! Представьте себе, что «Всадников» прочел бы Лев Толстой: он не то что поморщился бы, он был бы, конечно, охвачен величайшим волнением и гневом и просто не поверил бы, что подобные книги могут появляться, одобрительно обсуждаться, вызывать восхищение и признание! Даже здесь, в эмиграции, наша восприимчивость настолько притуплена событиями и эпохой, что без устали, без внешнего толчка, не замечаешь в рассказах Яновского ничего особенного. Читаем, обсуждаем стиль и литературные приемы… Неужели и в России это так, и никто не приходит в ужас, в недоумение, в отчаяние?
«Круг»
Осенью прошлого года по инициативе И. И. Бунакова в Париже возникло общество, посвятившее себя тому, что в сравнительно недавние годы мы назвали бы «выработкой миросозерцания». Но наша эпоха ироничнее, разобщеннее довоенной и о «выработке миросозерцания» теперь мало кто склонен говорить. Однако изменились, главным образом, выражения. Суть дела осталась почти той же самой, да и не может она сильно изменяться.
Обществу дано было имя «Круг». Вошли в него преимущественно молодые или среднего возраста, литераторы, а, с другой стороны, богословы и представители тех новых политических течений, которые связывают разрешение социальных вопросов с верностью догматам христианства. Споры бывали страстные, иногда очень интересные. Если «миросозерцание» намечено и не было, то найдена была тема, всех волнующая, – и я не думаю, что сильно отклоняюсь от истины, если сформулирую эту тему так: с христианством или без христианства? Спор не стал «внутренно-богословским», замкнуто-православным, что уменьшило бы его ценность и уничтожило бы его живость. Он постоянно, упорно подходил к этой границе, но неизменно о нее и разбивался, так как далеко не все безоговорочно соглашались ее перешагнуть. Беседовали обо всем. О жизни, о творчестве, о судьбе человека, о личности и коллективе – и всегда, в каждой беседе, сталкивались два умонастроения: одно – для которого все в общих чертах уже решено, ибо абсолютная Истина найдена, другое – для которого не решено ничего и которое идет в будущее, вперед, «со страхом и сомнением», оглядываясь на каждом шагу.
Общество «Круг» недавно решило заняться литературно-издательской деятельностью и выпустило альманах. Не следует думать, однако, что программа его работ в альманахе отчетливо отражена. Руководствуясь принципом незыблемости творческой свободы, редакторы сборника никому из участников ничего не подсказывали, не заказывали и не внушали, – а так как сборник на три четверти своего объема состоит из рассказов или стихов, то неудивительно, что связь его с круговыми беседами уловить трудно, а иногда и совсем невозможно. Рассказал я о том, как и откуда возник альманах, лишь в «порядке осведомления». Оценивать и разбирать его приходится, как всякий другой сборник. Да и ни на какое особое идеологическое своеобразие он, по-видимому, не претендует. Добавлю, что не все из участников сборника «Круг» состоят членами одноименного общества.
На нашем здешнем, окончательно оскудевшем книжном рынке появление всякой книги, стоящей на известном литературном уровне, – событие. «Круг» же достоин был бы внимания всегда, при любых условиях.
В альманахе умело, удачно и довольно полно представлена молодая парижская литература. Отдел прозы украшен новым именем В. Емельянова, который едва ли окажется «случайным гостем в царстве слова»: у него есть все, чтобы стать подлинным писателем. Он уже и теперь подлинный писатель: не в будущем, а в настоящем.
Читателям «Круга» такое утверждение может представиться голословным или, во всяком случае, преждевременным. По-своему они, пожалуй, будут правы. Но мое положение иное: мне посчастливилось полностью прочесть ту повесть, небольшой отрывок из которой напечатан в альманахе, и я прошу в «кредит» доверия к отзыву о ней. Как эту вещь охарактеризовать – «интересно», «оригинально», «свежо», «остроумно»? Все не то. Повесть пленительна, несмотря на некоторую бледность и местами шероховатость письма, – пленительна острой грустью замысла, неподдельной своей «поэтичностью», всем своим сдержанно-лирическим, мужественно-холодноватым тоном. В ней есть тот душевный подъем, отсутствие которого никакими формальными достоинствами заменить нельзя. Да и с точки зрения формальных достоинств в ней многое примечательно. За последние десять лет мне по роду моей деятельности пришлось прочесть очень много рукописей, присланных неизвестными авторами: вспоминаю за все эти десять лет лишь один случай такого же радостного, нежданно-негаданного «шока», как от книги Емельянова, – впечатление от «Повести с кокаином» Агеева, пролежавшей у меня чуть ли не полгода как предполагаемый хлам и потом прочитанной, «проглоченной» в час или в два. Вещи ни в чем не схожие, кроме сразу возникающей над ними уверенности, что это действительно настоящее, что ошибки быть не может. Насчет Агеева двух мнений теперь, кажется, и нет. У Емельянова меньше творческого напора, и суждения о нем, может быть, разделятся, – но, конечно, найдутся читатели, которым он станет близок и даже дорог. В «Свидании Джима» рассказано почти исключительно о собаках. Отчасти в том-то дарование автора и сказывается, что он заставляет нас следить за собачьими приключениями, чувствами и невзгодами, будто перед нами люди. Человеческая линия интриги сплетена с этой собачьей линией неразрывно. В целом – получается нечто чуть-чуть капризное, чуть-чуть искусственное по внешности, но изнутри согретое таким непритворным душевным излучением, которое всякую манерность уничтожает. Даже на пяти страничках, напечатанных в «Круге», отсвет этого излучения лежит везде, – хотя по отрывку, повторяю, нельзя судить о всем произведении.
Глава из романа покойного Поплавского «Домой с небес» отмечена чертой, как раз чуждой Емельянову, а именно: недержанием лиризма. Тут, конечно, споров о таланте не будет. Талантливость – щедрая, неукротимая – очевидна. Но в сложной, хаотической натуре Поплавского, вечно подхлестывавшейся новыми увлечениями, вечно куда-то рвавшейся, литературный талант был в разладе с умом и волей. В процессе творчества Поплавский нередко терял всякое чувство меры, не только стилистическое – что было бы в конце концов не так уж важно, – но и внутреннее, эмоциональное. Даже в самом названии романа «Домой с небес», таком предвзято-вдохновенном, таком назойливо-романтическом, это сказывается. В отрывке есть наблюдения тончайшие, есть прелестные словесные и образные сочетания, – но все подчеркнуто, каждый намек раскрыт и десятки раз преподнесен на разные лады. Будто восхитительный пианист держит все время ногу на педали, заглушая сам себя. И в целом – что скрывать – это плохая литература. Никому нельзя посоветовать у Поплавского учиться, никому нельзя поставить его в образец… Но только вот что удивительно: после этой плохой литературы (для рассудка, для остывшего критического чутья плохой – несомненно), многое, многое в признанно-доброкачественной словесности кажется настолько плоским, что валится книга из рук. Как объяснить это? Вероятно, объяснение в том, что узко-эстетическое, не идущее дальше чисто литературного анализа, не учитывающее «воздуха» (в советской критике говорят – «конкретное») отношение к писателю искажает в нашем восприятии его облик. Особенно при таком противоречивом внутреннем строе, каким наделен был Поплавский. Он не успел ничего в себе упорядочить. Он умер над черновиками – в точном или в расширенном, углубленном смысле слова (как Андрей Белый). Но в черновиках этих столько предчувствий каких-то чудных «неспетых песен», столько тревожных отзвуков, такая музыкальность заблудившейся безостановочной мысли, что от них трудно оторваться. А ошибки слога, промахи и порой безвкусица – досадны, но не так уж существенны: лучше бы их не было, но помиримся на том, что Поплавскому можно их простить. Во всяком случае, – есть за что прощать.