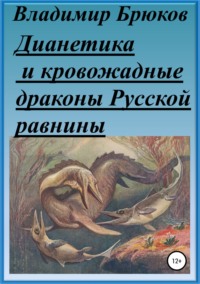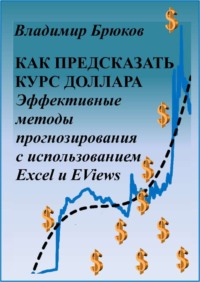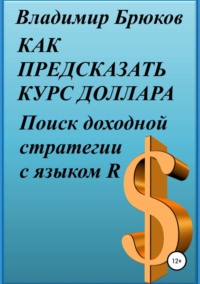полная версия
полная версияНовая летопись Камышина
Таким образом переселение связано с тем что после восстания Булавина и последующих карательных действий царских властей в Дмитриевске осталось слишком мало войск, чтобы одновременно охранять построенную на рукотворном острове у правого берега Камышенки крепость и нести гарнизонную службу в левобережном Дмитриевске.
К сожалению, не сохранилось документов, рассказывающих о том, как жители переселялись на правый берег Камышенки. Но благодаря рассказу Джона Перри, описывающему переселения работников Воронежской верфи, мы в общих чертах можем представить, каким образом происходило это переселение: «Место для постройки Царских кораблей, которое находилось первоначально около самого города Воронежа, перенесено было за 7 Русских миль (верст – прим. В.Б.) вниз по течению реки; и по этому случаю также пришлось перенести туда дом, предназначенный для приезда Царя и некоторых из его Лордов (дома эти, по Русскому обычаю, были деревянные и устроены таким образом, что могли по желанию быть перенесены с одного места на другое); также перенесены были дома строительных мастеров, художников, и работников. [См. Перри Д. Состояние России при нынешнем царе. В отношении многих великих и замечательных дел его по части приготовлении к устройству флота, установления нового порядка в армии, преобразования народа и разных улучшений края (пер. О. М. Дондуковой-Корсаковой)// Чтения императорского Общества Истории и Древностей Российских. №. 1. М. 1871, с. 10].
Вполне очевидно, что дома у жителей первоначального Дмитриевска «по русскому обычаю были деревянные и устроены таким образом, что могли по желанию быть перенесены с одного места на другое». Поскольку указ Петра I о переселении Дмитриевска был издан 20 июня 1710 года, то в июле и августе, когда речка Камышенка обычно становилась ручьем, перевезти жилье на другой берег было возможно.
Современным исследователям до сих пор не совсем понятно, почему Петр I сделал выбор в пользу переноса города на низкий болотистый правый берег р. Камышенки. Тем более что в литературе встречается упоминание, что Петр I, побывавший в 1722 г. во время Персидского похода в Дмитриевске, якобы оказался недоволен этим переносом. Правда, в походном журнале Петра I можно найти лишь краткий рассказ о его визите в Дмитриевск (Камышенку), а не оценку царя по поводу переноса города: «13-го (июня 1722 г.). По утру на разсвете прибыли к Камышенкам, где с города стреляли из 15-ти, ответствовано из 3-х пушек, где Его ВЕЛИЧЕСТВО ПОЗВОЛИЛ осматривать города; и тут быв часа с два, пошли в путь; и шли во весь день на парусах и пришли к Царицыну в вечеру, и тут ночевали и, за великою погодою, стояли тут до полудня 16-го числа. От Самары до Камышенки 180-т, от Камышенки до Царицына 180-т. [См. ПОХОДНЫЙ ЖУРНАЛ 1722 ГОДА. СПб, 1855, с. 45]».
В камышинской летописи об отрицательном отношении Петра I к переносу города говорится следующее: «В 1722 году ехал Государь Петр Алексеевич в Персию и взял с собою из полку сорок человек в гребцы своей шлюпки, из коих возвратилось только двое, прозываемые Тонков и Кока, а прочие все в Персии померли. В сие самое время Государь Петр Первый изъявил свой гнев на онаго князя Хованского, спрашивая с ним бывших: для чего он перевел с прежняго на сие место город? – и как ему все граждане во оправдание сказали вышепомянутую причину, то он спросил: «жив ли оный князь?» А как донесли, что он помер, то изволил сказать: «Если б он был жив, то я велел бы его на том месте повесить». [См. Пополнительные сведения, к истории города Камышина // Царицынский и Камышинский уезды в описаниях краеведов (1727 – 1928). Под ред. М. Загорулько и О. Тюменцева. Волгоград, 2010, с. 56]
Версия камышинской летописи косвенно подтверждается одним из эпизодов, описанным в дневнике члена-корреспондента Петербургской Академии наук Николая Яковлевича Озерецковского (1750 – 1827): «На другой день к вечеру приехали в город Камышев (так в оригинале – прим. В. Б.), где и стали у лутчаго купца сего города. Ноября 20, воскресенье (1782 г. – прим. В.Б. ). Сей день употребили мы на осмотрение, начатаго еще Петром I канала для соединения Илавлы с Камышенкой, а чрез то зделать водяное сообщение между Донам и Волгою. Но как другия важнейшия дела отвлекли его от сего предприятия, то он и оставлен его еще недокончанным, хотя уже на 7 верст и был вырыт. Сие соединение Илавлы с Камышенкой составляют два канала, которыя оба на вышеуказанное разстояние уже и вырыты. Один из них служил бы единствено для поднятия судов из Волги на ту вышину, в какой находилась бы воду в другом канале, по которому надлежало б им ходить. Сие предприятие имел, как по истории оказывается, еще Ахмет II император турецкий (Султан Оттоманской Порты Ахмед II правил с 1691 по 1695 гг. В этот период Порта лишается почти всех своих владений на левом берегу Дуная), который в то время, воюя с Персиею, хотел из Чернаго моря послать флот в Каспийское. Но Петр I, котораго высокий ум ничего не опускал которое б могло быть его Отечеству полезным, начал производить его в действие и верно бы его досовершил, если бы наступившая тогда война с Швецией ему в том не воспрепятствовала.
В нынешняя времена не раз уже посылали, дабы осмотреть если возможность сие исполнить и хотя тут особенно больших затрутнений, выключая великость работы и кошта, и нету, однако по сие время остается в том же положении. Хотя при устье Камышенки и были зделаны шлюзы, но оне обратно совсем истреблены так, что не видать ни малейшаго теперь оных и остатка. Худо ли оне были зделаны и другая какая причина, что оне разрушены, сие мне неизвестно. Немало также способствовал нам к приобретению надлежащаго о сем канале сведения один находящейся в Камышенке старик, которому государыня по минований смутных произшествий, за оказанныя им в то время услуги, пожаловала ему в вечное потомство благородство. Он был еще 12-ти лет, как император был в сих местах. Он же уведомил нас, что государь весьма сожалел, осматривая сие место, что город был перенесен, ибо он стоял на другой стороне реки Камышенки, которая повыше другой и выгоднее как для крепости, так и для самаго города. [См. Озерецковский Н. Я. Путешествие по России. 1782-1783. СПб. Лики России. 1996, с.106-108]
Быть может, переселение Дмитриевска на правый берег Камышенки можно объяснить тем, что в июне 1710 г. Петр I еще не оставил попыток построить Волго-Донской канал, соединив р. Камышенку с Иловлей? На первый взгляд, в пользу этого говорит следующее свидетельство, оставленное шотландским врачом Джон Беллом (1691—1780 гг.), побывавшим в России с целью удовлетворения своей страсти к путешествиям. В своих дневниковых записках, впоследствии опубликованных в Лондоне под заглавием “Travels from St. Petersbourgh to diverse parts of Asia”, он написал следующее: «Из Саратова выехали мы 1 июля 1716 г., и проехали 2, 7 и 9 чисел города Камышинку (Kamoshinka) или Дмитриевск (название добавлено переводчиком – прим. В.Б.), Царицын и Черный Яр; все три лежат на западном береге, и также укреплены, как Саратов. В первом нашли мы капитана Перри, родом англичанина, со множеством работников, прокапывающих ров между Волгою и Доном, чрез что учинилося бы сообщение с Черным морем; но как земля была очень жестка и неровна, то оставили сию работу, хотя расстояние не более как на пятьдесят верст простиралось». [См. Исторические путешествия. Извлечения из мемуаров и записок иностранных и русских путешественников по Волге в XV-XVIII вв. Сталинград. Краевое книгоиздательство. 1936, с. 152].
Однако утверждение Джона Белла о том, что в июле 1716 г. на р. Камышенке якобы работал Джон Перри, большинство историков считают ошибочным, поскольку точно известно, что этот инженер с помощью английского посланника еще в 1712 г. покинул Россию. Чтобы разобраться в причинах этого недоразумения автор этих строк посмотрел оригинал, в котором о Джоне Перри на самом деле сказано следующее: “At the first of these places captain Perry, an ENGLISHMAN, with many workmen, was employed in cutting a canal between the VOLGA and the DON, which would have opened a passage to the EUXINE sea; but the ground being very hard, and rising in some places considerably above the level, the enterprise was laid aside, though the distance was not above fifty verst”. [См. Bell, John. Travels from St. Petersburg in Russia to diverse parts of Asia. 1763, Vol. 1, pp.34-35.]
Так, вот этот отрывок правильно было бы перевести таким образом: «В первом из этих мест англичанин капитан Перри со многими работниками занимался постройкой канала между Волгой и Доном, что открыло бы проход к Черному морю; но так как земля оказалась слишком жестка и неровна, то от этого предприятия отказались, хотя расстояние было не больше 50 верст». Таким образом Джон Белл в этом отрывке на самом деле говорит не о встрече с Джоном Перри (тем более что судно не заходило в Дмитриевск, а потому этой встречи не могло быть), а лишь о том, что английский капитан со многими работниками в Камышенке ранее занимался постройкой Волго-Донского канала, но по объективным причинам от этой затеи пришлось отказаться.
Дмитриевск в первые годы после подавления булавинского восстания
О том, насколько обезлюдел и захирел Дмитриевск после булавинского восстания и переноса города на правый берег Камышенки, говорят следующие документы, сообщавшие о том, что городе не хватало подвод и лошадей для знатных иностранных путешественников. Вот, например, какие трудности возникли у римского посланника: «Лета 1713 июля в 21 день по указу великого государя память Посольского приказу подъячему Алексею Протопопову ехать ему на Камышенку в Дмитровской и в Казань для того в нынешнем 1713-м году посылан он Алексей да Минаса вартапеда человек армянин Богдан Христофоров в Казань для взятья папы римского посланного Израиля Ория оставленных ево в Казани и в Астрахани пожитков и будучи там на Комышенке в Дмитровском у каменданта Федора Хрущова за недостатком подвод оставили Израилевых вещей 130 лож чинаровых и ареховых пистолетних 41 ложа чинаровых ж и ареховых фузейных, 12 досок чинаровых больших, 6 досок ореховых больших.
И подъячему Алексею приехав на Комышенку в Дмитревской говорить каменданту Григорью Жеребцову, чтоб те он ложи и доски ему отдали как он то все отдает и ему подъячему взяв те ложи и доски привесть к Москве и объявить в государственном Посольском приказе государственному канцлеру и кавалеру, графу Гаврилу Ивановичу Головкину да государственному подканцлеру, барону Петру Павловичу Шафирову, а ежели он, камендант те вещи не отдаст и ему Алексею ехать в Казань, приехав в Казань, подать великого государя грамоту ближнему боярину и губернатору Петру Самойловичу Салтыкову, какова писана об отдаче тех ложей и досок. И как то все ему отдано будет и ему Алексею приняв то все ехать к Москве и объявить в Посольском же приказе». [См. ЦГАДА, ф. 100, 1713 г., д. 2, лл. 1-19 об. Подлинник.]
Подвод и лошадей не хватило и богатому персидскому купцу, возвращавшемуся домой вместе с послом шаха: «29 ноября 1713 года из Казани Петр Салтыков в доношении Прав. Сенату пишет: в нынешнем 713 году 16 августа в грамоте великаго государя из государственнаго Посольскаго приказа в Казань писано: отпущен из С. Петербурга Шахова величества Персидскаго посол Фезли Алибек да купчина Маметь Усейн– бек с Шаховымп дворянами и с людьми их; и ежели ему послу случится в дороге в низовых городах зимний путь, чтоб давать подводы; а как он посол в Астрахань прибудет, дав ему послу под скарб и под шаховых дворян суды, а ему послу от 40 до 50 подвод до Терка, придав за ними в провожатых табуннаго голову с мурзами, отпустить в Персидкую землю с подобающею честию. Да по указам же из Канцелярии Прав. Сената велено оному послу и купчине давать на 14 стругов кормщиков и гребцов 236 человек от города до города, и тем гребцам давать прогонныя деньги против подвод на 10 верст по 3 деньги человеку, да в провожатых при офицере капральство солдат или и с прибавкою, как бы проехать безопасно. И оный посол и купчина со всеми при них будущими людьми прибыли в Казань 16 октября, и октября ж 20 из Казани отправлены и кормщики и гребцы и провожатые даны указное число; а 21 ноября писал в Казань из Дмитриевска, что на Камышенке, комендант Иван Немков: Шахова величества Персидскаго посол приехал в Дмитриеск 1 ноября и поехал того ж числа, и дано ему и князю Михаилу Азаманову на струга кормщиков и гребцов 180 человек да провожатых при офицере 20 человек; а купчина с 5 стругами зазимовал в Дмитриевском хочет ехать до Астрахани сухим путем, и просит под всякия свои вещи 250 подвод, и для охранения провожатых; а в Дмитриевске всяких чинов людей только 42 лошади, а уездных людей никого нет; а от других городов Казанской губернии оный город в дальнем разстояние, и толикаго числа подвод взять негде; и ежели для того его купчине отпуска лошадей и сани, и на них припасов купить – лошадей против подъемных по 5 руб. лошадь, сани и хомуты и веревки и лошадям на корм и провожатым на жалованье по 3 рубля на подводу, и то отправление оному купчине учинится 2.000 рублей; и таких денег в Казанской губернии взять не где для того, что на посольские отпуски в Казанской губернии денежной казны по табелю ничего не положено, и сверх табеля никаких сборов с двороваго числа собирать и на дворовое число накладывать не велено, а в отсылку из доходов Казанской губернии определено по табелю в Посольский приказ по 32.937 рублей на год; и те деньги по окладу отсылаются в тот приказ все; и ежели он купчина за вышеписанным удержится в Дмитриевске до весны, чтоб то на Казанской губернии не взыскавано; о том Прав. Сенат что укажет?
ПРИГОВОР. 1713 г. декабря 17, Прав. Сенат, слушав сего доношения, приговорили: Шахова величества Персицкого купчине Мамет– Усейн-беку и при нем людем ево до весны стоять в Дмитровску для того, что от Дмитровска до Астрахани нынешним зимним путем за оскудением подвод отправить ево невозможно; а в бытность ево купчинову в Дмитровску ево купчину с людми доволствовать ис прибылых Казанской губернии доходов, бес чего ему по крайней нужде пробыть будет не мочно; а как вешнее время приспеет и водяному ходу будет удобное время, и ево купчину, дав ему стругов и других судов сколко пристойно и провожатых и кормщиков и гребцов, отправить до Астрахани, а от Астрахани в Персицкую землю отпустить против грамоты великого государя, которая послана в Казанскую губернию ис Посолского приказу об отправлении Персицкого посла и ево купчины; а что в бытность того купчины на удоволство ему издержано будет, о том в Канцелярию Прав. Сената прислать доношение; и о том в Казанскую губернию к губернатору послать его великого государя указ. По сему приговору в Казанскую губернию к губернатору указ послан 18 декабря. [См. Доклады и приговоры, состоявшиеся в правительствующем Cенате в царствование Петра Великаго, изданные Императорскою академиею наук / под ред. Н. В. Калачова. СПб, 1880-1901, с. 1382-1383].
Старогородская площадь и заброшенные храмы первоначального Дмитриевска
Опись первоначального левобережного Дмитриевска 1703 г.
Если сравнить рис. 5, на котором изображены проектируемые города Камышенка и Петр город, с городом Иловлей, также нанесенным на карте Корнелия Крейса, то легко заметить, что последний город обозначен весьма схематично (см. рис. 7). В то время как Камышенка и Петр город изображены на этой карте весьма подробно с обозначением проектируемых кварталов и крепостных сооружений.

Рис. 7. Проектируемый город Иловля на карте Корнелия Крейса.
Но если сравнить проектируемые город Камышенка и Петр город (см. рис.5) с первоначальным левобережным, а затем с перенесенным на правый берег Камышенки Дмитриевском (Камышином) в том виде, в котором он существовал к 1826 г. (см. рис. 9), то легко заметить серьезные отличия.
Во-первых, проектируемые города на карте окружены земляным валом и рвом в виде полуокружностей, в то время как оба реально построенных города с двух сторон были окружены валом и рвом (с двух других сторон – окружены Волгой и Камышенкой), соединявшимися с друг другом почти под прямым углом. Во-вторых, расположение кварталов у проектируемых городов не совпадает с их расположением в реально построенных городах. В-третьих, на карте Корнелия Крейса в проектируемом Петр городе не обозначена крепость на островке, расположенная рядом с правым берегом Камышенки, которая появилась там в 1703 г. Кстати, этот факт говорит также о том, что карта Корнелия Крейса хотя и опубликована в 1703 г., но составлена она гораздо раньше, по нашим оценкам, где-то в 1699-1700 гг.
Познакомимся теперь с описью 1703 г. города Дмитриевска, которая весьма любопытна тем, что это первое довольно подробное описание недавно построенного города: «По описи воеводы Алексея Беклемишева 703 году.
Город Дмитровской земляной вал от Волги реки до проезжих ворот, длина 164 сажени, у тех ворот караулная изба. От тех ворот до роскату (уголнова по той же стене длина 368 сажен, у того роскату караулная изба. А от того роскату, в поворот к Камышенке реке, длина валу до ворот, что словут Московские, 365 сажен, а у тех ворот караулная да белая избушка началничья. А от тех ворот до ворот же, что словут Илавлинские 393 сажени, у тех ворот караулная изба. От Илавлинских ворот до Камышинского яру 184 сажени.
И всего городового валу обоих стен мерою длина 1474 сажени, в пошве поперег валу 6 сажен с аршином, (в) верху поперег валу – 3 сажени. А вышина валу, где щита нет, 4 аршина.
А того валу в одделке с щитом от Илавлинских ворот к Камышенке реке 164 сажени, а тот щит толщина одна сажень, а вышины 2 сажени и пол-аршина, а тот вес(ь) вал с одной стороны, с степи, ото рва, выкладено дерном.
А вышеписанные трои ворота в том валу построены дубовые, бревенные, подвестны в воротах; а в тех стенах ворота створные, дубовые, брусяные, а у них запоры – засовы железные с пробои и з замками. Против тех ворот построены через ров мосты подъемные, на железных чепях и на брусьях деревянных, длина через ров мостам по полу 7 сажени, ширина мосту 6 аршин без четверти. А на том валу и на воротах и на роскатах никакова древяного строения и башен к боевому делу ничего нет; а около того валу, с степи, выкопан ров, глубины 3 сажени один аршин, поперег рва вверху 6 сажен с полусаженью.
А от того валу, от Камышенского яру к Волге реке, по горе, до взвозу (улица, дорога в гору – прим. В.Б,), что к устью реке Камышенке, длина 365 сажен; а от того взвозу вверх по Волге реке, по горе ж, до валу 500 сажен, а в том числе зделаны к Волге реке 3 взвоза. У одного взвозу, что против блони (городская площадь, ровное место – прим. В. Б.) поставлена часовня. И в тех обоих стенах мерою длины от Камышенки и от Волги по горе 865 сажен. А строение и крепости земляного и древянного, и надолоб от воинских людей ничего нет. Итого всего вышеписанного городовой мере всех четырех стран валу и что без валу 2339 сажен.
В городе всякого военного снаряду:
пушка, длина 4 аршина, весом 33 пуда 30 фунтов, к ней ядро в 3 фунта;
пушка, длина 4 аршина, весом 32 пуда (последняя цифра неясно прописана) 32 фунта, ядро к ней в три фунта;
пушка, длина 3 аршина 7 вершков, весом 20 пудов 20 фунтов, ядро к ней 2 фунта;
пушка, длина 3 аршина 5 вершков, весом 27 пудов 20 фунтов, ядро к ней 3 фунта;
пушка, длина 3 аршина без полутора вершка, весом 18 пуд 20 фунтов, ядро к ней в 2 фунта без четверти;
пушка, длины 2 аршина с четвертью, весом 15 пуд 20 фунтов, ядро к ней 2 фунта;
пушка, длины 2 аршина с вершком, весом 15 пуд 20 фунтов, ядро к ней 2 фунта;
пушка, длины 2 аршина, весом 18 пуд 20 фунтов, ядро к ней в 3 фунта без четверти;
пушка, длина 2 аршина, весом 15 пуд, ядро к ней в 3 фунта с четвертью;
пушка, длины в 2 аршина 2 вершка, весом 18 пуд, ядро к ней в 2 фунта;
пушка, длины 2 аршина полчетверта вершка, весом 15 пуд 30 фунтов, ядро к ней 2 фунта;
пушка, длины 2 аршина, весом 15 пуд 20 фунтов, ядро к ней 2 фунта;
пушка, длины 2 аршина, весом 11 пуд 10 фунтов, ядро к ней 2 фунта без четверти;
пушка, длины 2 аршина без вершка, весом 9 пуд, ядро к ней 2 фунта;
пушка, длины 1 аршин 11 вершков, весом 9 пуд 20 фунтов, ядро к ней 2 фунта;
пушка, длины 1 аршин 11 вершков, весом в 3 пуда 30 фунтов, ядро в полфунта;
пушка, длины 2 аршина без трех вершков, весом 8 пуд 20 фунтов, ядро в полтора фунта;
пушки дробовики, длиною по аршину и по шти вершков:
1-я пушка весом 7 пуд 20 фунтов,
2-я пушка весом 7 пуд 12 фунтов,
3-я пушка весом 7 пуд 30 фунтов,
4-я пушка весом 7 пуд 20 фунтов.
А те вышеписанные пушки и дробовики все медные, а принеты ис полку столника князя Петра Дашкова с товарыщи – 14 пушек да 4 дробовика, а 3 пушки – дмитровские.
Пищали чюдинные, затинные, мерою и весом пищаль длины два аршина 3 четверти, весом 2 пуда 30 фунтов.
Восемь пищалей – длина по два аршина по три вершка,
весом в них 6 пуд 6 фунтов.
2 пищали длины по 2 аршина, весом 3 пуда 20 фунтов.
14 пищалей, длина им по 2 аршина без дву вершков, весом они 12 пуд 36 фунтов.
9 пищалей длиною пол-2 аршина, весом в них 6 пуд 14 фунтов.
Одна пищаль – длиною аршин, весу 30 фунтов.
Итого 35 пищалей, а те пищали без лож.
Мелкого ружья, которые годны к стрелбе:
147 фузей,
159 самапалов,
156 замошных мушкетов,
62 турки,
8 гранушек,
166 фетилных мушкетов худые,
мушкетных и самополных стволин без лож и без замков худых – 55,
360 фузей, которые присланы ис Синбирска, горелые, в ложах и з замками,
4 бочки ручного пороху, весом в них 31 пуд,
5 бочек пороху пушечного, а в них весу 31 пуд 8 фунтов,
свинцу пол-2 свиньи, в них весу 13 пуд 4 фунта,
дробоваго свинцу пулек 33 пуда 7 фунтов,
16 пуд фитилю.
Пушечных, которые годятца по кружалам, по весу по три фунта и с четвертью, а иные и без четверти – 380 ядер.
600 ядер весом ядро по 2 фунта без четверти.
Да не годятца к пушкам по кружалом 9 ядер.
17 сум гранатных.
8 сум пороховых.
3 сумы медные фузейные, весом 19 фунтов.
6 – уши пушечные железные, в том числе двои уши изломаны.
Пороху в 7 бочках, весом 58 под (пуд) 15 фунтов, и з веревом, что принято ис полку князь Петра Дашкова.
Свинцу одна свинья весом 8 пуд.
15 барабанов.
15 палников пушечных.
11 затравов.
6 пыжевников.
5 картузов.
14 гнезд шор ременных». [См. «Труды Саратовской ученой архивной комиссии», том II, вып. 1. – Саратов, 1889, с. 135-140. (Извлечено из Московского архива Министерства юстиции. Дела Герольдмейстерской конторы, книга №376, лл. 245-255).]
Как видим, воеводой Дмитриевска в 1703 году был Алексей Беклемишев. При этом город в 1703 г. в официальной переписке назывался Дмитровской. Город был окружен земляным валом, что в то время считалось более надежным укреплением по сравнению с деревянными крепостями, которые легче было разрушить артиллерийским огнем. Заметим, что Алексей Беклемишев в 1703 г. писал о том, что периметр правобережного Дмитриевска равнялся 2339 саженям, что практически совпадается оценкой П. Б. Иноходцева, данной в 1771 г., согласно которой периметр оставленного в 1710 г. дмитриевцами города равнялась 4 верстам и 220 сажен или в 2220 саженям (1 путевая верста =500 саженям). С учетом того, что путевая верста равна 1066,8 м, в переводе на современные меры длины периметр первоначального Дмитриевска равнялся, соответственно, по данным Алексея Беклемишева – 4990 м, а по оценке П. Б. Иноходцева – 4737 м.
Из «описи» также становится известным, что стольника и полкового воеводы при слюзном деле князя Петра Дашкова в 1703 г. на Камышенке уже не было: «А те вышеписанные пушки и дробовики все медные, а принеты ис полку столника князя Петра Дашкова с товарыщи – 14 пушек да 4 дробовика, а 3 пушки – дмитровские». Все это говорит о том, что Петр I к этому времени окончательно отказался от попытки соединить Влогу с Доном в районе Камышенки, а потому должность полкового воеводы при слюзном деле на Камышенке стала излишней.
С помощью «Информационно-поисковой полнотекстовой системы «Боярские списки XVIII века» нам также удалось выяснить, что князь Петр княж Иванов сын Дашков находился на Камышенке до 1702 г., после чего его – в связи с прекращением строительства канала – перевели из приказа Казанского дворца с занимаемой им должности полкового воеводы у слюзного дела в Правиантский приказ, который занимался снабжением регулярной армии продовольствием.
Согласно описи, в городе было построено трое ворот: Проезжие (с северной стороны городского вала), Московские (в середине западной стороны вала) и Иловлинские (с западной стороны вала, недалеко от р. Камышенки). Таким образом опись опровергает утверждение камышинской летописи о том, что в городе «для выезда устроено было четверо ворот» на самом деле их было три. Заметим также, что к 1708 г. северные Проезжие ворота переименовали в Казанские, поскольку так они названы в «росписи» Петра Хованского (см. ее текст выше), составленной вскоре после изганания из Дмитриевска булавинцев, то есть 25 августа 1708 г.