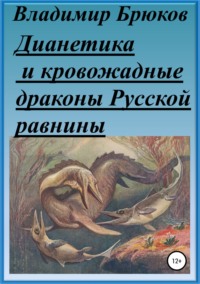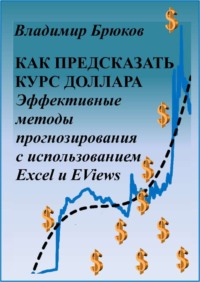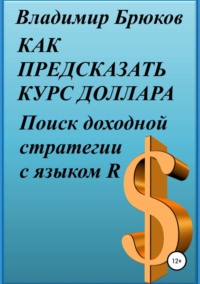полная версия
полная версияНовая летопись Камышина
Участие камышан в булавинском восстании
Захватив город, булавинцы ввели там казацкое правление: «выбрали из дмитреевских салдат атамана да старшину и велели им чинить право казачье, а соль велели продавать по 8 д. пуд», то есть снизили цены, которые выросли после введения в 1705 г. государственной монополии на продажу соли. В результате Дмитриевск стал для булавинцев базой для наступления на ближайшие города, остававшиеся верными царю. Причем, из изложенного выше письма коменданта Казани от 15 июня 1708 г. следует, что в первую очередь атаке захвативших Дмитриевск булавинцев подвергся Саратов. Об этом царю в донесении от 5 июня 1708 г. также сообщает и князь Петр Хованский, руководивший русско-калмыцким отрядом, участвовавшим в подавлении булавинского восстания: «… А майя в 31 день писал ко мне казанской комендант Никита Кудрявцов с товарыщи, что воры и изменники креста христова казаки учинили в Дмитреевску, что на Камышенке, разорение и из того города они, казаки, да с ними сообщники того города, салдаты, пошли конницею сухим путем, а пехота в стругах Волгою рекою, вверх к Саратову. И мы прося у господа бога милости с твоими государевыми ратными людьми пошли на отпор против тех воровских казаков, а что станет у нас чинитца и о том впредь писать стану». [См. ГАФКЭ. Кабинет Петра I, отд. II, кн. № 8, лл. 52—52 об.]
Судя по дошедшим до нашего времени документам, первый приступ к Саратову под руководством Л. Хохлача, окончился неудачей, а второй приступ, в котором собирался участвовать атаман И. Некрасов, не состоялся из-за внезапного нападения калмыков, изменивших Кондратию Булавину. Калмыки, неожиданно напав на отряды Хохлача и Некрасова, разбили их и заставили отступить к Дмитриевскому.
Между тем находившиеся в Дмитриевске булавинцы и местные их сторонники совершают нападение на волжские караваны. При этом разрешение на эти нападения дмитриевцам дал сам Кондратий Булавин: «15-е (июня 1708 г. – прим. В.Б.). Тот же казак сказал. Маия ж де 31 числа приезжали в Черкаской с Камышенки к Булавину с письмами 2 человека того города от жителей. А что де в тех письмах писано, того он не слыхал. Только де слышал он от тех приезжих, что на Камышенке того города жители забунтовали; воеводу и начальных людей 10 человек убили до смерти, и к нему де, Булавину, их прислали говорить, чтоб им жить в согласии с ними, ворами. А которые суды Волгою проходят на низ, и чтоб де он, Булавин, велел те суды им, камышенцом, одерживая у Камышенки, грабить. И он де, Булавин, то все чинить им велел. [См. ЦГАДА, Разряд IX. «Кабинет Петра I», отд. I, кн. 18, ч. 1, лл. 530-539. – Копия.]
В частности, камышенскими ворами были разграблены ехавшие в Астрахань государевы, патриарший и другие насады с разными «припасами». Подвергая разграблению торговых людей, «воры» вместе с тем мобилизовали и ехавших на этих насадах «работных людей многое число». Во время отступления от Саратова ими были также сняты с работ и волжские «ловцы» – рабочие рыбных промыслов; частично это было сделано из соображений, чтобы они «вести никакой вверх не подавали».
Потерпев неудачу под Саратовом, отряды атаманов И. Некрасов и И. Павлов в количестве 3 000 чел. 7 июня 1708 г. подступили к Царицыну. При этом действовали они, судя по документам, по предварительному согласованию с Булавиным. После неудачи первого штурма, сорванного появлением из Астрахани полка солдат, булавинцы, разбив этот полк и увеличив свои силы упомянутыми выше рабочими, а также снабдившись с помощью камышенских жителей, техническими инструментами вроде «кирок и мотыг и лопаток и заступов» (по всей видимости, эти инструменты, оставшиеся после строительства Волго-Донского канала, были в городе в избытке– прим. В. Б.), снова приступают к осаде города. «К Царицыну днем и ночью землю валили и ров засыпали, – читаем об этом в доношении астраханского воеводы Апраксина, – и наметав дров и всякого смоленого лесу и берест, зажгли и великою силою приступом и тем огнем тот осадной городок взяли». После захвата булавинцами города, царицынский воевода, подьячий и еще несколько человек были казнены; офицеры же и солдаты, по отобрании оружий, оставлены на свободе. В результате Царицын на некоторое время делается казацким. [См. Чаев Н. С. и К. М. Бибикова. Булавинское восстание 1707—1708 гг. Сборник документов // Труды Историко-Археографического института АН СССР, том XII, М., 1935, с. 55-56].
Расправа над камышанами-участниками булавинского восстания
Однако булавинцев вскоре из Царицына изгнали, а попавших в плен их сторонников, среди которых было немало жителей Дмитриевска, ждала жестокая расправа. Вот что об этом в своем донесении от 3 августа 1708 г. написал царю астраханский губернатор П. М. Апраксин, рапортуя о победе правительственных войск над булавинцами под Царицыном: «… От последних чисел майя не имели на Волге свободного проезду от детей вселукавого диявола воровских казаков. Как те воры Боловина (Булавина – прим. В.Б.), злодейственного сонмища, пришед з Дону, Сиротинской станицы и других городков, с ними ж беглые стрельцы и салдаты, собрався человек с 1000, майя 13 пришли на Волгу и город Дмитровской на Камышенке взяли без бою, те камышенские своровали, не противились, сложились за одно. И в первой день, взяв город, те воровские казаки и камышенские афицера одного да полкового писаря и бурмистров соляной продажи, умуча, побросали в воду. А полковник Данила Титов, которой город ведал, ушол и после сыскан и посажен за караул. И двинского полку маеора Друкорта, которой ехал к нам в Астрахань, переняв, муча, убили до смерти. И моего человека, которой ехал с Москвы з домовными припасы, муча ж, бросили в воду. И все разграбили, и торговые и троецкие и рыбных промыслов суды, переимая, грабили и людей мучили. И стояв в Дмитровском 2 недели приходили к Саратову и приступали, в которой день незапно на них под Саратов пришли з Дону от Черкаского с 1000 калмык, шли к Аюке от Боловина, и тех воров довольно побили. И саратовцы служили тебе государю верно и прелести их не послушали. Потом июня 7 с Паншина и из ыных городков того ж злодейственного Боловина сонмища с 3000 человек пришли под Царицын, и в город старой, которой был для малолюдства оставлен, вошли. И царицынской камендант Афонасей Турченин с царицынцами, которых имел 500 человек всяких, да от нас присланных рота салдат, сели в малой крепости в осаду. И жестоко к ним воры приступали и валили землю на тот малой осадной городок. Однакож наши служили верно и тех злодеев довольно побивали, о чем я уведав тотчас на тех воров под Царицын послал полк салдат с полковником Бернером. И как оной полк пришол к Царицыну и, не допустя города за 5 верст, на урочище Сарпинском острову воры великим многолюдством наших встретили во многих лотках. И был с нашими великой бой от 3-го часа пополудни до самые ночи, на котором побито воров с 800, а наших солдат 46, да ранено наших салдат 135 и 7 человек афицеров, в них же и полковник ранены ж. И за наступлением ночи принуждены отступитъ. И на завтрея, осмотри их воровского многова людства, отступили к Черному Яру. И получа я о том бою известие тотчас послал еще 1000 салдат с полковником Левистоном, мало не всех кроме больных, и есть ли б возможно желал за монаршескую честь вашего величествия премилостивейшего нашего государя сам там быть и душу мою положить, не терпя от таких скверных такова досадительства. … И после первого бою с полковником з Бернером воры, забрав к себе с судов, которых в Астрахань не пропустили, работных людей многое число к Царицыну днем и ночью землю валили и ров засыпали и, наметав дров, и всякого смоленого лесу и берест зажгли, и великою силою приступом и тем огнем тот осадной городок взяли, и Афанасья Турченина убили, великою злобою у муча, отсекли голову, и с ним подьячего и пушкаря и дву стрельцов; а других, кои были в осаде, афицеров и салдат, присланных от нас и царицынских, разобрав за караулы, и обрав ружье и платье, ругаяся много в воровских своих кругах, оставили быть на свободе. По оном же государь от тех воров злодейственном озлоблении сего июля 20 посланные мои полки, помощью божию и твоими премилостивейшаго нашего государя молитвами, город Царицын взяли и тех злодеев воровских казаков побили многое число и живых побрали, и завотчиков пущих велел привесть к себе в Астарахань. А других всех казаков и других, кои с ними были и камышенские, которые в помощь к ним под Царицын приходили, велел на Царицыне и по Донской дороге вешать, достойную месть ехиднино порождение восприимут: и камышенских жителей велел всех забрать, кроме самых престарелых и баб и малых ребят, те и сами исчезнут; и пушки и всякие припасы велел теми ж полками побрать на Царицын. Не долга та их сатанинская власть была, и достальные скоро все исчезнут. Всемогущий бог вас премилостивейшаго нашего государя молитв ради и правды и непрестанного ради труда о людех своих не оставит. И ныне, государь, на Волге путь и проезд от тех воров начал быть свободной. … Из Астарахани. Августа 3. 1708.» [См. ГАФКЭ. Кабинет Петра I, отд. II, кн. № 7, лл. 154-155 об.]
Хочу обратить внимание читателей на следующую фразу из письма этого царского карателя: «А других всех казаков и других, кои с ними были и камышенские, которые в помощь к ним под Царицын приходили, велел на Царицыне и по Донской дороге вешать, достойную месть ехиднино порождение восприимут: и камышенских жителей велел всех забрать, кроме самых престарелых и баб и малых ребят, те и сами исчезнут …»
Именно эта фраза и ввела в заблуждение даже такого маститого российского историка XIX века, как Сергей Михайлович Соловьев (1820 – 1879), который по этому поводу написал следующее: «Для очищения Волги от воров шел из Казани князь Петр Иванович Хованский. Когда узнали о его походе в Камышине, то козаки и многие из камышенских жителей стали собираться бежать на Дон; остальные, вместе с бурлаками, начали говорить им: «Для чего забунтовали? А теперь бежите на Дон!» – взяли атамана Кондратия Носова в круг, спросили, куда дел порох и свинец? Пошли к нему в дом, вынули бочку пороху и принесли в круг. Тогда другой атаман из камышенских жителей, Иван Земин, видя, что дело плохо, хотят их засадить, стал уговаривать бурлаков идти с ними вместе на Дон, причем посулил бочку вина да по полтине денег; бурлаки не преодолели искушения, передались на сторону Козаков и побежали с ними вместе на Дон, побравши порох и пушки. Не хотевшие бежать камышенцы были прибиты и ограблены, а потом должны были испытать беду от Апраксина, который велел всех их забрать в Астрахань, кроме стариков, женщин и детей. «Те и сами исчезнут!» – писал он царю». [См. Соловьев С. М. История России с древнейших времен. СПб. 1851-1879. Книга третья. Том XV, с. 1469].
Ошибка историка заключается в том, что карательные меры астраханским губернатором Апраксиным на самом деле были применены не против всех жителей Дмитриевска (письмо написано губернатором 3 августа 1708 г., когда дмитриевцы еще были под властью булавинцев), остававшихся дома, а только против тех, кто участвовал в булавинской осаде Царицына. Правда, пострадавших от этих репрессий было также очень много, поскольку мятежный Дмитриевск прислал на помощь булавинским казакам, осаждавшим Царицын, тысячи полторы кирок и мотыг и лопаток и заступов вместе с камышенскими жителями. По весьма грубой оценке, на помощь булавинцам под Царицын могло прибыть около полуторы тысячи жителей Дмитриевска и плюс еще их семьи, то есть приблизительно около 40% от всего населения новопостроенного города, в который, как мы уже знаем, прибыли на житье до четырех тысяч семей.
Впрочем, в еще большее заблуждение вводит историков камышинская летопись, рассказывающая о карательном переселении князем Петром Ивановичем Хованским (его составители камышинской летописи почему-то назвали Дмитрием Ивановичем) всех жителей Дмитриевска с высокого левого берега р. Камышенки на нездоровый болотистый правый берег, которое на самом деле не было карательным и произошло через два года после изгнания булавинцев из города. Не совсем верно в летописи описывается и причина бегства булавинских казаков из Дмитриевска: «Таким образом, поступив с нами, поселенцами (см. отрывок летописи выше – прим. В.Б.), казаки сказали: чтоб впредь мы бород не брили, платья немецкого не носили, старой веры не переменяли и в том государя не слушали, а были б с ними казаками за одно, в чем и присягой нас обязали всех; впрочем, велели быть готовым к походу на Кубань. За сим вышли из города, а с ними и те изменники ушли. Как же скоро оные казаки вышли вон, то граждане, заперши все ворота, зарядили все пушки и идти с ним отказались. Таковое укрепление Донские казаки видя, и что уже обманом города взять невозможно, отошли от онаго прочь. – После того Саратовцы и Царицынцы узнали о сем произшествии; почему и писали государю, что – «новопостроенного города Дмитриевскаго служивые люди все от тебя, государь, отложились и согласились с Донскими казаками бежать на Кубань и тебя, государь, ни в чем не слушать». По которому доносу из Астрахани судном приехал князь Дмитрий Иванович Хованский с командою, и с ним было три тысячи калмык. По приезде же к берегу города Дмитриевска дал о приезде своем знать: что он прислан по указу государеву, которым велено за измену весь город сжечь, вырубить и уничтожить, а имение их отдать в добычу калмыкам. В сие время воевода со всеми людьми, взяв святые образа со крестами и сошед на берег, просили князя от них выслушать вину; на что князь Хованский и согласился. Тогда все пали на колени, а воевода начал вину рассказывать следующим образом: «Что мы от государя не отказывались ни в чем и измены не делали, а когда Донские казаки забунтовали и пришли к городу, то подговорили караульных воротников, кои отперли им ворота и тихонько в город впустили в ночное время, о чем из нас никто не мог знать; ворвавшися же в город, они нас рубили, грабили и прочие неистовства над нами чинили; от сего страха будучи в несостоянии, принужденными нашлися дать поневоле им присягу, чтоб государя ни в чем не слушать» и прочее. Тогда князь приказал всем встать, и пошел в город осматривать крепость и казенный вещи. Калмыки же, со степи подошед к городу в множественном количестве, просили князя, чтоб он велел им взойти в город; но князь им в том отказал. На третий день после сего князь объявил воеводе и всем служилым людям милость, почему и простил их от истребления. Но поелику калмыки кричали, чтоб город за измену государя отдать им в добычу, упрекая князя якобы полученными от граждан взятками, то и начали в город стрелять стрелами и уязвлять народ. Ко усмирению коих приказал князь палить по них из пушек из города, чем и отогнав их прочь; затем, чтобы не нарушено было повеление государя о истреблении онаго города, приказал князь Хованский поселиться гражданам на другой стороне речки Камышинки, где и теперя оной находится.
В сем месте сначала было место болотное, с камышом и густым лесом обросшее, в котором месте над берегом реки Волги неизвестно кем сделана была деревянная часовня, и в ней троекратно из стараго города из церкви, перед бунтом, являлся полковой образ Димитрия святаго Великомученика, которой с молебствием обратно приносим был в церковь. В старом же городе жительства имелося семь лет (как мы дальше увидим, на смом деле переселение состоялось через 12 лет после основания города – прим. В.Б.). [См. См. Царицынский и Камышинский уезды в описаниях краеведов (1727 – 1928). Под редакцией М. М. Загорулько и И. О. Тюменцева. – Волгоград, 2010, с. 55-56].
В летописи говорится, что войска Петра Хованского пришли к Дмитриевску со стороны Астрахани, хотя на самом деле на самом деле – из Саратова. Некоторые подробности о пребывании булавинцев в городе и об их изгнании, сообщаются в письме от 16 августа 1708 г. главы Разрядного приказа Тихона Стрешнева князю Александру Меншикову с приложением выписки из ведомостей князя Петра Хованского, в которых содержатся расспросные речи булавинцев, взятых в плен под городом Дмитриевским: «… В нынешнем 1708-м году августа в 15-м числе к в. г. писал ис полку из Саратова боярин и воевода князь Петр Иванович Хованской, а в отписке ево написано: по указу де в. г. с ратными людьми пошли он, боярин и воеводы, против вора Булавина и пришли на Саратов, а до приходу их на Саратов они воры Дмитреевской, что на Камышенке, так ж и Царицын, взяли на малое время, и по 3-х днех Царицын, милостию божиею, по прежнему возвратили присланные государевы ратные люди из Астрахани от господина Опраксина к довольно их воров побили. И ныне на Царицыне государевы ратные люди. А с Камышенки, послыша они воры ево боярина и воевод с ратными людьми поход, все побежали, а которые их единомышленники на Камышенке остались, и их воевода Данило Титов и грацкие жители, переловя, прислали к ним в полк. А что те присланые воры в распросе и с пыток говорили, и с тех рашросных речей послал он боярин и воевода под отпискою список. А они, боярин и воеводы, с Саратова пошли с ратными людьми на Камышенку, а с Камышенки, не занимая Царицына, пойдут прямо на Паншин, и станут над ними ворами чинить поиск и промысл. А что будет впредь чинитца, о том он боярин и воеводы писать будет по часту …». [См. МАИ Акад. Наук СССР. Архив кн. Меншикова, карт. № 9, папка М№ 61 и 64, на 24 лл.]
Таким образом Дмитриевск, добровольно перейдя на сторону булавинцев, находился под их властью с 13 мая по 8 августа 1708 года, то есть в течение 87 дней или почти три месяца. Смена власти ознаменовалась началом в городе репрессий против местных «прибыльщиков и солдацких офицеров», хотя, поймав успевшего сбежать от булавинцев воеводу Данилу Титова, восставшие по просьбе местных жителей не стали его казнить, а посадили под арест. При этом булавинцами в городе было введено казацкое управление, проводился круг, ставший органом местного самоуправления, а также были выбраны местный атаман и старшина. Жители мятежного Дмитриевска вместе с казаками организовали вокруг города дозоры с целью защиты его от царских войск, а также активно участвовали в наступлении булавинцев на Саратов и, особенно на Царицын, куда для осады было отправлено до полторы тысячи жителей с кирками, мотыгами и лопатами. После победы царских войск под Царицыном многие находившиеся там жители Дмитриевска из числа признанных зачинщиками были казнены, а остальных – за исключением престарелых, женщин и малых ребят – астраханский губернатор Петр Апраксин приказал забрать с собой в Астрахань, очевидно, для дальнейшего допроса и расправы.
Судя по документам, наиболее верными сторонниками булавинцев были дмитриевские бурлаки, арестовавшие атамана Кондратья Носова, когда он с казаками собирался бежать на Дон. После взятия Дмитриевска 8 августа 1708 г. русско-калмыцким войском во главе с князем Петром Хованским наиболее активные булавинцы из города бежали, оставшиеся в городе жители во главе с освобожденным ими из застенка воеводой Данилой Титовым принесли повинную, а те «камышенские жители, которые обще воровали с казаками и после побегу остались на Камышенке» были пойманы и посажены в тюрьму. Вместе с тем, исторические документы не подтверждают рассказ камышенской летописи о карательном переселении Петром Хованским жителей Дмитриевска с высокого левого берега р. Камышинки на низкий болотистый правый берег.
За что жителей Дмитриевска переселили на болотистый правый берег Камышенки
Заметим, что в ведомости от 25 августа 1708 г., полученной в Разряде от ген. П. И. Хованского, говорится о количестве пушек, пушечных припасов и солдат, находившихся в городе Дмитриевском, после взятия его правительственными войсками, но о переселении дмитриевцев на болотистый правый берег Камышенки ничего не сообщается: «В нынешнем 1708 году августа в 25 числе писал ис полку господин Хаванской. А в отписке ево написано: на Камышенку де он с ратными людьми пришол августа в 8 числе, а до приходу де ево воры казаки, уведая ево поход, с Камышенки побежали, и камышенские де жители, к воровству пущие заводчики, ушли с ними ж казаками в их казачьи городки. А достальные камышенские жители пришли с повинною. А от воровских казаков город Камышенка и грацкие жители: разорены все до основания. А до приходу де ево на Камышенке сколько явилось, в городе настоящих городовых пушек и пушечных ядер и дроби и пороху и свинцу и салдат налицо и сколько после воровских казаков в городе осталось их воровских пушек, и тому и прислал он под тою отпискою роспись. А которые камышенские жители обще воровали с казаками и после побегу остались на Камышенке, пойманы и посажены в тюрьму. А под воровские казачьи городки под Качалин и под Сиротин и под другие вверх по Дону послал он калмыцких владельцев Чеметя да ханова внука Докду Гомбу да с ними ж послал Алексея Шахматова с саратовцы. И сего ж де августа в 8 числе прислали они Чеметь тайша к нему в полк казака, и тот де казак распрашиван, а что в роспросе говорил и с того во роспросу, так ж и з допросов камышенских жителей, которые сообщество имели в казачье воровстве, списки и их самих за караулом пришлет впредь вскоре. А он де с ратными людьми пошел с Камышенки под Паншин и под другие воровские казачьи городки сего ж августа в 14 числе, и станет над ними зорами чинить поиск и промысл, а что станет чинитца, о том будет писать впредь.
Роспись сколько в городе Дмитреевску, что на Камышенке пушек и всяких пушечных припасов и салдат налицо. На большом раскате: пищаль чугунная, мерою пол 3 арш. з двемя вершки, по кружалу ядро полфунтовое. В Московских воротех дробовик медной, мерою , аршин 6 верш., в дуле ширины пол 3 верш. В Ылавлинских воротех пушка чюгунная, мерою длина 2 арш. без четверти, по кружалу ядро 2 фунтов. На государевом дворе пушка чюгунная, мерою длинны 2 арш. без трети вершка, по кружалу ядро 3 фунтов. У тюрьмы пушка чюгунная, мерою длинны 2 арш., по кружалу ядро 4 фунтов. В осадном городке в роскате 2 пушки чютунные, «мерою длины по 2 арш. без 3-х верш., по кружалу одно ядро первой пушке 2 фунтов, а другой пушке 3 фунтов. Да после воровских казаков осталось пушек: в Казанских воротех пушка чюгунная, мерою длины аршин, по кружалу ядро иолуфунтовое; от Казанских ж ворот на другом раскате пушка чюгунна, мерою длины пол 2 арш. без полувершка, по кружалу ядро фунтовое; от большова роскату на Лубянке пушка чюгунная, мерою аршин, по кружалу ядро полуфунтовое; от Московских ворот на роскате пушка чюгунная, мерою длины аршин, по кружалу ядро полуфунтовое. Да в Дмитреевску ж у приказной избы дробовик чюгунной без картуза. Да в Дмитриевском ж пушечных припасов налицо: ядер: 4 фунтов – 50, 3 фунтов – 246, 2 фунтов – 30, фунтовых – 35, полуфунтовых – 26. Всего больших и малых 387 ядер. Да пушечной дроби 3 пуда. Пол 3 пуда пороху пушечного. Свинцу 2 пуда 7 фунтов. Да чиненых 64 ядра, весом ядро в 3 фунта. Дмитреевскаго полку салдат по отписку 232, синбирян 87». [См. ГАФКЭ. Кабинет Петра I, отд. II, кн. № 7, лл. 1156—1161].
Вот что о переселении дмитриевцев на правый берег Камышенки говорит Иоанн Саввинский (1856-1918), ссылаясь на архивные источники Астраханской епархии (Арх. Дел. №№ 8 и 124): «Затем по указу Великаго Государя от 20 июня 1710 года велено было город Дмитриевск также и соборную церковь перенести, а протопопа, священников и церковных причетников и служилых всяких чинов людей перевести на прежнее место, на другую сторону реки Камышенки. А 24 августа того же года по сему указу преосвященный Сампсон сделал распоряжение о переносе престола, чтобы оный «опеленовав холстом и обвязав вервми иоднять с половыми досками, на которых основан, и перенесть не разрушая его». [См. Иоанн Саввинский Исторические записки об Астраханской епархии за 300 лет ея существования. (С 1602 по 1902 год). Астрахань, 1903, с. 122]
Таким образом переселение жителей Дмитриевска на низкий болотистый правый берег Камышенки произошло почти через два года после того как в город вошли войска Петра Хованского, а потому эту акцию никак нельзя считать карательной. Вот что об этом переселении написал побывавший в 1771 г. в Дмитриевске астроном П. Б. Иноходцев: «Город Камышенка и Дмитриевск значат попросту одно; но в самом деле суть два разныя места. Оба они лежат на правом берегу реки Волги или на нагорной стороне, но оной выше устья впадающей в Волгу речки Камышенки (П. Б. Иноходцев называет первоначальный Дмитриевск Камышенкой – прим. В.Б.), а сей ниже оного (П. Б. Иноходцев имеет в виду переселенный на правый берег Камышенки Дмитриевск– прим. В.Б.). Первый стоял на высоком сухом и преизрядном месте, окружен земляным валом и рвом с частыми бастионами с двух сторон; от Волги же и Камышенки для крутых каменистых и высоких берегов и без валу довольно крепок, окружение сего города 4 версты и 220 сажен. Хотя ныне помянутой вал несколько и осыпался, а ров занесен песком, однако еще в твердости и недальнего требует поновления. Сверх объявленного укрепления прикрываем был сей город правильной пятиугольной небольшой крепостцею, на высоком месте устроенною. Такое изрядное место от разорения воровских казаков и от набегов кубанских татар за малоимением регулярных людей в 1710 г. оставлено; но я не понимаю, чем нынешнее местоположение безопаснее, оно еще напротив того гораздо больше отверсто (т.е. открыто для неприятеля – прим. В.Б). В сем городе (первоначальном Дмитриевске – прим. В.Б. на место прежней деревянной церкви во имя святых Апостолов Петра и Павла застроена была казенным поштом каменная, а теперь один только ея признак; так же видно, где стояли домы и погреба». [См. Царицынский и Камышинский уезды в описаниях краеведов (1727 – 1928). Под редакцией М. М. Загорулько и И. О. Тюменцева. – Волгоград, 2010, с. 40]