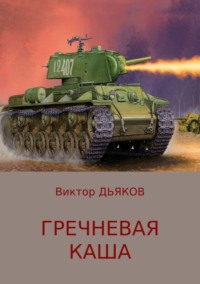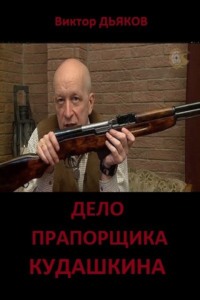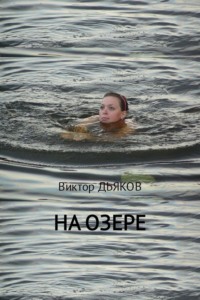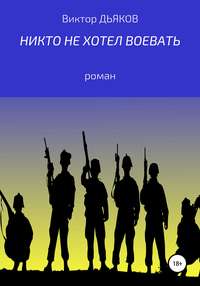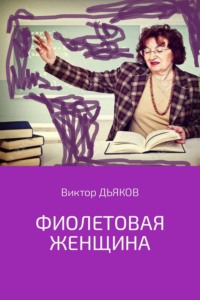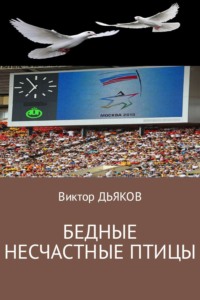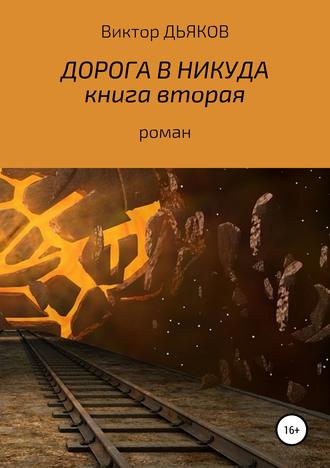 полная версия
полная версияДорога в никуда. Книга вторая
27
Детство у большинства людей плавно перетекает в юность. У Ольги Ивановны оно кончилось, счастливое, беззаботное внезапно в сентябре 1945 года. Хоть при японцах в Харбине уже не стало той свободы, что имела место до них, но русские белоэмигранты продолжали жить едва ли не так же, как и до 1932 года. Ходили в церковь, справляли праздники, ели, пили, влюблялись, учились в русских школах и гимназиях. Правда, в большинстве ВУЗов японцы упорно изживали преподавание на русском языке, а русские фирмы национализировали или разоряли… Но вот такого, что бы те же японские солдаты врывались в русские частные дома и грабили их – о таком и помыслить никто не мог. Хотя, в то же время в отношение к китайцам японцы могли допускать полное беззаконие. Так одним из самых ранних осознанных воспоминаний Ольги Ивановны стал произошедший где-то на рубеже тридцатых и сороковых годов инцидент. Она смутно помнила, как в дом прибежала крайне возмущенная мать, нагруженная всевозможными сумками. Она стала жаловаться отцу, что их служанку китаянку, с которой она ходила на базар, бесцеремонно прямо на улице забрал японский патруль и вместе с прочими случившимися там же китайцами погнали на пристань, разгружать какую-то баржу со срочным грузом. Такое случалось нередко, японцы хватали первых попавшихся им под руку китайцев и заставляли делать какую-нибудь тяжелую разовую работу, естественно не платя за нее ни гроша, и часто не делая разницы между мужчинами и женщинами. Русских для таких авралов они никогда не привлекали, ни мужчин, ни тем более женщин. В тот раз японцы заставили прислугу отдать все сумки хозяйке, то есть матери Ольги Ивановны и, подталкивая прикладами винтовок, погнали бедную женщину на пристань. Возмущенная Полина Тихоновна обратилась к японскому офицеру, командовавшему этой «операцией» со словами: а кто же понесет теперь мои сумки? Возможно, она думала, что японец не знает по-русски и не поймет её, лишь констатирует ее возмущение таким произволом. Но японский офицер понял и, улыбнувшись, ответил на ломанном русском:
– Мадам, ваша служанка несколько часов будет работать на японскую императорскую армию. Если хотите, можете ее здесь дождаться, но вы такая большая, что сможете эти сумки донести и сами.
– Хам, наглец… узкоглазый урод! – кричала мать.
Отец же утешал ее и без лишних эмоций разъяснял:
– Ничего не поделаешь Поля, они сейчас тут хозяева…
Такой злой Оля свою мать еще никогда не видела, разве что еще раз уже в 1943 году, когда японцы ввели запрет на балы, любимое развлечение русских белоэмигранток и конкретно Полины Тихоновны, которая и на пятом десятке на них блистала. Ох, знали бы они, кто придет на смену японцам, и как будут вести себя те «сменьщики», так называемые свои, русские, советские, какие балы-маскарады устроят они русских харбинцам.
Красная Армия вошла в Харбин 25 августа 1945 года. А второго сентября на банкет в честь победы над Японией в Большой зал Железнодорожного собрания был приглашен весь цвет города, самые известные представители русской интеллигенции: предприниматели, врачи, железнодорожники, артисты и прочие состоятельные граждане. Прямо с банкета их затолкали в машины и отвезли в тюрьму, а оттуда в теплушки и отправили в Союз, в лагеря. После этого СМЕРШ начал проводить повальные аресты в городе. Отец с матерью все это время безвылазно сидели дома и никуда не пускали Олю, ведь не работали никакие фирмы, магазины, не функционировали и гимназии. Дом… О, до мельчайших подробностей Ольге Ивановне иногда снился их дом и прилегающие к нему улицы Нового города, вдоль которых были высажены деревья одного типа: одна улица сплошь березы, на другой – тополя, другие – вязы, орех. Во дворе их дома росли кусты душистой сирени, от которых весной во время цветения шел такой аромат. Мать каждый год высаживала под окнами астры, георгины, бальзамин, а небольшую летнюю беседку обвивали заросли вьюна. Помнила она и ту прекрасную церковь, на освещение которой в сорок первом году ходила вместе с родителями, и которую, как она недавно узнала, в 66-м году взорвали хунбейбины. Тогда она не понимала значение этого события, но сейчас не могла не удивляться – в сорок первом накануне вступления в мировую войну японцы разрешили русской общине города открыть новый храм. Это в тот период, когда в самой России уничтожили тысячи церквей. Все эти воспоминания о доме и о том, что с ним связано, лились бальзамом на душу Ольги Ивановны. А вот что случилось потом, она уже не могла вспоминать без боли сердечной.
Дом Решетниковых сначала просто ограбили. Пришли какие-то солдаты. Они под видом обыска перевернули все вверх дном, забрали многие ценные вещи, в том числе, что были подарены Оле родителями и знакомыми на праздники и именины, золотые крестики, перстеньки, ладанки с красивой инкрустацией. Никогда потом у Ольги Ивановны не было таких красивых и дорогих украшений и безделушек. Мать порывалась что-то отстоять спасти, но отец, понимавший, чем это может кончится, сдержал ее. Они все трое со слезами на глазах наблюдали, как разоряется их гнездо, которое они с такой любовью обустраивали и обживали, а Оля, так другого и не знала. Ольга Ивановна на всю жизнь запомнила те свои слезы и рыдания, когда штыками разрезали матрац на ее кровати, ища и там золото и ценности. После того «обыска», стало ясно, что занятия в гимназии, в пятый класс которой Оля перешла, уже не возобновятся. К ним приходили знакомые, делились впечатлениями о массовых арестах и обысках, рассказывали, что молодых девушек просто хватают на улицах, затаскивают в подвалы СМЕРШа, насилуют, а потом вывозят на окраину города и там оставляют, что так пострадали уже многие. Оля тогда еще не знала значения этого слова – изнасилование, но помнила, как испугалась мать, и явно испугалась за нее, как она тихо говорила отцу:
– Но она же еще совсем маленькая, ее не должны…
С детским любопытством она прислушивалась к этим разговорам, и когда ее отсылали в свою комнату, приникала ухом к двери. Так она услышала рассказ знакомой матери о том, как советские солдаты бесчинствовали в одном богатом купеческом особняке. Насилуя женщин, они приговаривали:
– Вы все тут белогвардейское отродье, схоронились и жировали, пока мы там кровь проливали и хлеб пополам с отрубями жрали… имеем право вас сытых, гладких помять…
После этого отец сказал матери:
– Нам еще повезло Поля, что тогда просто ворье зашло. Если бы тебя или Олюшку вот так же… я бы достал револьвер спрятанный и убивать бы их стал. И тогда все бы мы пропали.
Но радовался отец рано, в самом конце сентября, поздно вечером, к ним вновь пожаловали с обыском. На этот раз то оказалась настоящая следственная группа СМЕРШа, и они предъявили официально выписанный ордер на обыск. Когда они вошли, возглавлявший группу офицер обратился сначала к отцу:
– Вы, есаул белой армии Иван Игнатьевич Решетников?
– Бывший есаул, – дрогнувшим голосом уточнил отец.
– А вы, значит, супруга есаула, сотрудница белогвардейского Бюро по делам русских эмигрантов Полина Тихоновна Решетникова?…
Обыск проводили очень тщательно. Никакого грабежа не было, но «вывернули все наизнанку». Обнаружили спрятанный револьвер отца, и браунинг, когда-то спасший ее мать, нашли и кортик. Майор-смершевец, руководивший обыском с удивлением спросил, разглядывая кортик:
– Откуда он у вас, ведь вы казачий офицер, а не морской?
– По случаю достался,– уклончиво отвечал отец
– Зачем вы его хранили?
– Да так, как что-то вроде символа.
– Какого символа?
– Им убивали Россию, – на полном серьезе отвечал отец.
– Интересно… – смершевец внимательно посмотрел на отца и больше уже ничего не спрашивал, хоть явно ничего не понял.
Ничего не поняла тогда и Оля, как и сейчас не могла «расшифровать» слова отца и Ольга Ивановна.
Родителей арестовали, а Оля одна осталась в доме и провела остаток ночи без сна, пугаясь каждого шороха. Прощаясь, мать наказывала, как рассветет, одеться потеплей и бежать к их хорошим знакомым, супружеской паре, жившим в районе Модягоу. Знакомые не были замешены ни в каких «белых» делах, а жена к тому же являлась Олиной преподавательницей в гимназии. Пара была бездетна и мать, видимо, понимая, что их с отцом судьба решена, надеялась, что преподавательница возьмет Олю к себе и потом сумеет выбраться из этого ада, эмигрировать. В крайнем случае, если не будет возможности добраться до преподавательницы, мать наказывала идти в другую сторону, в китайский район Фудзядан в дом многим обязанной Решетниковым их бывшей прислуги, чью семью родители Оли приютили во время страшного наводнения 1932 года. Возможно, так бы оно и вышло, если бы Оля, перепуганная и измученная бессонной ночью, не заснула, и в тревожном сне проспала слишком долго. Ее разбудили военные, которые пришли уже за ней, велели одеть пальто, взять самые необходимы вещи и увели, закрыв и опечатав дом… дом в котором она была счастлива как никогда потом. Счастье кончилось сразу в ту сентябрьскую ночь, и по большому счету больше никогда к ней не возвращалось. В Харбине сентябрь, это едва ли не лучшее время года, тепло, безветренно – благодать. И эту благодать, и ту тревожную ночь, когда она в последний раз, мало что, в общем, понимая, видела родителей, Ольга Ивановна помнила хорошо, отчетливо, будто то случилось совсем недавно.
Ей, особенно в последнее время, часто снились сны о Харбине, о ее детстве. В условиях товарного и продовольственного дефицита и мучительных очередей за всем, чем только можно, когда казалось вот-вот соль и спички исчезнут с прилавков, ей вдруг стали сниться харбинские продовольственные магазины и лавки довоенного периода, когда Маньчжурия еще не надорвалась от военных поставок. При этом довольно скудное существование сороковых годов, когда ввели карточки на хлеб и ряд других продовольственных товаров в ее памяти запечатлелись не так ярко. Возможно потому, что мать, являясь к тому времени уже довольно влиятельной чиновницей в Бюро по делам русских эмигрантов, к распределению тех же продовольственных карточек имела самое непосредственное отношение. Но и тогда голода в городе не было, особенно летом и щедрой маньчжурской осенью, когда базары заполнялись всевозможными овощами и фруктами…
Сейчас, когда Ратникова привезла ей венгерские яблоки и абхазские мандарины, Ольге Ивановне явственно припоминался именно осенний харбинский зеленый базар, и море, изобилие фруктов там продававшихся. Тогда в конце тридцатых и в сороковые, несмотря ни на что там продавались и бананы и грейп-фруты, арахис, молодые очень вкусные побеги бамбука, а также замечательные китайские пельмени из самых различных сортов мяса, с зеленью, всевозможные сыры. И это в условиях идущей не так уж далеко оттуда, в том же Китае, войны. Сейчас чуть ли не во всем огромном СССР сыр самого плохого качества «выбрасывали» нечасто и его брали в драку. В Новой Бухтарме в свободной продаже он был только один раз за весь 1986 год, перед праздником седьмого ноября. Снились ей и знаменитые харбинские гастрономы. Хотя мать частенько «стонала», что раньше, до японцев, выбор там был куда богаче, но Оля тогда еще не родилась, и ей не с чем было сравнивать. Она сравнивала сейчас, все свои десятилетия советской жизни с теми харбинскими гастрономами. Среди учителей Ново-Бухтарминской школы ходили разговоры о казахстанских немцах, уехавших на ПМЖ в Западную Германию. Они писали оттуда, оставшимся в Союзе родичам и друзьям, о бесчисленных сортах колбас и сыра, продающихся в тамошних магазинах. Учителя не могли в это поверить. Ольга Ивановна верила, ведь она помнила то, что видела собственными глазами. Ее мать делала покупки в чуринском гастрономе, потому, что как жена служащего фирмы могла покупать с определенной скидкой. Ольга Ивановна не могла помнить, например, что за консервы там продавались, но помнила, что их было много, и они все с красочными этикетками. А колбасы, в выборе которых она тоже участвовала, вернее мать делала вид, что с ней советуется: колбаса чайная двух видов, с чесноком и без оного, колбаса польская, краковская, московская, ливерная… Причем та ливерная была совсем не такая, на какую в восьмидесятых в основном «посадили» весь советский народ.
До декабря 41-го года в Харбин привозили товары со всего мира. Особенно разнообразен был выбор перед различными праздниками. То же мясо, которое в советской действительности всегда являлось дефицитом, в Харбине на базаре висело на крюках бесчисленными коровьими, свиными и бараньими тушами вперемешку с гусями, утками, фазанами. Яблоки, что в большинстве северных и восточных районов СССР люди вообще не знали, там стояли плотно уложенные в огромные корзины, а зимой укрытые ватными одеялами от морозов. Причем уличная торговля не прекращалась до темноты. Ольга Ивановна отчетливо, будто то случилось вчера, помнила, как в том же чуринском универсальном магазина в Новогодние праздники детей приветствовал Дед Мороз, угощавший их конфетами. Так же Дед Мороз приносил на дом своим подписчикам детский журнал «Ласточка», который для Оли выписывали ее родители. А на пасху продавали сувенирные яйца всех размеров и цветов, даже шоколадные яйца. Олю родители баловали, и она ни в чем не имела отказа, тем более в лакомствах. А рыба… Во всех советских провинциальных магазинах уже несколько лет продавался только минтай, да иногда сельд-иваси, больше никакой рыбы не было, словно все окрестные моря и реки разом обезрыбели. А из снов возвращающих в детство: всевозможные сорта копченой рыбы, семга, сельди, угри, бочки заполненные красной икрой… И чудо, вообще немыслимое в советской действительности – у Чурина даже зимой продавалась свежая клубника…
Ну, а что касается мандаринов, при виде и запахе которых у Ольги Ивановны даже защекотало в носу… Она почти въяве помнила, как на том же харбинском зеленом базаре они лежали целыми огромными кучами, как какой-то картофель. Причем если советских людей раз в год на Новый Год, да и то далеко не всех, одаривали однообразными кисло-сладкими абхазскими плодами, то в Харбин их привозили из разных районов Китая и были они самых разных сортов, размеров, расцветки и вкуса. Она не помнила названия тех сортов, но в них хорошо разбиралась их служанка, имя которой выветрилось из памяти Ольги Ивановны. А орехи, каких только она не перепробовала их в детстве, грецкие, миндальные, фисташковые, арахис… Детская память запечатлела в первую очередь лакомства, а они в ее детстве были весьма разнообразны и доступны. А сейчас большинство советских детей напрочь лишены этих лакомств. Хлеб, единственное, чем советская власть вроде бы обеспечивала свой народ вволю. Но что за хлеб выпекался в провинции вообще и в верхнеиртышье в частности, в краю, который до Революции являлся житницей, родиной знаменитой верхнеиртышской пшеницы? Хлеб в Ново-Бухтарминской пекарне выпекался в основной серый и лишь изредка белый. Качество? Те, кто бывали в Москве, Ленинграде, Алма-Ате и пробовали тамошний хлеб, говорили, что качество хлеба выпекаемого в Восточно-Казахстанской области очень низкое, не сравнить с тем, что пекут в столицах. А в Харбине, в лавках города ее детства, Оля ела хлеб: круглый, как пшеничный, так и ржаной, ситный, сайки, французские булки, московские калачи, баранки, бублики, сушки… Многое из этого ее нынешние ученики не видели за всю свою жизнь и естественно не знали таких названий. А чай, Ольга Ивановна с того же детства запомнила эти неповторимые ароматы, коими благоухали бесчисленные сорта китайского чая, который любила самолично заваривать ее мать. И какой пресный безвкусный по сравнению с теми сортами был даже лучший в СССР чай, так называемый тридцать шестой, состоящий из смеси индийского чая и грузинского.
У харбинских гимназисток иногда случались свободные часы, когда не было уроков, и они бегали в близлежащее молочное кафе, чтобы полакомится свежими сливками, варенцом, кефиром, творогом и сметаной. Но наибольшей популярностью у девочек пользовались всевозможные кафе-кондитерские, где от обилия сортов конфет, кренделей, пирожных просто разбегались глаза. В своих снах Ольга Ивановна, давно уже крайне неприхотливая в пище, казалось, вновь ощущала неповторимый вкус этих лакомств, оставшийся там в ее счастливом, беззаботном детстве.
28
Обычно московские газеты приходили в Новую Бухтарму с двух-трехдневным опозданием. Потому и передовица в «Правде» за восьмое декабря «Скидок не будет» в поселке прочитали только одиннадцатого. Вообще-то модные перестроечные статьи в газетах или ежедневные телепередачи типа: «О гласности» или «Госприемка: проблемы качества», почти никто не читал и не смотрел. Вся эта суета, казалось, оставалась где-то там далеко, в Москве, на верху, а сюда на глухую периферию доносились лишь отголоски посредством всех этих СМИ. И вот, в передовице главной газеты страны, сообщалось, что с Нового Года на госприемку продукции переходят целый ряд предприятий Восточно-Казахстанской области. Это были в основном крупные комбинаты, расположенные в Усть-Каменогорске: свинцово-цинковый, титано-магниевый, мебельный и располагавшийся в поселке Глубоком медеплавильный. Областная пресса, естественно тут же «откликнулась» на это событие восторженными отзывами, причем почти каждая статья заканчивалась призывами и прочим предприятиям области поддержать почин передовиков. Под прочими конечно подразумевался и Ново-Бухтарминский цемзавод.
О госприемке на таких «мальках» как рыбзавод того же поселка, конечно, и не думали. Однако и руководство цемзавода совсем не рвалось в передовики-маяки, да и не с чем было. Оборудование за двадцать с лишком лет эксплуатации настолько износилось, что ни о каком суперкачестве выпускаемого цемента не могло быть и речи, да и количество выпускаемой продукции каждый год понемногу неуклонно снижалось. К тому же выходить с инициативой и «прозвучать» на всю страну, как это сделали усть-каменогорцы, весьма рискованно. На завод тогда зачастят всевозможные проверяющие и газетчики из Москвы. А что они увидят? Да не на заводе, там в условиях производственного процесса тем же корреспондентам-дилетантам можно любой лапши на уши навешать. Что они увидят вокруг и вблизи завода? Выбросы заводских труб, осевшие на поселок? Увидят серую траву летом и такой же серый снег зимой, увидят болезненных рабочих и таких же членов их семей, живущих в поселке, увидят сам поселок, плохо благоустроенный, утопающими либо в грязи, либо в пыли, такой же убогий и ущербный как его обитатели.
Именно так Мария Николаевна объяснила Ольге Ивановне, почему областное руководство цемзавод «отмазало» от госприемки. Действительно там, в Усть-Каменогорске, куда легче со всеми этими зваными и незваными гостями справиться. Там город как сверкающая новая игрушка, гостям можно устроить прогулку по Иртышу, полюбоваться красивейшей набережной, сводить в ресторан, на хоккей, да и устроить их в отличных гостиничных люксах. Тем не менее, весь поселок был уверен, что все дело как раз в плане, который завод уже который год не может «вытянуть». Но Мария Николаевна шепотом, словно боясь, что в ее кабинете есть подслушивающее устройство, сообщила, что так же план давно уже не выполняет и глубоковский завод, да и усть-каменогорцев с оным не все в порядке. Так что дело всего лишь в наличии удобств для «гостей» и культурно-развлекательной базы. А в Новую-Бухтарму зимой и добраться непросто…
Этот разговор между подругами произошел двенадцатого декабря в пятницу. Ольга Ивановна, довольная, что провела-таки свой «неформальный урок», заскочила как обычно после работы в Поссовет и Мария Николаевна, в свою очередь, отошедшая от приступа меланхолии, не отказалась поболтать. Она распорядилась, чтобы секретарша приготовила чай и уже за чаепитием, после обсуждения госприемки, вдруг принялась расспрашивать Ольгу Ивановну о внутришкольных сплетнях. Особенно ее интересовал произошедший этой весной необычный случай, когда учительница биологии Анжела Аршаковна, по национальности армянка, двадцати семи лет, совершенно неожиданно вышла замуж за своего бывшего ученика, на девять лет ее моложе. Уже сам этот факт необычен, но еще более необычным стало то, что взрослая армянка вышла не просто за мальчика, а за казаха.
Ольга Ивановна мало общалась с этой, пришедшей три года назад в поселковую школу, учительницей. Биологиня являлась племянницей, давно уже работавшего в поселковой больнице, врача-гинеколога. Как известно, армяне очень роднятся, и помогать родственникам у них святое дело. Так и в этом случае, севший на хлебное место гинеколог взял на себя заботу о племяннице, которой пришла пора выходить замуж. Почему на родине ей не нашли жениха-армянина? Этого никто не знал, хотя она обладала весьма сносной внешностью. Здесь же ей все три года дядя и его жена пытались найти подходящую партию. Конечно, поселок для этого оказался не вполне соответствующим местом. Выходить за простого русского работягу? Этого конечно не хотели ни далекие родители Анжеллы, ни приютивший ее дядя. Армяне в своем большинстве, в общем, всегда были не прочь породниться с русскими… но только не с рядовыми. Простых русских они просто презирали. Ведь среди армян живущих вне Армении этих простых людей, плебса почти не наблюдалось. Встретить армянина в любой советской республике дело обычное, они жили везде. Но встретить там армянина в ранге простого рабочего, или колхозника было невозможно. Армяне могли быть служащими, инженерами, врачами, портными, учителями, могли работать в семейной строительной бригаде… но только не «вкалывать» на госпредприятии или в колхозе – эти профессии для них считались позорными.
Так вот, Анжелла искала жениха, вернее дядя искал, среди инженерно-технического персонала цемзавода, «забрасывал удочки» и в воинские части, как на «точку» Ратникова, так и в управление полка в Серебрянске, пытался «протоптать тропку» и в Поссовет, и в ОРС, и всюду, где только могли обитать относительно молодые люди непролетарских профессий. Врач-гинеколог специальность дефицитная и очень нужная, и потому знакомства у дяди имелись обширные. Но, увы, для него, видимо, стало неприятным откровением, что армянки совершенно не котируются в русской среде как невесты. В Казахстане случались браки русских с немцами, татарами, крайне редко с казахами, армяно-русских семей практически не было. Почему? Причин много, но основных две. Русским парням, как правило, армянки не нравились внешне, а русских девушек отпугивали слишком строгие нравы, царящие в армянских семьях, где молодая сноха обязана всячески угождать, на грани унижения, родителям и родне жениха. В армянской же среде во главу угла всегда ставили материальное благосостояние. Они любили похвастать тем, что среди советских, они одна из самых состоятельных наций. И это действительно обстояло так. Народ, который по своему историческому «возрасту» на планете уступал разве что евреям, тем и выжил, сохранил себя, что постоянно приспосабливался к различным историческим коллизиям, что творились рядом и вокруг. Приспособились армяне и к Российской Империи, приспособились и к Советской Власти и приспособились весьма неплохо, материально живя лучше большинства народов СССР. И, несомненно, в недрах армянского общества жила выпестованная за тысячелетия существования непоколебимая вера – все сгинут, а армяне останутся. Впрочем, они конечно в этой вере не уникальны, схожий с ними путь в мировой истории прошли и евреи. Но армяне в отличие от самого старого народа на планете более бесхитростно и напористо врастали в общество тех стран, приспосабливались к тем народам, к которым «прислонялись». И все ради единой, инстинктивно продиктованной, завещанной предками цели, выжить, уцелеть как народ, даже путем частичного слияния с другими народами…
Но в случае с Анжеллой желаемого «слияния» никак не получалось. На неё не клюнули ни молодые инженеры, ни перспективные комсомольские работники, ни ухватистые ОРСовцы, презрительно кривили губы и холостяки-офицеры. В конце концов Анжелла совершила неожиданный для армянской девушки поступок, поругалась с дядей и его женой, съехала с их квартиры в общагу, и приступила к поискам суженого сама. И нашла…
Армянская родня Анжеллы вся встала на дыбы. Жених, вчерашний десятиклассник из семьи рядовых рабочих совхоза и … казах! Казахи в армянской иерархии народов стояли очень низко, и выходить армянке за казаха, считалось своеобразным мезольянсом, унижением всей нации. Ольга Ивановна хорошо помнила все перипетии этой истории, начавшейся весной и закончившейся летом этого года. В него оказались втянуты не только семьи жениха и невесты, но и администрация поселка, руководство совхоза и школы. Таким образом, пыталась всех «поднять на ноги» и не допустить свадьбы родня Анжеллы. Ольга Ивановна не дождалась, чем все это кончится, вышла в отпуск и уехала в Усть-Каменогорск, искать следы сгинувших там в начале 20-х годов деда и бабки. О состоявшейся свадьбе она узнала уже вернувшись. Вообще вся эта громкая возня и суета, несколько месяцев к ряду потешавшая весь поселок, её совершенно не трогала, те люди ей были совершенно чужды и неинтересны. И сейчас, когда Мария Николаевна спросила: