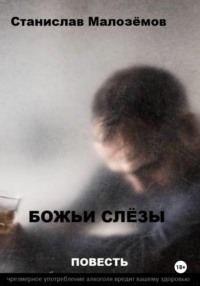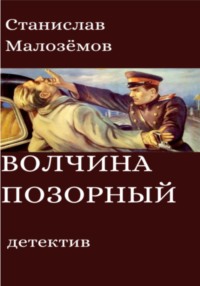Полная версия
Вести с полей
– Ты не скули раньше течки, сука, – миролюбиво посоветовал Чалый и через десять минут караван гусеничный исчез с глаз в ледяной дрожащей дымке поднятых траками стылых льдинок-снежинок.
Так началась первая, но не последняя война не на жизнь, а на смерть с родной и любимой матушкой-природой, наказывающей бесчисленных детей своих за греховные дела их, рождённые алчностью и недомыслием
Глава седьмая
Названия населенных пунктов кроме города Кустаная и все фамилии героев повести изменены автором.
***
Директор совхоза имени Корчагина Данилкин Григорий Ильич в жуткие дни морозные с раннего утра и почти до ночи из конторы не уходил. Только пообедать. Идти до дома недалеко – метров сто. Всё остальное время торчал он в кабинете и регулярно звонил в Кустанай. В управление сельского хозяйства и областной комитет КПСС.
У них интересовался только прогнозами, а они от него постоянно требовали докладов о том, что у него с людьми, с техникой, есть ли больные, обмороженные и целы ли трактора, комбайны и машины. Не замёрзло ли зерно, оставленное для хлеба рабочим. Бодро отвечал Данилкин начальству, уверенно, и ничем его не насторожил. Всё было вовремя сделано. Утеплено, промаслено, спрятано в тепло. Кони в кузнице, где кузнец раздувал огонь так, что тепла на день хватало, а на ночь он угля добавлял. Соломы Чалый с ребятами привезли на целый табун. Поэтому кони и лошадки так и не узнали – был этот жуткий мороз или их просто так в кузню загнали. Отдохнуть от трудов и покушать без ограничений. В домах тоже было тепло. Чалый, Кравчук Толян и Артемьев Игорёк, раздолбай совхозный, на все чердаки в домах санями, прицепленными к тракторам, завезли и закидали соломы почти под самые крыши. Так что и сверху не пробивался холод дикий. Все детали тракторов и другой техники смазали от души, не жалея солидола, солярку успели выкачать из цистерны, разлили по бочкам и бочки эти закатили в слесарный цех, в котором люди продолжали работать. У них три своих «буржуйки» было. А на плоскую крышу они накидали снизу деревянными лопатами здоровенный сугроб снега, с метр высотой. Тепло он удерживал не хуже соломы, а то и получше. Больницу тоже утеплили соломой по чердаку, а на окна снаружи набили лишние больничные матрасы. В больнице постоянно горел свет, потому как в помещение генераторной подстанции тоже закатили десять бочек солярки и замёрзнуть она там не могла, даже если бы сама захотела.
Вообще, за два дня всего Чалый Серёга так чётко спланировал все дела и настроил мужиков на спасательные от минус сорока восьми градусов работы, что на сердце у директора камень не лежал и плохих предчувствий до поры не было.
Но вот утром Чалый пришел к нему часов в девять, молча взял со стола бумагу и с полчаса писал какие-то расчёты. Потом сел напротив директора Данилкина да огорчил его до зубовного скрежета. Кончались запасы угля и дров. На обыкновенные тридцать градусов с хвостом было затарено угля и дров. В минус сорок три-сорок восемь запасы эти вылетали из труб раза в три быстрее. Прошло полмесяца аномального мороза, а на следующие даже десять дней топлива уже не хватало. И никто не знал: десять ли дней будет мучить людей холод страшный или ещё месяц.
– Звони в обком, Ильич, – Чалый Серёга отложил бумагу и подвинул её ближе к директору. – Нам надо на совхоз минимум сто тонн. Или сдохнем, если не уляжется колотун. И ещё. Вчера обошли все дома с Николаевым Олегом. Многие занесли в тепло мешков по пять-семь картошки. А кто-то по три, не больше. Капусту, морковку, редьку, что купили мы в Затоболовке, приморозило сразу. Что успели – занесли по домам. Но помёрзло много у всех. Отпустит мороз – вывезем за село. Весной закопаем. Но овощей, считай, почти нет ни у кого. Там дней на пять всего и хватит.
Данилкин, директор, поглядел в окно, губами пожевал или отматерился не вслух, да к телефону руку потянул.
– Звонить погоди, Григорий, – Чалый Серёга расстегнул тулуп. Жарко было в кабинете. – Дослушай. В погребах у людей не осталось пригодного для еды ничего. Земля промерзла метра на три. Все соленья, зерно, которое ты передовикам подарил, всё накрылось. Лёд вместо еды. Оттаивать бесполезно. Размазня будет несъедобная. Ну хрен бы с ними, с овощами. Мяса у людей дома дня на три, а на складе столовском – ещё на три. Если людям потом раздать по семьям. У кого два едока, а у кого четверо-пятеро. Если морозить вот так будет ещё хоть пару недель – голод у нас возникнет. А на холоде да ещё и в голоде – вымрет совхоз быстро. Ну, больше половины – точно. Думай, Ильич. Я тоже посоображаю. Варианты есть. В долг дадут. Рассчитаемся весной. Звони насчёт угля, дров мяса, картошки и морковки хотя бы.
– А ты зерно в тепло спрятал, которое на зиму оставили? – Данилкин между прочим спросил, вскользь. И так ясно было, что спрятал.
– Ну, – застёгивая тулуп и напяливая шапку, кивнул Серёга. – Зерно всё в мешках. Триста штук. Пятнадцать тонн. В пустой дом, откуда Малышенко сбежал в свой Харьков. Там три комнаты и кухня. Всё вошло. Валечка Савостьянов печку топит. Утром и на ночь. Тепло. Жить даже можно. Некому только. Ладно, пошел я. Надо ещё на три чердака соломы накидать. Мужики ждут.
Попрощались. Данилкин загрузил районную телефонистку, радостную от того, что мороз не порвал провода и связь работала. А Серёга Чалый до вечера возил и утаптывал на чердаках солому с Кравчуком и Игорьком Артемьевым, после чего поехали они в кузню погреться и приголубить литр самогона. Вот именно тогда и приехали со своей бедой мужики из колхоза «Енбек». Марат Кожахметов, сын председателя и парторг Андрюша Зинченко.
За три последних ночи в их холодных фермах и кошарах замерзли насмерть все коровы, свиньи, овцы и куры. Описывать состояние этих ребят я не стал подробно и в прошлой главе, и сейчас не буду. Неловко показывать крепких мужчин в том виде, в какой опустило их самое большое для скотоводов горе.
-А почему председатель за нами вас послал?– Мельком, на ходу спросил Олежка Николаев.– У вас вроде и своего народа навалом. И тракторов.
– Они замёрзли под вечер.– Марат опустил глаза.– Отец мой – председатель. Знаете же. Он сказал, что всех своих соберет утром на собрание и доложит. У нас же восемьдесят процентов людей – скотоводы. Поднять их всех вечером и повести к трупам- опасно очень. Может быть всё, что угодно. Бунт, мятеж. До резни может дойти. А так он утром рано сам объедет всех и каждому отдельно сообщит. На собрание к десяти все придут решать- как быть дальше. Но чтобы они увидели своих мёртвых животных, да ещё и сжечь их самим…Это, отец сказал, по психике так саданёт! И отца убить могут и друг друга порезать. Отец знает – как правильно сделать. Он – аксакал. Мудрец. Просто у нас бедный колхоз и утеплить фермы и кошары нам все равно не на что. Да и не ждали такого мороза.
Все семеро корчагинцев, отчаянных и бесстрашных, работавших за всех сразу и успевающих делать всё быстро и правильно в нечеловеческих условиях леденящего души холода, поехали на тракторах в «Енбек». Надели на подвески бульдозерные ножи, чтобы расчистить площадку для мёртвых животных, свезти их туда и засыпать снегом до весны. Весной ребята из «Енбека» сами выкопают им братскую могилу и завалят землёй.
Трактор «енбековский», шедший первым, внезапно заглох и остановился. Прихватил-таки мороз солярку. Мало спирта налили, похоже. Весь караван подтянулся к нему и окружил, обливая машину светом фар.
– Греть бестолку, – осмотрел движок Чалый. – Хватануло по всей нижней трубке. Не оттает сейчас. Холодно очень. Давайте его на трос. В колхозе есть ещё трактора?
– Найдём, – ответил Зинченко Андрей и пошел за тросом.
– По тёмну спокойнее будет работать. Никто не придет смотреть. Хотя про парня, который повесился, про скотника вашего, уже все знают, да? – Олежка Николаев прицепил петлю троса к своему трактору.
– Знают немногие. Председатель. Жена скотника и брат его. Его уже похоронили, наверное, – Марат Кожахметов, хлопая рукавицами по всему телу, забрался в холодный трактор.
– Как поедешь, Марат? – Игорёк Артемьев подошел к кабине. – Околеешь за пятнадцать километров.
– А как ещё? – Кожахметов Марат улыбнулся и от усов его хрустящих отскочили и выпали на снег белые ледышки.
– Это, я к тебе с другой стороны сяду и мы по дороге будем толкаться всё время и валенками по металлу стучать. Тогда, глядишь, просто замерзнем, но не околеем до смерти, – Игорёк, напоминающий в трёхслойной одёжке натурального колобка из сказки, переваливаясь с валенка на валенок забрался в кабину и крикнул Чалому: – Всё. Поплыли дальше.
Караван снова сдвинулся. В пустой степи, заваленной твердым от мороза снегом, замученной давлением ледяного воздуха, который тоже казался твердым как сам лёд, было не страшно, а жутко. Иногда Толяну Кравчуку казалось, что застывшая глыба чёрного неба, поливавшего Землю бледным и синеватым светом звёзд, раздавит ледяную толщу воздуха, расколет её и всё, что есть на ней на кусочки, потом сотрёт в обжигающий холодом белый хрустящий порошок. И ничего не останется на земле степной кроме бесконечного снега. Кравчук остановил трактор, дождался, когда с ним поравняется Серёга Чалый и, открыв дверь, громко высказал ему своё предположение.
– Всё в природе может быть, – согласился Серёга и очень внимательно с головы до ног оглядел Кравчука. – Вот тут у меня сколько рычагов в кабине и сколько педалей?
– Два того и две другого, – удивлённо ответил Толян. – А хрена ли интересуешься? Сам забыл, сколько чего?
Чалый достал фляжку поллитровую и протянул Кравчуку.
– Будешь ехать – хлебай помалеху. Сам гнал. Ни грамма сивухи. Семьдесят пять градусов первач.
– На кой пёс мне твой хлебать-то? – Кравчук Толян аж подпрыгнул в тракторе. – У меня свой есть.
– Твой потом выпьем. После работы, – Чалый резко тронулся и свет фар его огромного трактора «Сталинец» выхватил из тьмы трескучей колышущийся в мираже черного, дрожащего от стылости воздуха, последний в караване трактор.
Толян Кравчук хлебнул большой глоток горящего во рту самогона, проглотил, закричал громко – сам не понял что, после чего все несуразные мысли вылетели из его головы и через шапку да крышу трактора унеслись, может, в космос далёкий, где ещё холоднее, чем сейчас на земле. А, может, замерзли сразу и потерялись в степи.
До колхоза «Енбек» оставался всего где-то час хода. И до страшной трагической работы – не больше.
***
В девять часов того же вечера совхоз «Альбатрос», покалеченный со всех сторон теми же сорока восемью градусами и таким же воздухом, которым нельзя было дышать, потому что он десятками иголок вонзался в ноздри или гортань, замер и обезлюдел. Все жили в тепле и уюте. Даже в старый посёлок, к которому приклеился целинный «Альбатрос», директор Дутов скомандовал протянуть трубы отопления еще семь лет назад, поэтому в домах у населения печки были чисто декоративными. Только большие любители печь хлеб, булочки и готовить мясо в чугунках старинным способом – в глубине ниши печной с задвижкой, вот они брали с центрального склада возле большой котельни пару-тройку мешков угля и немного дров для растопки. А котельня была замечательная и кочегары отменные. Они разогревали в котле воду до кипения в этот жуткий холод, но открывался автоматический клапан, сбрасывающий избыток давления и насосы мощные гнали воду по огромному кругу труб, закутанных стекловатой и закопанных в траншеи на полтора метра. Даже при таком невероятном морозе вода в последних домах замкнутого круга не остывала ниже шестидесяти градусов, потому никто об уличном убийственном холоде и не думал. Пока, конечно, не приспичивало бежать в нужник. Туалеты в домах даже Дутов, который смог всё предусмотреть для беспечного житья-бытья народа, не предусмотрел почему-то. А справить нужду в сорок восемь градусов в холодном скворечнике было настолько не просто, что описывать процесс этот я не буду. Сами догадаетесь.
Народ «альбатросовский» в эти холода не работал вообще, потому как сразу же после уборочной технику смазали, почистили, вся солярка сразу же была разлита по бочкам и тоже содержалась в тёплом месте. Овощные, и зерносклады отапливались как магазины, две больницы, клуб и спортзал. Картошку из тёплого склада и мёрзлое мясо из единственного холодного, по заявкам трудящихся каждый день развозил по два раза в неделю Коля Петухов на тракторе с санным прицепом. Работали только скотники в утепленных и снабженных водяным отоплением фермах, птичниках и кошарах, да ещё девять девушек молоденьких в четырёх овощных теплицах, сделанных из стекла, вставленного ячейками в толстый деревянный каркас. Там было светло и в меру жарко. Девки имели в теплицах всё, что надо, и не очень. Например, радиолы им поставили. Пластинок всяких дали много. Почти половина из них была с классической музыкой, под которую, как считал главный агроном Алипов Игорь Сергеевич, всё росло веселее и вкусом выделялось от обычных, огородных. Ну, кроме радиол девушки имели всякие кремы, чтобы руки от возни с землёй не черствели, да лицо не разрыхлялось от влажности. Раскладушка была у каждой, чтобы разогнуться и выпрямиться на полчасика, ну и маленькие детские гантели для обязательной производственной гимнастики. Гимнастику он делали для сохранности форм женственных, которая нужна была при массовых попойках в бане, куда добрая судьба сводила всякие комиссии сверху или многочисленных друзей, которым отдых с красивыми девчонками был ещё более полезен, чем парная и берёзовый дух веников.
В общем, сильно отличалась жизнь в «Альбатросе» от существования в соседних совхозах. Это потому, что Дутов, директор, был из компании больших тамбовских и очень больших московских руководящих товарищей. Они Федора Ивановича Дутова из двенадцати кандидатур выбрали, направили его, главного агронома тамбовского совхоза «Маяк» директором совхоза целинного. Который было задумано ещё в пятьдесят седьмом сделать на всю жизнь образцово-показательным и возить туда союзную и казахстанскую номенклатуру для получения приятного удивления, гордости и желания приводить «Альбатрос» в пример, а также на него равняться, как на флагмана целинной эпопеи. Сам Дутов был не только агрономом от бога, но и мужиком его природа с жизнью сделали к сорока годам мудрым, добрым, властным и одарили редчайшим звериным чутьём. Он предвидел хорошее и плохое одинаково точно, потому и сам никогда не ошибался, и другим не давал.
Дутову советская власть, пославшая директорствовать, давала всё ещё раньше, чем он у неё сам попросит. В том краю целины, где обосновался «Альбатрос» и земля была такая же, как везде. Солонец, да суглинок вперемежку с нормальной. Но только ему одному дали всю лучшую технику и «добро» на безотвальную пахоту плоскорезами, что не разрушало плодородный слой. Это он привёз с собой четырёх, выбранных не им, а московскими спецами, агрономов высшего класса. Это только его свели с кустанайским гигантом сельскохозяйственной науки Свечинским, учёным-новатором, познавшим, казалось, все до одной тайны земли, растений и вообще природы. Он пожил месяц в совхозе, осмотрел каждую посевную клетку и расписал как по нотам всё, что и как надо делать на этой земле. И только один Дутов мог без звонка к нему на опытную станцию возле города приехать, чтобы совета попросить. Остальных не принимал Свечинский. Своих дел особой государственной важности имел он не вагон даже, а эшелон с прицепом. Дутова научил мэтр как правильно пользоваться удобрениями, гербицидами и, что главное, какими именно. Ему первому в северной целинной зоне доверили сеять элитный сорт твёрдой пшеницы
«гордеифорте-10», которую с руками отрывали даже такие монстры земледелия, как Канада.
Вот по всем этим и другим, которых перечислять нет резона, причинам жил совхоз размеренно, без авралов, кутерьмы и путаницы. Спокойно жил, интересно и уверенно. Вот этот ненормальный холод погубил в «Альбатросе» только диких уличных птиц, какие не смогли вовремя спрятаться в тёплых чердаках или фермах. Они замерзали на многочисленных совхозных деревьях и крышах. Спаслись только успевшие спрятаться и сесть рядом с печными трубами на тех домах, где всё-таки варили и пекли еду в печках.
Замерзших на деревьях или даже на лету ворон, воробьёв, голубей и сорок собирал со снега тот же Коля Петухов на тракторе с небольшим прицепом в виде ящика. Он отвозил трупы окоченевшие далеко за село и там бульдозером забрасывал их снегом. До весны. По всей остальной территории целины, возле лесопосадок и редких зарослей кустарника да на холмиках степных лежало столько птиц, которых некому было убрать, что даже крепкие мужики, ездившие в другие сёла по делам, отворачивались, морщились, подавляя нечаянные слёзы.
Двадцать первого января, в субботу, на четвёртый день мороза страшного, припекло директору Дутову Федору Ивановичу в баньку сходить. Отдыхал он в ней всегда в одиночку, без соратников по руководству совхозом. Ну, в одиночку – тоже не точно сказано.Поскольку парился и отдыхал он в баньке, где приятно было душой расслабиться музыкой из радиолы и радостями плотскими с любимой девочкой Лапиковой Леночкой. Приехала она в пятьдесят седьмом дурочкой двадцатилетней, призванной исключительно комсомольским энтузиазмом и год шуровала тяжелой деревянной лопатой бурты на току. А через год на неё случайно напоролся проверяющий качество перебуртовки директор. Он долго стоял возле неё молча. Осмотрел оценивающим взглядом всю её внешнюю сущность по диагонали, потом точечно и в глазах его мелькнула то ли радость, то ли жадность. Он долго стоял, смотрел и думал. Потом спросил, как зовут её и уехал. А дня через три послал кого-то на ток передать, что директор вызывает её в кабинет. Леночка прибежала бегом. Подумала, что Дутову не понравилось как она лопатой машет и он хочет перевести её на другую работу, где будет получаться лучше.
– Ты мне понравилась, – сказал ей Фёдор Иванович, не сообразив поздороваться. – Жену мою знаешь?
– Знаю. Хорошая, добрая женщина, – сказала искренне Леночка.
– Верно говоришь,– Дутов внимательно и долго глядел ей в глаза. После чего взгляд переместил на портрет Карла Маркса и сказал прямо, как на партсобрании. – Дружить со мной будешь? По-взрослому. Полюбовников и разврата у нас по большому счёту нет в стране, но если мужчина и женщина нравятся друг другу, они в виде исключения вспоминают, что это, занимаются этим и кроме того дружат. Вот я тебе нравлюсь?
– Да, – твёрдо сказала девочка Леночка. И не врала. Дутов ей очень нравился. Это был просто идеал мужчины. Мечта, а не мужик.
И с того дня у неё пошла другая жизнь, которую Фёдор Иванович развернул на сто восемьдесят градусов. Для неё он построил четыре теплицы, она со всего совхоза собрала на тепличную работу самых симпатичных девчонок и они под руководством Алипова Игоря за год сделали в них маленький рай. Всё, от редиски до помидоров, огурцов и всяких цветов было у совхозных трудяг и летом, и зимой. Дутов привез из тамбовской области эшелон прекрасной земли, которой хватило не только на теплицы, но и на огороды в каждом дворе, да ещё на посадку разных деревьев в совхозе, хоть и стоял он практически наполовину в хорошем природном лесочке. В оазисе степном.
А Леночка на всё время стала единственной любовницей директора Дутова, о чем знали все, включая жену Нину Игнатьевну. Леночка соперницей ей не была. Муж из дома не ушел бы, даже если бы приказали из ЦК КПСС. Заботился он о семье, где было ещё два сына почти взрослых, изо всех сил и с желанием чистым. И она эту слабость Феде простила сразу как узнала. Значит мужику нужно и тело молодое и душа. Она нутром чувствовала, что необходима была ему юношеская страсть, которая и семью не оскорбит и в работе тяжелой силы обновит. А потому просто предупредила его всего парой слов.
– Разлюбишь семью – уедем с пацанами.
– Нет,– взяв её за руки, жестко произнес Федор Дутов. – Не разлюблю. И девочка эта у меня любовница, а не любимая. Любимая – ты. И дети. Не бойся ни за меня, ни за себя и ребят, ни за Ленку. Не опозорю никого. И сам не осрамлюсь.
Так и продолжили жить. Леночке он построил аккуратный деревянный домик неподалёку от своего терема двухэтажного. Поработала она ещё три года в теплице, а потом пошла в клуб художественным руководителем, где заведующей была Нина Игнатьевна, жена Федина. И жили они в ладу все, и странно было это всё, необычно и противоестественно. Но уж как стало, так и было.
В общем, доложил директор Дутов жене, что решил вечерком попарится и пошел ещё засветло в баньку деревянную, такую чистую и пахучую сладким ароматом скоблёного дерева, вениками разнообразными и пивом, которое Фёдор Иванович и пил, и на каменку лил. Дима Огнев, управляющий делами банными, несмотря на зверский мороз расчищал лопатой двор от лишнего снега и попутно носил колотые дрова в кочегарку на обратную сторону домика. За баней он ухаживал как за собственной машиной, если бы она у него была. То есть, любовно. Возвеличил его в чин банного распорядителя Дутов из комбайнеров. Дима приехал в пятьдесят седьмом из Воронежа по путевке, но среди комбайнеров смотрелся инородно. Он был природным организатором. Талантливо проводил любые мероприятия, от свадеб до крупных совхозных праздников. Умел общаться с народом из высоких сфер без подхалимажа, но так тонко, что заезжие комиссии, которые директор поручал ему сопровождать и обслуживать, расставаясь, крепко жали ему руку, хлопали одобрительно по плечу и благодарили за всё, что он для них делал. Потому и определил его Дутов хозяином бани, места, где всё должно быть похожим на недолгое, но все же – счастье.
– Димыч! – сказал тихо директор Дутов, не заходя за ограду. – Мы с Ленкой часов в девять отдохнуть придем. Топи хорошо. До ночи тут будем. Пиво в холодильнике?
– Двадцать бутылок, – Огнев Дима воткнул в сугроб лопату и поднял одно ухо на шапке.– Там же балычок, сервелат, яблоки, конфеты, шоколад, коньяк.
Шашлык жарить?
– Не… Ленка не любит же. А я просто не хочу. Ты лучше ей лимонаду бутылки три принеси из чуланчика, да охлади маленько. В девять будем уже, – директор постучал ногой по ограде. Дерево издало странный звук, похожий на щелчок курка ружейного, незаряженного. – Дутов стукнул еще раз, хмыкнул и пошел в домик к Леночке Лапиковой. Она ещё не знала, что сегодня банька. С шоколадками и физическими любовными нагрузками.
***
В те же девять часов вечера, когда хозяин всего, что есть в «Альбатросе», Дутов Федор Иванович, откупорил первую бутылку городского «Жигулёвского», а Леночка Лапикова пошла в парную разогревать и без того горячую кровь, караван тракторов обогнул совхоз «Енбек» с подветренной стороны, чтобы звук моторов не разбудил население, и пошел прямо на скотофермы. Фары уже выхватывали их белые длинные тела из синей от холода тьмы, хотя проехать надо было ещё полтора километра. Доехали всё же. Встали полукругом. Уперлись фарами в раскрытые широкие ворота фермы. По всему засыпанному соломой цементному полу лежали, поджав ноги, коричневые мёртвые коровы, покрытые сверху тонким слоем инея, который всегда появляется в мороз на медленно остывшем теле. Серёга Чалый закурил и пошел внутрь. За ним потихоньку двинулись все остальные. Кроме Марата Кожахметова. Он сел на корточки и, глядя в снег возле валенок, водил большим пальцем в рукавице вокруг ног, оставляя на твёрдом как кирпич насте почти незаметную царапину.
– Ой, ;асірет! Біз ;азір ;алай т;рамыз?!! – взвыл он внезапно как волк в степи. Тонко, протяжно и с жутковатым надрывом. Он долго кричал, одни и те же слова, упав на локти и уткнувшись шапкой в твердь снежную. Потом крик его превратился в стон, затем в свистящий хрип. Он поднимал голову, бросал мутный взгляд в ворота, смотрел страшными глазами на коров, которые лежали плотно – одна к одной, а некоторые успели навалиться сверху на умирающих, но ещё чуть тёплых соседок своих и охладевали с ними вместе.
Видно было, что не метались они по стойлам и по свободной площадке за своими стойлами. Они, судя по не разбросанной ногами соломе, тихо ходили по ферме, мычали, наверное, прислонялись друг к другу, собирая последнее тепло тел в одном месте, а потом становились на колени. И, уже умерев, падали на бок. К ним подходили ещё живые, чувствуя уходящее, но всё-таки тепло, ложились на них и вскоре замерзали.
– Что Марат кричал? – спросил Валечка Савостьянов у молодого парня-казаха. Видно, работал тоже здесь. Откуда он вынырнул, из какого не освещенного оледеневшего угла фермы, никто не заметил. Парня трясло, бежавшие изо рта слюни застыли белыми твердыми извилинами. Такие же ледяные тонкие полоски спускались от глаз к подбородку. Лицо его было почти синим, а руки он держал, раскинув в стороны. Будто обнять кого-то хотел.