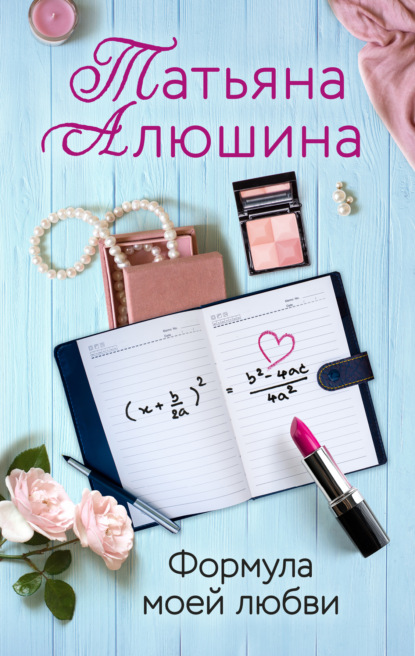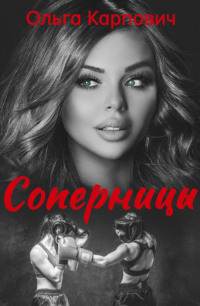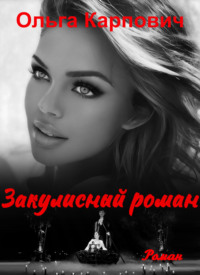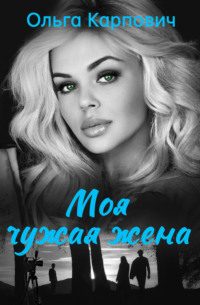Полная версия
Одна судьба на двоих
Я спустилась вниз и несмело потянула на себя дверь. Разглядев на пороге темную фигуру, я тут же почувствовала, как от облегчения у меня подкосились колени. Это был Гриша. Я не видела его с вечера – когда, в очередной раз отказавшись у них ночевать, опять прибрела в свой омертвевший дом.
– Не спишь? – коротко спросил он.
Я кивнула.
– Не могу. Знаешь, как-то…
– Значит, не будем спать, – решительно заявил Гриша. – Я тебе диски с фильмами принёс. Тут вот есть отличный, про ковбоев. Пошли смотреть.
Мы прошли с ним в большую комнату. Гришка уверенно направился к дивиди-проигрывателю, который когда-то привезли деду из рейса мать с отцом, повозился с ним и вставил диск с фильмом. Затем взял пульт и опустился на пол, привалившись спиной к дивану. Я села рядом с ним. Всё моё тело покалывало от недостатка сна, голова была ватной, в груди надсадно болело. Гришка, одной рукой управляясь с пультом, второй обхватил меня за шею и притянул к себе. Я и представить себе не могла, что мне станет настолько легче просто от того, что я привалюсь к его тёплому плечу.
С экрана на нас, прищурившись, посмотрел Клинт Иствуд, поправил дулом револьвера шляпу, пришпорил лошадь и поскакал навстречу закату.
– Гляди, как несётся, – заметил Гришка.
Потом начал негромко говорить что-то о лошадях, о прериях, о том, как у себя в посёлке учился ездить верхом. Слова его убаюкивали, обволакивали меня, укутывали мягким одеялом. Я сильнее прижалась к нему. Голова стала тяжёлой, съехала с его плеча ниже, куда-то на колени. Гришка обхватил меня, будто пытался взять на руки, как ребёнка. Веки отяжелели, я моргнула раз, два – и вдруг уснула. Впервые за все эти дни уснула спокойно и глубоко.
Проснулась я от того, что кто-то решительно барабанил в дверь.
– Эй, хозяева! Есть кто дома? – выкрикивал незнакомый женский голос.
Я открыла глаза и не сразу поняла, где нахожусь. Это явно была не моя комната – я привыкла, просыпаясь, в первую очередь видеть солнечный квадрат на стареньких тёмно-зеленых обоях и угол полки, на которой стояла некогда склеенная мною модель корабля. Нет, я определенно была не в своей комнате, но всё же дома – запахи и звуки вокруг были родными, привычными – кроме этого бесцеремонного стука в дверь и надсадного голоса.
Я повертела головой, поерзала и наткнулась на тёплое плечо. И только тут вспомнила, что рядом со мной спит Гришка, что мы с ним в большой комнате, на диване, одетые и накрытые пледом. Должно быть, я уснула на полу у него на коленях, и он осторожно перенёс меня сюда и лег рядом, не желая оставлять меня надолго одну. Удивительно, но вчера никто из нас не вспомнил о том странном, невысказанном, что в последние месяцы мешало нам общаться.
И лишь сейчас, при ярком свете весеннего солнца, от этого стука в дверь я почувствовала неприятную неловкость. Смутилась, будто нас с ним застигли за чем-то постыдным, нехорошим.
Злясь на себя за вспыхнувшие щёки, я села на диване и, робея, потрясла его за плечо:
– Гриша! Гриша, просыпайся! Там кто-то пришёл.
– А? Что? – молниеносно подскочил он.
Услышал, как кто-то кричит под дверью, взглянул на меня, торопливо оправлявшую рубашку, тоже вспыхнул и отвёл глаза.
Я быстро отвернулась и пошла в прихожую. Распахнула дверь – и в дом тут же ввалилась огромная неуклюжая тётка в цветастой кофте, обхватила меня руками и заголосила:
– Ох, Радочка, ох, какое несчастье! Какая же ты большая стала да красивая. Вся в мамочку, царствие ей небесное. Ох, детка!
В первые минуты я даже не догадалась, кто это, и лишь потом поняла, что это та самая тётя Инга, с которой я недавно разговаривала по телефону. Она была несколько не такой, как я себе представляла… Я, сказать по правде, вообще не особенно думала о ней. Просто считала, что раз тётя Инга мамина сестра, значит, она будет чем-то похожа на маму. И она действительно чем-то была на неё похожа, если приглядеться, но…
Мне странно было увидеть мамины черты, расположившиеся на совершенно чужом лице. Тетя Инга оказалась ростом значительно ниже, чем была мама. Фигура у неё была не очень полная, но какая-то оплывшая. И если у мамы в каждом движении чувствовались легкость и плавность, то Инга, напротив, была тяжеловесной, неловкой и слегка косолапой. Сдавив меня в объятиях, она первым делом наступила мне на ногу, но, кажется, даже не заметила этого. От неё пахло какими-то душными сладкими духами, и кофта на ней была такая, какую моя мама никогда бы не надела. Волосы у неё были того же цвета, что и у нас с мамой – тёмные, с шоколадным отливом. Вот только у Инги они заметно поредели, были коротко острижены и как-то нелепо примяты к голове. А глаза… Мне показалось чуть ли не оскорблением, что мамины тёмные, прекрасные глаза смотрели на меня с этого чужого и непривлекательного лица.
Покончив с приветствиями, тетя Инга ухватила с пола клетчатую клеёнчатую сумку и по-хозяйски устремилась в дом, продолжая по дороге кудахтать:
– Ну как ты здесь? А я всё думаю, как же так – девочка осталась совсем одна. Подхватилась и первым же поездом приехала… Похорон-то не было ещё? Ну, конечно-конечно, я так и думала, как ты без меня всё организуешь-то…
Я хотела было спросить, почему же она не появилась на похоронах моих родителей. Почему вообще не показывала сюда носа много лет, ограничиваясь поздравительными звонками деду. Я уже собиралась сказать, что церемония будет завтра и что Гришина мама уже всё организовала. Да и городские службы подключились, даже Порт Восточный взял на себя часть расходов, потому как дед прослужил у них много лет. Но не успела, потому что тут тетя Инга увидела топтавшегося в комнате Гришу.
Она посмотрела на него, потом перевела взгляд на меня, и вся та неловкость, что повисла над нами с утра, вспыхнула с новой силой.
– Так ты тут, выходит, не одна, – вкрадчиво произнесла тётя Инга. – А я-то думаю, что это не открывает никто, а вы тут, значит, вдвоём.
Она осеклась и поджала губы. Только впоследствии я поняла, чего ей стоило не устроить сразу с порога базарные разборки с криками и обвинениями.
– Это мой друг Гриша, – начала я. – Он мне очень помог. И его мама помогла с похоронами, они будут завтра…
– Ах, значит, мама, – протянула тётя Инга, и глаза её опасно сверкнули.
Видимо, в этом моём невинном сообщении она почувствовала для себя какую-то угрозу.
– Спасибо, конечно, но теперь нам помощь не понадобится, теперь мы сами. По-родственному, по-семейному… А ты иди, мальчик!
Гришка нахмурился и вопросительно посмотрел на меня. Ему явно стало не по себе от необходимости оставить меня с этой незнакомой женщиной. Но я успокаивающе кивнула ему – как ни крути, мне надо было как-то научиться с ней ладить, найти общий язык.
Гриша ушёл, и тётя Инга тут же начала рыскать по дому, заглядывая во все углы.
– А где у вас документы хранятся? – спрашивала она меня. – Ты ведь понимаешь, перед похоронами нужно всё посмотреть.
– Да мы уже всё собрали, – растерянно отозвалась я. – Свидетельство о смерти и другое…
– Ну все равно нужно посмотреть, – настаивала она. – Так где? Вот тут, в секретере? Ага, поняла…
Она тут же углубилась в бумаги. Её тонкие брови, грубо подкрашенные тёмным карандашом, подпрыгивали на бледном лбу, сдвигались и снова расходились.
– А папина квартира, значит, так и стоит без дела? – деловито осведомилась она.
Я пожала плечами. В родительской квартире я не была с того самого дня, как они ушли в свой последний рейс.
– Непорядок, – покачала головой тетя Инга. – Чего она простаивает? Мы же не богачи какие, квартирами разбрасываться. Нужно сдавать… Дедушка, конечно, старенький уже был, соображал плохо, да? Но мы-то с тобой люди умные… – Она как-то заговорщически на меня посмотрела и хихикнула.
Я снова пожала плечами. Мне, конечно же, хотелось наладить с ней контакт, но вот так предать деда, наверное, самого близкого мне человека, согласившись с тем, что он перед смертью выжил из ума, я не могла.
На следующий день были похороны. Как нарочно, погода ещё ночью испортилась. Похолодало, небо заволокло серыми клочковатыми тучами. То и дело начинал моросить мелкий промозглый дождь, и земля на кладбище совсем раскисла.
Эти похороны совсем не были похожи на похороны моих отца и матери. Тогда всё было официально и торжественно – трагическая гибель большого судна, множество погибших, траур городского значения. Смерть же старого боцмана оказалась событием вполне обыденным. Конечно, из порта прислали какую-то чиновницу, которая, сверяясь с бумажкой, произнесла над гробом полагающуюся речь, но в остальном всё было тихо и скромно. Пришло несколько дедовских старых друзей и коллег, парочка соседей, Гриша с матерью и младшим братом Санькой, тетя Инга и я.
Могильщики, курившие в стороне, услышали, что все замолчали, и подошли ближе.
– Ну что, зарывать, что ли? – спросил один из них и обвёл собравшихся взглядом, не зная, к кому конкретно обращаться.
– Да, пора, – отозвалась тётя Инга и вдруг как-то натурально всхлипнула, припав к дедовской груди. – Папочка, милый, как же ты так…
А я всё смотрела на неё и думала, почему же она совсем не приезжала к нему, пока он был жив. Наконец Инга отошла и звучно высморкалась в платок. Рабочие накрыли гроб крышкой и стали его заколачивать. Эти сухие удары отдавались где-то у меня в висках. Я почувствовала, как за моей спиной оказался Гриша, просунул руку мне в карман и сжал мои ледяные пальцы. Затем гроб обвили верёвками, подцепили и принялись, матерясь и покрикивая друг на друга, опускать в могилу.
На крышку с глухим стуком упали первые комья земли. Не в силах оставаться там более, я развернулась и пошла прочь, пробираясь между выкрашенных чёрной, зелёной и голубой краской оград. Гриша немедленно двинулся следом.
Оглянувшись, я увидела, как на месте разрытой могилы вырос свежий земляной холм. Работники повтыкали в землю лопаты, и один из них обратился к Инге:
– Хозяйка, так хорошо бы… это… на помин души, так сказать.
Та тут же ощерилась:
– Нечего, нечего. Вам лишь бы нажраться, алкашня! У меня лишних денег нет. И так на последнее отца хороню.
Поминки проходили в столовой завода, где работала тётя Маруся. Ей каким-то образом удалось договориться, сторговаться за полцены, выкроить последние крохи с нищенской зарплаты. На столе остывали стопки пористых золотистых блинов, все поднимали рюмки и пили не чокаясь. А во главе стола стояла все та же дедовская фотография, перед ней – рюмка водки, накрытая кусочком черного хлеба.
Я сидела за столом, словно в полусне, слушала тихое жужжание голосов. Мне всё казалось, что сейчас откуда-нибудь из коридора войдёт дед, тронет меня сухой рукой за плечо и скажет:
– Ну, пойдем домой, Радочка. Хватит уже, посидели.
Невозможно было осознать, что этого никогда больше не случится.
– Ну слава богу, слава богу, – частила тетя Инга. – Похоронили, как полагается, справились. И поминки организовали не хуже, чем у людей.
Мне хотелось заметить ей, что сама она, приехав только вчера, не потратила и копейки, а теперь сидит здесь и делает вид, будто всё это ее заслуга. Однако я промолчала.
– Ну дома-то мы, конечно, еще раз соберёмся. Девять дней, сорок дней… – продолжала она. – Уже в семейном кругу, без посторонних…
– Дома? – переспросила ее тётя Маруся.
– Ну конечно, в Хабаровске, – закивала Инга. – С Радочкой, с моими оглоедами…
– Почему в Хабаровске? – кажется, впервые за весь этот день заговорила я.
– Ну а где же? – изумилась тетя Инга. – Мы же в Хабаровске живём, а ты теперь с нами будешь.
– Так вы забираете Раду в Хабаровск? – уточнила тётя Маруся.
– Конечно, – фыркнула Инга с такой уверенностью, словно вопрос был давно решён и предположить иное развитие событий мог только человек, начисто лишённый разума. – Неужто я девочку одну оставлю? Она ведь наша, кровь – не водица, как говорится.
– А вы с ней это уже обсудили? – спросила тётя Маруся, вопросительно взглянув на меня.
Наверное, по моему ошеломлённому лицу она догадалась, что я слышу об этом впервые.
– Вы меня простите, конечно, – вскинулась та. – Но что тут обсуждать-то? Какие варианты могут быть? Племянница здесь одна, родственников, кроме нас, у неё не осталось. Вы что же, думаете, я её брошу на произвол судьбы? В детский дом отправлю?
– Ну подождите, – попыталась увещевать её тётя Маруся. – Ведь Рада уже достаточно взрослая, самостоятельная, ответственная… Она…
– Самостоятельная? Ха! – ещё пуще разошлась тетя Инга. – Так-то они все сейчас самостоятельные. Но мозгов у них в таком возрасте ещё нет. Вы меня извините, но вы знаете, что у неё в доме ночевал парень? Ваш сын, между прочим! Это вот, значит, только дед умер, так сразу мужиков водить? А если, не дай господи, ребёнок появится? И кто будет за это отвечать?
Тётя Маруся вся вспыхнула, впалые щёки ее побагровели.
– То есть вы хотите сказать, что мой Гриша воспользуется тем, что девочка беззащитна, и… Да как ваш поганый язык повернулся-то?
– А что же вы думаете? Дело молодое, всякое бывает… Без родительского-то присмотра. А кто потом приплод растить будет? Мы с вами? У вас и так на шее два рта, как я понимаю, – она кивнула в сторону сосредоточенно жевавшего Саньки. – У меня у самой трое. Мне это всё на фиг не нужно!
– Вы что-то, по-моему, больно далеко заглядываете, – не сдавалась тётя Маруся. – Речь сейчас не об этом, а о том, можно ли срывать ребёнка из дома, из родного города и везти непонятно куда, даже не спросив у неё. А эти грязные намеки на моего сына вы бросьте! Я, может, и не самая лучшая в мире мать, но…
Гриша, сидевший рядом со мной, возмущённо вскинулся, но я сжала под столом его руку. Мне не хотелось, чтобы поминки деда превращались в безобразный скандал, и поэтому я просто шепнула ему:
– Давай уйдем!
Гриша бросил яростный взгляд на тётю Ингу и молча поднялся из-за стола.
Мы вышли с ним в длинный гулкий коридор, свернули куда-то влево, затем вправо, пока не добрались до укромного закутка под лестницей. С кухни доносились манящие запахи тушёной капусты и столовских котлет, но нам было всё равно. Мы устроились на полу, прижались друг к другу и сплелись руками.
– Я не уеду! – выдохнула я в ухо Гриши.
– Не уедешь, – кивнул он, обдавая жарким дыханием мою щеку.
– Я ни за что не уеду, я просто не смогу, – горячо убеждала я – то ли его, то ли саму себя. – Нет, нет, я не уеду.
– Не уедешь, – повторял он вслед за мной. – Я тебя не отпущу.
Где-то над нами с грохотом захлопнулась железная дверь, от толчка дрогнули стёкла в окнах, и капли дождя на них расплылись мелкими лужицами. А мы всё так же сидели на полу, словно вросли друг в друга, и повторяли «не уеду», «не уедешь»…
Глава 3
Я покинула родное Приморье в начале июня. День был жаркий и влажный, над лесом набрякла гроза. Небо подплывало чернотой, нависало низко, где-то уже начинало погромыхивать, в воздухе носился запах озона, и даже на губах почти чувствовалась дождевая влага.
Во дворе моего дома – того самого, где я выросла, где каждая половица, каждая стенка, каждый гвоздь были мне знакомы, где я могла пройти с закрытыми глазами и ни разу не споткнуться, где я научилась ходить, потом читать, играть в шахматы, готовить… В общем, во дворе этого самого дома фыркал грузовичок, а тётя Инга по-хозяйски покрикивала на рабочих, пихавших в его нутро старенькую дедовскую мебель.
– Так, это у нас что? – Она обернулась к двум мужичкам, выносившим из дома старомодный диван на тонких деревянных ножках, обитый выцветшей зелёной обивкой. – Нет, эта рухлядь нам ни к чему, она по дороге рассыплется. На задний двор пока поставьте.
Мужички развернулись, один зацепился краем дивана за дверной косяк, выматерился, что-то скомандовал второму – и они потащили диван вокруг дома. Тётя Инга же принялась сгружать в кузов стопки перевязанных бечёвкой книг. Я видела, как исчезли в недрах машины «Три мушкетёра» – книга в красной обложке, которую я читала под партой в тот день, когда познакомилась с Гришей. Зачем ей понадобилось отвозить все эти книги в Хабаровск, я не знала. Но она, кажется, задалась целью опустошить здесь всё.
Со дня похорон деда минуло несколько недель. Недель, показавших мне, что иногда даже самого горячего желания что-то сделать недостаточно для того, чтобы это действительно произошло. Недель, когда со мной беседовали чиновницы из комитета соцзащиты, школьные учителя и даже тётя Маруся. Пересказывать все эти наши бесконечные диалоги не имеет смысла, тем более что, если отбросить особенности словарного запаса и темперамента моих собеседников, все они сводились примерно к одному:
– Радочка, ты – несовершеннолетняя. Тебе ещё два года учиться в школе. Ты не можешь жить одна, по закону ты сама за себя не отвечаешь. Других родственников, кроме тёти Инги, у тебя нет, и если не к ней, значит, под опеку государства до совершеннолетия. В детский дом.
Тётя Маруся в конце еще добавляла:
– Ох, детка, не нравится мне эта Инга. Да разве ж я б тебя ей отдала? Но что делать, сама посуди. Я одна, пацанов на мне двое, а зарплата – сама знаешь, слезы! Да это бы и ладно, прожили бы как-нибудь. Так ведь не разрешит же мне никто при таком достатке оформить опекунство.
Гришка, обычно присутствовавший при наших беседах, в этот момент подскакивал и начинал мерить тяжёлыми шагами комнату.
– Мам, а если я работать пойду?
– Куда? – вздыхала тётя Маруся. – Куда ты пойдёшь после девяти классов? Сейчас даже расклейщиков объявлений требуют с высшим образованием. Да и потом – это ничего не изменит. Всё равно никто нам не позволит взять Радочку к себе.
– Но должен же быть какой-то выход? – скрипел зубами Гриша.
– Ну какой? – фыркала тётя Маруся. – Только потерпеть. Два года быстро пролетят, оглянуться не успеет. А потом Рада станет совершеннолетней, и никто уже не сможет ей диктовать, где жить. Захочет, так вернется. Глядишь, ещё и поженитесь, – улыбалась она.
– Мам, прекрати! – смущённо рявкал Гриша.
Мы с ним так ни разу и не говорили о том, что изменилось между нами. Что теперь мы иногда могли касаться друг друга губами, гладить, обнимать – не так, как раньше, по-детски, по-дружески. Всё это было таким хрупким, таким зыбким.
Мы смотрели друг на друга растерянно, несмело и в то же время, видя в глазах другого отражение своих же чувств, не могли удержаться от глупой, счастливой улыбки. Никогда в жизни я больше не испытывала таких сильных, таких ярких и правильных чувств, как в тот короткий период первого осознания любви.
В конце концов я согласилась уехать. Мне ведь было только шестнадцать – я ещё не разучилась верить взрослым и считала, что, возможно, действительно чего-то не понимаю. Тётя Инга расписывала мне, как мы прекрасно заживём в Хабаровске:
– А уж как-то с моими спиногрызами подружишься. Виталька-то совсем большой уже, девятнадцать скоро. Ох и парень – красавец, умница! Славке четырнадцать, тот ещё сорванец, ему старшая сестра – серьезная да строгая – ой как нужна. Ну а Ванька мелкий совсем, шесть ему только. Он тебя сразу полюбит.
И я начинала думать, что, может быть, в самом деле поехать жить к тёте Инге – не самая плохая идея. У меня ведь никогда не было большой семьи, братьев… Я привыкла расти в тишине. Лишь в те дни, когда дома бывал отец, становилось достаточно шумно и весело. И всё равно немноголюдно. А если верить книгам, большая семья – счастье для человека.
Может быть, всё это и могло бы убедить меня окончательно, если б не Гриша. Сейчас мне так тяжело вспоминать те дни перед моим отъездом. Это было странное время – всё было как-то навзрыд, отчаяние, радость и боль. Всё переплеталось, перемешивалось, и я порой никак не могла понять, что же вообще чувствую. Мы с Гришей постоянно прятались где-нибудь ото всех, и тут же кидались друг к другу, обнимаясь чуть не до боли, боясь разжать руки. Мы будто бы заново открывали друг друга и в то же время, зная о предстоящей разлуке, пытались сохранить эти образы в памяти, запечатлеть на сетчатке глаз, запомнить ощущения на кончиках пальцев. Я помню, как он осторожно проводил ладонью по моему лицу, трогал краешек губ, гладил по скуле. И в глазах его дрожало нечто очень глубокое, тёплое – какая-то извечная преданность, что ли.
– Я к тебе приеду, – хрипло шептал он.
– Да.
– Я убегу, что-нибудь придумаю. Я здесь без тебя не останусь, слышишь?
– Нет, это я убегу.
Мы ещё не умели с ним разговаривать по-взрослому, все срывались на детские заклятия и обещания. Но нам хватало и этого. Слова были не важны, важнее было то, что мы прочитывали за ними: «Я с тобой. Навсегда. Чего бы это ни стоило».
Тетя Инга меж тем развила бурную деятельность. Она отыскала ключи от владивостокской квартиры, в которой я не была с тех пор, как погибли родители, наведалась туда и вывезла какие-то вещи.
– Радочка, – сказала она мне. – Ты бы съездила со мной. Может, тебе захочется что-то взять?
Но мне слишком страшно, слишком невыносимо было бы войти туда. Мне бы все казалось, что сейчас из кухни навстречу выйдет отец, а из гостиной донесётся высокий мамин голос. Потом я узнала, что тётя Инга, предварительно вытащив из квартиры всё ценное, нашла каких-то жильцов и договорилась с ними, что деньги за съём жилья они будут ежемесячно переводить ей в Хабаровск – на карточку. Наверное, она бы и вовсе продала квартиру, если бы куратор из соцзащиты на одной из наших совместных встреч не заявила ей непреклонно, что квартира принадлежит мне, несовершеннолетней, и продать её, выписав меня по сути в никуда, никак не получится.
Дедовский дом Инга тоже вознамерилась продать – и тут с моей стороны не должно уже было быть никаких препятствий. Здесь наследницами были мы с ней обе, и, поскольку дом не был моим единственным жильём, я вроде никак не могла помешать его продаже. Только если бы вступила в прямой конфликт – чего сделать, конечно же, не решалась. Однако тётке быстро объяснили, что после смерти хозяина должно пройти не меньше шести месяцев, прежде чем наследство окончательно перейдёт к ней в руки. Инга погудела, поругалась, но в конце концов смирилась с неизбежным и решила заколотить дом и вернуться продавать его через полгода.
Грузовик во дворе всё фыркал. Пластиковая клетчатая сумка, в которую тётя Инга сгрузила мои нехитрые пожитки, стояла на крыльце. А мне всё казалось, что всё это – какой-то тяжёлый обморочный сон. Что сейчас я проснусь и пойму, что ничего этого не было.
Я прошла на задний двор и с ногами забралась на брошенный там грузчиками диван. Мой диван. Тот, на котором я валялась с ангиной, а дед, устроившись у меня в ногах, читал мне «Морские рассказы» Житкова. До поезда оставалось четыре часа.
Я смотрела куда-то в пустоту, на начинавшийся за посёлком лес. От слепящего солнца болели глаза и невыносимо жгло под веками. Я даже не заметила, как у забора появился Гриша. Впрочем, он вообще обладал способностью возникать вот так – бесшумно, из ниоткуда.
Гриша заметил меня, не стал тратить время на то, чтобы войти через калитку, а просто перемахнул через забор и опустился рядом со мной на диван. Мы помолчали. Мне казалось, я уже слышу в ушах перестук колёс поезда, который увезёт меня от него.
– Держи! – вдруг сказал Гриша и вложил что-то мне в ладонь.
Я глянула вниз и увидела, что держу в руке маленькую выструганную деревянную фигурку. Это был волчонок – фигурка была вырезана грубовато, резкими ломаными штрихами. Наверное, Гриша работал своим старым перочинным ножом, которым мы с ним столько раз срезали с пней молодые опята. Но при всём этом волчонок получился как живой. Жмурил глаза, будто бы щурясь от яркого солнца. И даже в приоткрытой пасти его виднелся крошечный язык.
– Это тебе, – бросил Гриша, не глядя на меня.
– Зачем? – спросила я.
Волчонок сразу мне очень понравился, я сжала его в ладони, чувствуя, как впиваются в кожу его острые ушки.
– Не знаю, – буркнул он.
А потом всё же повернулся ко мне и посмотрел открыто. В его удивительных глазах, впитавших в себя все краски леса, засветилось что-то настолько глубокое, настолько открытое и искреннее, что это почти пугало.
– Меня не будет рядом, – пробормотал он. – А он… он останется с тобой. Вместо меня.
Он вдруг смутился своих слов, отвернулся и бросил сквозь зубы:
– Глупо, конечно!
– Нет, – хрипло проговорила я. – Нет, Гриша, это не глупо. Я… я всегда буду носить его с собой. И со мной ничего не случится, я тебе обещаю!
И я рванулась к нему, обняла руками за шею и прижалась к его груди.
– Всё будет хорошо, – шептал он мне, судорожно гладя меня по волосам. – Всё будет хорошо. Я к тебе приеду. И ты будешь приезжать… Это всего на два года, а потом ты обязательно вернёшься…
– Обязательно, – кивнула я.
Кажется, теперь это стало нашим новым заклинанием вместо «я не уеду – ты не уедешь».