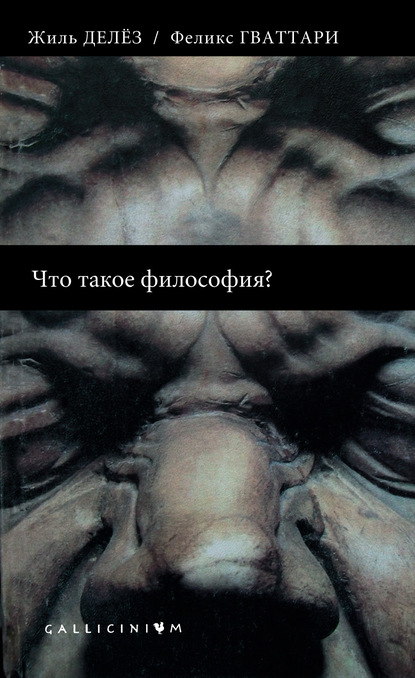Полная версия
Прекрасное и истина
Выбор специальности стал непростым делом для юноши, поскольку, обладая разносторонними талантами, «…при желании он мог бы стать физиком, поэтом, музыкантом или писателем»[14]. И действительно, окончив лицей в Алансоне, Эмиль сперва намеревался продолжить свою учебу в Политехнической школе, однако после некоторых колебаний все-таки выбрал гуманитарное (литературное) поприще, став экстерном лицея Ванв (Vanves), в настоящее время носящего имя лицея Мишле (Michelet) и находящегося в предместье Парижа. Здесь-то и состоялась оказавшаяся судьбоносной для молодого человека встреча с преподавателем философии Жюлем Ланьо (Jules Lagneau).
Окидывая ретроспективным взглядом жизнь Э. Шартье, приходится признать, что она не была, по большому счету, слишком богата экстраординарными событиями личностного плана, за исключением его пребывания уже не в очень молодом возрасте на фронте. Поэтому не удивительно, что именно военный опыт, армейские наблюдения и впечатления стали второй из двух важнейших «биографических доминант» – хотя и разномасштабных в их, так сказать, абсолютном измерении, но практически равнозначных по сыгранной ими роли в формировании личности незаурядного мыслителя. Хронологически же первая доминанта была обусловлена интеллектуальным восхищением юноши педагогическим даром и философской убедительностью «…великого Ланьо – по правде говоря, единственного человека, которого я признавал божеством»[15], – как через много лет после окончания Эколь Нормаль написал философ, ставший к тому времени маститым ученым. Не удивительно, что благодарный ученик посвятил своему учителю книгу «Воспоминания о Жюле Ланьо» («Souvenirs concernant Jules Lagneau», 1925).
À propos: на основании приведенного факта воздания должного и максимально достижимого памяти своего учителя представляется возможным сделать некий обобщающий вывод: о скромном и, как видно, действительно незаурядном, хотя и крайне редко публиковавшемся преподавателе и знатоке философии мы бы не знали ничего, не появись у него такой воспитанник, как Э. Шартье. Но ведь и наши знания, например, о Сократе вряд ли были бы столь богатыми, если бы о нем не писали его ученики. Исходя из сказанного остается лишь пожалеть о том, что многие замечательные учителя, которым не посчастливилось иметь незаурядных учеников, способных подобно Платону, Ксенофонту, Алену зафиксировать на бумаге свои воспоминания о них, так и остались не известными истории и нам.
Попутно замечу, что от своего кумира будущий философ получил «в наследство» две научные темы, которые заняли исключительное по значимости место в кругу его философских размышлений – темы восприятия и страстей. Кроме того, он взял себе за правило никогда не догматизировать ни один из тех принципов, которым с большей или меньшей верностью и последовательностью следовал, тем самым выказывая себя достойным учеником Жюля Ланьо, любившего говорить о существовании лишь одной абсолютной истины, состоящей в том, что абсолютной истины нет вообще.
Под влиянием его лекций, а также непосредственного общения с ним в 1888 г. Э. Шартье поступил – уже для получения философского образования – в знаменитую парижскую Эколь Нормаль, десятилетиями с достоинством выполнявшую роль аlmа mater не одного поколения французской интеллигенции. Здесь, среди прочих, он слушал лекции известного литературного критика Ф. Брюнетьера (1849–1906), члена Французской академии, приверженца католицизма и монархиста, знатока и поклонника классицизма, последовательного противника натурализма в литературе и импрессионизма. Его художественные взгляды, вероятнее всего, в какой-то степени сказались на эстетических воззрениях еще совсем молодого человека, однако в решении религиозных и политических вопросов будущий дрейфусар, атеист, демократ и поборник прав человека занимал принципиально иные позиции.
Уже в те времена еще совсем молодой Этьен больше всего желал «…одного – оставаться свободным и уметь точно мыслить»[16]. Именно это простое и одновременно необыкновенно сложное для воплощения в реальность желание на всю жизнь предопределило как сферу реализации им своих способностей и духовных потребностей, так и конкретные формы этой реализации. Он посвятил себя профессионально осуществляемому, последовательному, продуманному и углубленному поиску сущностных смыслов, изучению и анализу первоистоков специфически европейской любви к мудрости, первопричин социальных и антропологических проблем. При этом особый интерес исследователя вызывал человек, с его страстями, желаниями и мыслями, победами и поражениями, откровениями и заблуждениями, верными решениями и ошибками (о последних будет сказано особо). И постепенно начинающий философ вырабатывал собственный подход к осмыслению вечных или, как минимум, имеющих многотысячелетнюю историю вопросов.
После защиты диссертации Э. Шартье начал работать (с 1892 г.) преподавателем философии, сохранив верность этой профессии на протяжении всей своей трудовой деятельности. Показательно, что всю жизнь он служил отнюдь не в крупных и знаменитых университетах, а в учебных заведениях среднего звена и, так сказать, средней руки: сперва – в достаточно скромных провинциальных коллежах Понтиви, Лориана, Руана и лишь позже – Парижа (в том числе и в родном для себя коллеже Мишле). Наверное, не случайно Ален говорил про себя: «Я родился рядовым»[199].
À propos: очевидно, что такую самооценку не следует воспринимать чересчур буквально: ведь именно из подобных «рядовых» (парадоксальным образом их, в отличие от множества «маршалов» и «генералов», всегда и везде крайне мало) никогда не может получиться готовых на все за чины и награды идеологов-пропагандистов, которые с радостью состоят на службе у любых разновидностей власть имущих (сказанное относится к самым разным странам, временам, обществам, сферам обнаружения и приложения человеком своих способностей и т. п.).
Учитывая уже сказанное, представляется вполне логичным, что одной из важнейших целей многогранной деятельности Э. Шартье стало воспитание «рядовых» гражданского общества, которые были бы способны, опираясь на гуманистические идеалы, осуществлять контроль за теми, в чьих руках сосредоточивается (слишком часто неоправданно или даже незаконно) огромный властный потенциал. Результативность его педагогической деятельности подтверждается не только именами некоторых из его многочисленных учеников, обретших впоследствии широкую известность, и зачастую не только во Франции, – писателей А. Моруа, Ж. Прево, Ж. Грака, литературоведа А. Массиса, киносценаристов П. Боста и М. Тоэска, журналиста С. де Саси, и др., но и пронесенным ими через всю жизнь восторженно-благодарным отношением к своему учителю
À propos: один из них писал: «Лично я понял Платона, Аристотеля, Канта, Декарта, Гегеля, Огюста Конта только благодря Алену. Осмелюсь сказать больше: благодаря Алену я понял жизнь и людей»[17].
и, конечно, к творческими успехами, во многом, по их же словам, достигнутыми ими благодаря урокам мэтра и общению с ним. Здесь же нужно было бы отметить и то воспитательное воздействие, которое, без сомнения, оказывали и оказывают его столь разнообразные сочинения на многочисленных их читателей. Однако детали и подробности этого процесса в его конкретных проявлениях, к сожалению, остаются для нас «за кадром».
Знаменитое дело (1894–1906) капитана А. Дрейфуса, разделившее на рубеже веков всю Францию на два лагеря, затянуло в политику и Шартье, человека высокой гражданственности, но, по существу, аполитичного, хотя и проявлявшего неподдельный интерес и к этой важнейшей стороне общественной жизни – правда, практически исключительно научный, т. е. преломленный сквозь призму философии, социологии, политологии и даже не существовавшей еще в то время культурологии. В своих размышлениях на связанные с политикой темы – они составляют содержание таких книг, как «Рассуждения о власти. Основы одной радикальной доктрины» (Propos sur les pouvoirs. Éléments d’une doctrine radicale, 1916–1925), «Гражданин против властей» («Le citoyen contre les pouvoirs», 1926),
«Политические рассуждения» («Propos de polilique», 1934) – мыслитель проявлял себя как лояльный (недаром, как мы помним, он выбрал в качестве псевдонима имя Критон), но, по его же словам, достаточно радикально настроенный гражданин – «гражданин вопреки властям»[18], как заметил А. Моруа. Сам Ален, будучи уже немолодым человеком (1922) и автором целого ряда книг, достаточно очевидную внутреннюю противоречивость собственной гражданской позиции выразил так: «Вот и остаюсь я студентом-отличником с неблагонадежным образом мыслей»[200].
À propos: в подобной двусмысленности можно увидеть своеобразное проявление верности традиционным европейским ценностям, основанным на выдающихся достижениях культуры Нового времени, на важнейших принципах демократии и демократического устройства государства, на представлениях о значении цивилизованности как в общественных, так и в межличностных отношениях, о соблюдении законов, об уважении достоинства человека и социальных прав гражданина и т. п. Напомню, что ко времени рождения и начала духовного становления будущего философа подобного рода принципы и нормы, сформировавшиеся еще в эпоху Просвещения, в значительной мере сохраняли и свою чисто человеческую привлекательность и общественную значимость, чего уже в полной мере нельзя сказать об эпохе постмодернизма (застать которую, к счастью для самого Алена, философу не довелось) и, тем более, о нашем времени – времени борьбы между компромиссами и конфронтациями, гласностью и цинизмом, техническим блеском и духовной нищетой.
2Несмотря ни на имевшееся у Э. Шартье официальное освобождение от военной службы, ни на разделяемые им пацифистские убеждения – он, например, писал в своих эссе: «никакой удар не верен»(21), «если вы стремитесь убедить, то отбросьте шпагу»[19], и т. п., – в 1914 г. немолодой уже преподаватель философии пошел добровольцем на фронт, считая, что для успешной борьбы против войны нужно самому испытать ее тяготы, а также в немалой степени, вероятнее всего, следуя тем самым примеру своего учителя, Жюля Ланьо, добровольцем принявшего участие во франко-прусской войне 1870–1871 гг. При этом Шартье отказался от полагавшегося ему по закону звания офицера и за время службы в действующих войсках (демобилизован он был в 1917 г., так и не сумев восстановиться после серьезного ранения в ногу, полученного годом ранее и сделавшего его хромым на всю оставшуюся жизнь) прошел непростой путь от рядового артиллериста до капрала.
À propos: важный комментарий к сказанному в качестве дополнения к характеристике философа: на фронте «…он научился ненавидеть войну не столько из-за ее опасности (он был отважен и по природе, и по убеждению), сколько из-за рабства, в которое она ввергает граждан, считавших себя свободными»[20]. К сожалению, именно этой «благородной ненависти» так не хватало и не хватает множеству людей, живших и живущих на Земле.
Показательно, что, даже находясь в действующей армии, ученый не прекращал творческой деятельности и во время кратких передышек продолжал писать. В результате вскоре после его демобилизации свет увидели такие работы, как «Восемьдесят одна глава о разуме и страстях» («Quatre-vingt-un chapitres sur l’esprit et les passions», 1917; позже она будет включена в состав книги под названием «Основания философии» – «Éléments de philosophie», 1941), «Торговцы сном» («Marchands de sommeil», 1919, которая, также значительно позже, превратится во введение к книге «Стражи духа» – «Vigiles de l’espril», 1942), а также «Система изящных искусств» («Système des Bеаuх-Arts», 1920). В дальнейшем, на основе непосредственных впечатлений, накопившихся у незаурядного наблюдателя за годы армейской службы, им были написаны книги «Марс, или Приговор войне» («Mars ou la guerre jugée», 1921) и «Военные воспоминания» («Souvenirs de guerre», 1937).
Из великого множества тем, затронутых исследователем в многочисленных монографиях, статьях и propos, заметное предпочтение им было отдано темам, имеющим непосредственное отношение к искусству,
À propos: «Ни один мыслитель, за исключением Платона, не был связан так прочно, как Ален, с кругом человеческих дел и искусств», – писал А. Моруа, добавляя к сказанному: «Он любил разъяснять мысль на примере тела»[21] – обстоятельство, которое лишь подчеркивает его особые связи (о них еще будет сказано позже) именно с античной культурой, с античным искусством.
и в частности к литературе, тем более что со временем он был признан незаурядным – в том числе и благодаря своим propos – и авторитетным литературным критиком и писателем: так, помимо вполне «естественных» для создателя нового литературного жанра «Рассуждений о литературе» («Propos de littérature»), философ опубликовал книги, посвященные любимым писателям – Стендалю («Stendhal», 1935), О. Бальзаку («Читая Бальзака» – «En lisant Balzac», 1935; «Вместе с Бальзаком» – «Avec Balzac», 1937), Ч. Диккенсу («Читая Диккенса» – «En lisant Dickens», 1945).
À propos: в связи с этим интересно отметить, что при своей безусловной и достаточно широкой начитанности он постоянно возвращался к особо любимым им литераторам: «…в чтении своем Ален всю жизнь ограничивал себя немногими произведениями, которые без конца перечитывал и знал досконально. Его спутниками были несколько великих умов; остальные для него не существовали»[22], а «его библиотека состояла главным образом из сочинений нескольких выдающихся авторов: Гомера, Горация, Тацита, Сен-Симона, Реца, Руссо, Наполеона (его беседы с Лас Казом), Стендаля, Бальзака, Жорж Санд, Виктора Гюго и, разумеется, философов: Платона, Аристотеля, Декарта, Спинозы, Канта, Гегеля, Огюста Конта. На протяжении своей жизни он прибавил к ним Ромена Роллана, Валери, Клоделя, Пруста, а также Киплинга. Выбор предельно строгий, но уж эти великие произведения он знал превосходно»[23].
Конечно, по сути Моруа прав, но при этом, как мне кажется, излишне категоричен, поскольку его учитель неоднократно демонстрировал знание сочинений не только своих любимых авторов, но и тех, которые и эстетически и мировоззренчески были довольно далеки от него. Более того, он признавался, например, в том, что читал произведения даже столь заурядных сочинителей, как Октав Фёйе, Поль де Кок, Жорж Онэ, Жюль Леметр (см. настоящее издание, эссе «Читатель»).
Логичным следствием тематического разнообразия в творчестве, как и страха перед любыми ограничениями, налагаемыми на процесс мышления, явилось отрицательное отношение философа к умозрительным системам (по его мнению, «все системы – гробницы ума»[350]) как таковым, в любом случае в той или иной степени сковывающим свободу мысли их же изобретателей (чему, кстати, в истории философии действительно можно найти множество примеров). Именно поэтому задачу, стоявшую перед ним как философом, Ален видел не в разработке очередной метафизической конструкции либо системы категорий (чем, надо признать, увлекались многие его современники), но, как уже отмечалось, в поиске истоков разнообразных проблем и процессов, а шире – истоков самóй философской мысли, и в посвященных этим поискам размышлениях в духе Сократа. То же самое можно сказать и о его социологических воззрениях, в рамках которых «…он не пытается строить глобальные социально-политические системы, и его мысль развивается главным образом в “домашней” сфере, в области повседневной житейской морали, и, даже рассуждая об общесоциальных проблемах, он берет за исходную точку простые и прямые отношения между людьми – между членами семьи, между учителем и учеником»[24]. Иными словами, можно сказать, что центральной темой аленовского творчества стала культура повседневности. А в своих историко-философских трудах главное внимание исследователь уделял осмыслению идей интеллектуально близких ему Платона, Декарта, Спинозы, Канта, Конта и некоторых других выдающихся представителей европейской философии, о чем свидетельствуют такие книги, как «Рассуждения о философах» («Propos sur les philosophes»), «Идеи» («Idées»), включенный в настоящее издание «Краткий курс для слепых» и др. В то же время следует отметить, что в книге «Беседы на берегу моря» («Entretiens au bord de la mer», 1931) Ален все-таки решился предложить своим читателям систематизированное изложение собственных философских взглядов, анализ которых, безусловно, требует специального внимания и проведения особого исследования.
Мыслитель, уверенный во всесилии и преимущественно цивилизаторской (т. е. соответствующей «французскому», идущему от маркиза де Мирабо, истолкованию термина «la civilisation» как процесса, облагораживающего и общество и человека) функции разума; интеллектуал, убежденный и верный почитатель эпохи Просвещения и, можно сказать, любимый ее «внук»; рационалист, сторонник Декарта, с огромным недоверием относящийся к разговорам о роли инстинкта и бессознательного в деятельности homo sapiens (а посему – последовательный противник фрейдизма), Ален придерживался радикальных взглядов («…такие радикалы, как я»[346], – говаривал он) при обсуждении самых разных вопросов, в равной степени касающихся практически всех сторон общественной жизни, религии, церкви, нравственности, воспитания, искусства, различных наук, философии и др. Формированию его мировоззрения, безусловно, способствовало то влияние, которое оказали на него выдающиеся философы Античности, и в первую очередь Сократ (подобно которому он, например, был убежден в неразрывной связи знания и нравственности), а также уже упоминавшиеся западноевропейские мыслители первого ряда и, конечно, стоявший особняком несравненный Жюль Ланьо.
À propos: при этом – напомню – гражданский, гражданственный радикализм философа носил, как это ни прозвучит парадоксально, не просто умеренный, но можно даже сказать смиренный характер и в известном смысле мог бы быть выражен оксюморонной формулой «сопротивляться, оставаясь послушным», что, на мой взгляд, в первую очередь было обусловлено его радикальным пацифизмом и глубинной аполитичностью. Однако, будучи вполне уместной в годы, предшествовавшие Первой мировой войне, в условиях возрастания угрозы со стороны входившего в силу в Европе 20–30-х годов фашизма идея противления злу без применения силы выглядела, безусловно, как явно устаревшее и в актуальной ситуации «не стреляющее» оружие.
Хотя Ален, казалось бы, занимал достаточно активную позицию в противостоянии распространению коричневой чумы – например, вместе с физиком Полем Ланжевеном (Paul Langevin) и антропологом Полем Риве (Paul Rivet) в 30-е годы он учредил Комитет проявляющих бдительность интеллектуалов-антифашистов (le Comité de vigilance des intellectuels antifascistes), – это не помешало ему уже во время войны вступить в открыто коллаборационистскую Лигу французской мысли (la Ligue de la Pensée Française) и в те же годы публиковаться в «решительно очистившемся от евреев и коммунистов» «Новом французском журнале» (La Nouvelle Revue française), что стало достаточным основанием для включения его имени в довольно длинный список французских интеллектуалов, в той или иной форме сотрудничавших с фашистским режимом.
À propos: как ни удивительно, но приведенные факты практически не сказались на общественном отношении к Алену после освобождения Франции от нацизма: практически во всех биографических справках он характеризуется исключительно как принципиальный пацифист и антифашист. В связи с этим, а также справедливости ради можно было бы задать провокационный вопрос: нельзя ли политику, проводимую в 30-е годы по отношению к гитлеровской Германии ведущими державами Запада и СССР (чьи действия фактически представляли собой откровенное сотрудничество с последней), в большей или меньшей степени рассматривать в качестве «межгосударственного коллаборационизма», что в конечном итоге способствовало превращению Третьего рейха в смертельную угрозу всему цивилизованному миру? Чисто же «французский коллаборационизм» (если таковой существовал) имел в основном те же истоки, что и коллаборационизм, так сказать, общезападный.
Кроме того, следует принимать во внимание, что, во-первых, ситуацию в оккупированной Франции нельзя полностью отождествлять с ситуацией, сложившейся, например, на оккупированных территориях Советского Союза, Польши или Чехословакии, что прежде всего было обусловлено отношением фашистов к славянам; во-вторых, коллаборационизм Алена можно интерпретировать как превращенную или даже извращенную форму проповедовавшегося им пацифизма, в-третьих, публикуясь при оккупационном режиме, Ален все-таки не писал панегириков фашистским вождям, а, оставаясь, по большому счету, аполитичным (что, правда, в описываемое время обретало вид достаточно определенной политической позиции), продолжал заниматься чистой наукой – делом всей своей жизни (этим, возможно, и объясняется отсутствие критических выступлений и замечаний в его адрес после окончания войны); наконец, прикованный к инвалидной коляске старик вряд ли вообще мог рассматриваться в качестве сколько-нибудь заметной, а главное – деятельной фигуры среди многочисленных французских коллаборационистов, в числе которых, не говоря уже о профашистски настроенных антисемитах типа М. де Вламинка или Л.-Ф. Селина, оказались столь видные деятели французской культуры, как А. Камю, Ж.-П. Сартр, М. Карне, П. Клодель, М. Шевалье, Ж. Кокто, Р. Деснос, П. Форт, С. Лифарь, Ж. Ромен и др., которые в той или иной форме сотрудничали с фашистским режимом, т. е. публиковали свои произведения, ставили их или выступали с ними на сцене, в том числе, естественно, и перед оккупантами. Тем не менее приведенные факты, конечно же, не украшают биографии Э. Шартье. И хотя в рамках «типичного» современного ее изложения они чаще всего деликатно опускаются, из песни слов не выкинешь…
С другой стороны, стоит задуматься и о том, что было бы явной несправедливостью упрекать, например, М. Булгакова, Ю. Трифонова, М. Бахтина, Ю. Лотмана, В. Некрасова, А. Галича, А. Лосева, А. Шнитке, отца и сына Тарковских, Д. Самойлова, М. Ростроповича, а также многих других художников и немногих мыслителей и ученых, которые прожили долгие годы в СССР, в том, что они, по возможности публикуя и исполняя здесь свои произведения, тем самым в какой-то мере сотрудничали с преступным советским государством, в том числе и в жуткие сталинские времена: ведь другого выхода, иных возможностей для обнародования своего творчества у них просто не было. В то же время апологетами соответствующего человеконенавистнического режима, в отличие от бесконечного множества в полном смысле советских художников и «мыслителей», они все-таки не стали.
Выйдя в 1933 г. на пенсию – нужно отметить, что последний урок мэтра прошел в торжественной обстановке и в присутствии почетных гостей, – постепенно лишавшийся возможности передвигаться как из-за жестокого ревматизма, который приносил ему тяжкие физические страдания, так и из-за поразившего его в 1937 г. инсульта, окончательно приковавшего его к инвалидному креслу, Ален последние годы своей жизни провел в уединении – в своем доме в местечке Везинэ.
À propos: здесь уместно заметить, что еще задолго до своей болезни Ален довольно часто касался проблемы одиночества, не выказывая при этом по отношению к последней никакой симпатии, которая, казалось бы, естественным образом пристала философу. Так, в 1907 г. он писал, что, «оставаясь в одиночестве, нельзя быть самим собой». Наоборот, «…чем меньше человек замыкается в своих рамках, тем больше становится самим собой и тем острее чувствует себя живым»[23]. Таким образом, в разрешении этой проблемы автор propos принципиально отличался от множества выдающихся деятелей культуры (в первую очередь писателей и философов, именно в одиночестве видевших как спасение от угнетавшего их воздействия социальной среды, так и оптимальную для них жизненную ситуацию, благоприятствующую их творчеству). Через пару лет свою позицию по этому вопросу, несколько смягчив ее, он разъяснял таким образом: «Как бы странно это ни казалось, но чем больше человек проводит времени в одиночестве, тем меньше думает о себе, особенно если у него яркое воображение, способное объять весь мир»[67]. Что ж, это замечание можно рассматривать как некий компромисс, позволяющий, сохраняя неприязненное отношение к одиночеству, признать некоторые достоинства последнего.
Все сказанное позволяет говорить о французском философе как о ярко выраженном экстраверте, свою основную, так сказать профессионально-жизненную, задачу видевшем в оказании посильной – духовной, эмоциональной, интеллектуальной – помощи окружающим путем предоставления в их распоряжение того, что в постоянных наблюдениях за жизнью удавалось обнаружить, обдумать, прочувствовать и описать ему самому. К счастью, в старости Алену, как видно, так и не довелось испытать одиночество. Во-первых, его регулярно навещали друзья-сверстники и бывшие ученики, со временем также превратившиеся в его друзей. Во-вторых, начиная с 1900 г. и вплоть до своей смерти (1941 г.) рядом с ним находилась Мари-Моник Морр-Ламбелен (Marie-Monique Morre-Lambelin), бывшая его доверенным лицом и секретарем, постоянно оказывавшим ему огромную помощь в повседневной работе и в подготовке к публикации его трудов.