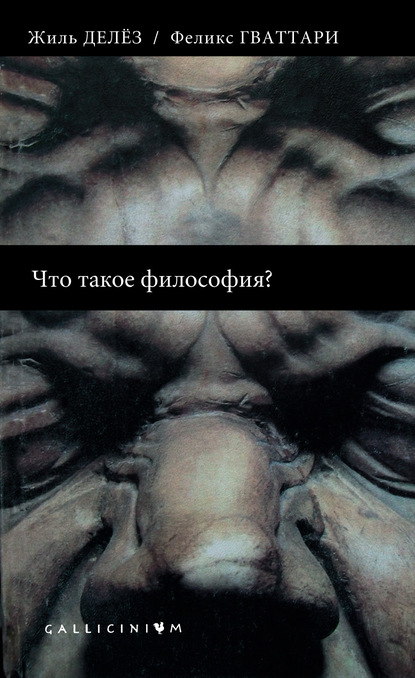Полная версия
Прекрасное и истина
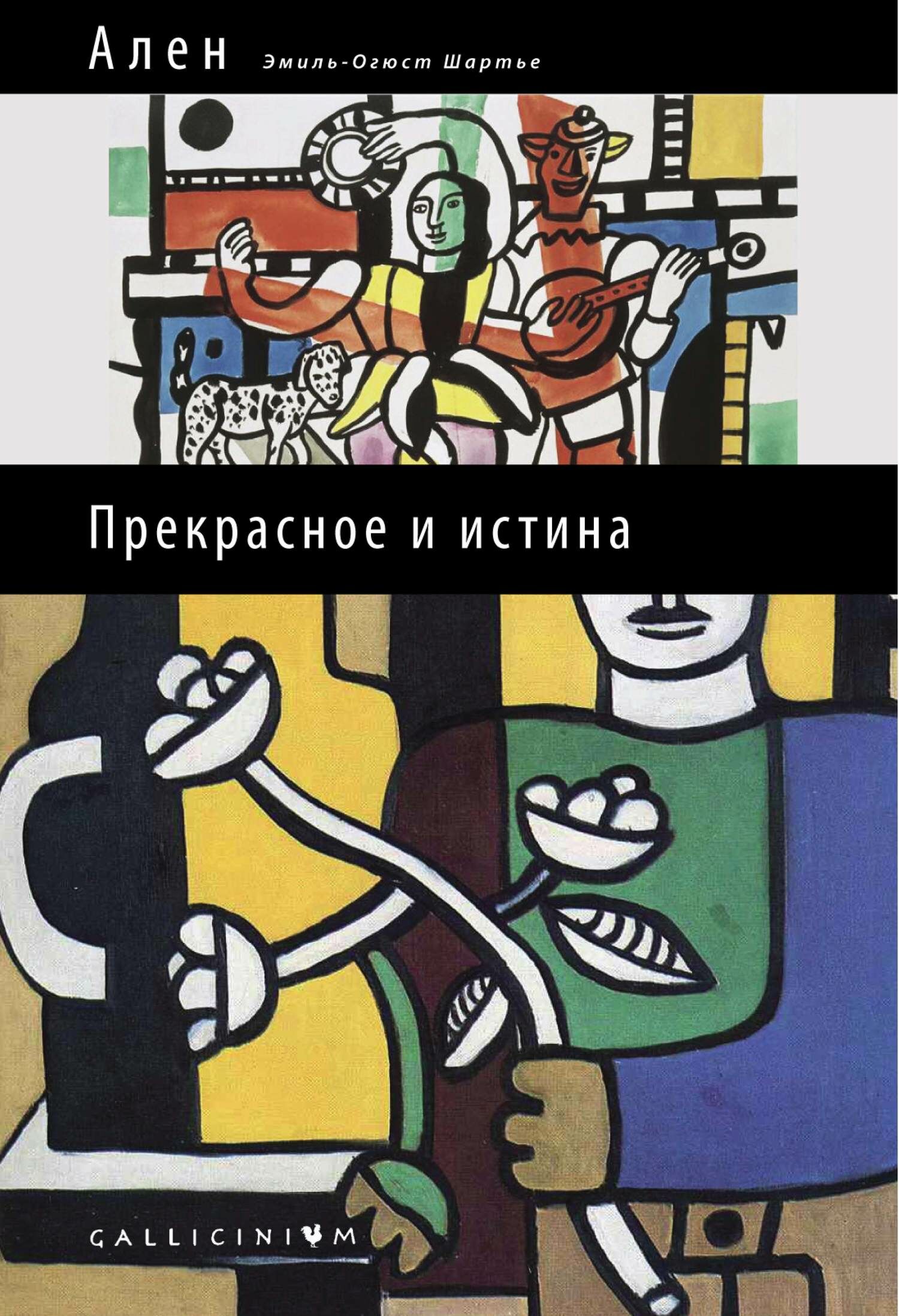
Ален (Эмиль Шартье)
Прекрасное и истина
© К. З. Акопян, составление, перевод, статьи и комментарии, 2016
© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2016
Жизнь и мнения Эмиля-Огюста Шартье, философа
«Человеческий парадокс состоит в том, что уже все сказано – и ничего не понято».
«В старинных книгах важнее для нас оказывается не то, что там сказано, а те акценты, которые мы сами расставляем»[1].
АленЛичность в культуре и превратности ее оценки
В каждой национальной культуре мы можем легко обнаружить некие, условно говоря, интравертные формы, процессы, фигуры. И хотя обращение к ним и знакомство с ними в любом случае открывает новые горизонты, предоставляет возможность проникнуть в доселе неведомый мир и попытаться разгадать его тайны, чаще всего они, эти самые формы, процессы, фигуры, а также многое, что глубинно с ними связано, просто не может быть понято, прочувствовано, адекватно оценено представителями иных культур – в силу своей содержательной, смысловой, интеллектуальной труднодоступности (или даже практической недоступности) для последних.
Сказанное может быть отнесено и к какой-либо национальной культуре в целом, и к культуре хронологически конкретной, т. е. ограниченной более или менее четкими временными рамками, и к культуре «узкоспециализированной», чьи созидание и адекватное восприятие основываются на совершенном владении ее специфическим языком, что предполагает обладание соответствующими профессиональными навыками и знаниями (это, естественно, в значительной степени сужает круг достойных ее потребителей), и к творчеству выдающегося художника или мыслителя, и к ним самим как историческим персонажам, и даже к отдельному артефакту. Во всех перечисленных случаях совсем не обязательно имеются в виду какие-то экзотические и/или эзотерические формы и способы выражения национального, исторического, индивидуального и любого иного духа, но «всего лишь» вполне, на первый взгляд, ординарные явления культуры (если, правда, последние могут быть ординарными в принципе).
В поисках объяснения сказанного нетрудно предположить (не абсолютизируя, тем не менее, данную мысль), что чем более конкретны и специфичны (хотя бы в каком-то смысле) те разнообразные средства, которые способствовали возникновению некоего артефакта, относящегося к той или иной национальной, исторической, профессиональной либо любой иной «оригинальной» культуре, тем менее легким оказывается проникновение в его тайны как для любознательного, но инокультурального
À propos: употребление термина «культуральный» («инокультуральный») вместо «культурный» обусловлено отнюдь не желанием автора пооригинальничать (как, вероятно, может показаться на первый взгляд), но, наоборот, его стремлением к соблюдению большей теоретической строгости. Дело в том, что в русском языке прилагательное «культурный» давно и прочно обрело оценочный характер. И хотя оно все еще сохраняет свое словарное значение в качестве указания на близость атрибутируемого объекта «к просветительной, интеллектуальной деятельности», возможное толкование его как «находящийся на высоком уровне культуры, соответствующий ему»[2] (в связи с этим было бы логично задать вопрос: а находящийся на невысоком уровне культуры – но ведь все-таки культуры! – может быть назван культурным или нет?) придает этому термину нежелательную, а порой и не допустимую, на мой взгляд, в теоретических трудах двусмысленность. Особенно отчетливо оценочный аспект данного слова становится ощутим при употреблении термина «некультурный» в смысле «необразованный», «невоспитанный», «с дурными манерами» и т. п., иначе говоря, в отношении объектов, процессов, ситуаций, рассматриваемых, в соответствии с актуальной и наиболее приемлемой для данного общества системой ценностей, в качестве «плохих», «некачественных».
Кроме того, образование прилагательных от иноязычных вокабул при помощи разноязычных суффиксов «аль + н» (точнее, образование их от иноязычных прилагательных же) в контексте русского словообразования выглядит гораздо более логичным, чем с использованием одного только «н», как это имеет место в слове «культурный». Для подтверждения высказанного предположения можно привести множество примеров: регион – региональный, стадий – стадиальный, радиус – радиальный, спектр – спектральный и т. п. Таким образом, термин «культуральный», на мой взгляд, имеет гораздо больше оснований быть воспринятым в строгом соответствии с канонами русского языка образованным, полностью нейтральным, т. е. не несущим никакой оценочной нагрузки, и указывающим на принадлежность определяемого им объекта к культуре во всем ее объеме (а не только «к просветительной, интеллектуальной деятельности», что является очевидным и необоснованно жестким ограничением, причины включения которого в цитируемое выше определение мне не совсем понятны или даже совсем не понятны).
«чужеземца», так и для не менее любознательного «иновременника». Тем не менее, например, достаточно искушенному и эрудированному любителю музыки, на мой взгляд, вполне по силам обнаружить достоинства (если таковые действительно имеются) в неизвестном ему и относящемся к незнакомому для него художественному направлению сочинении,
À propos: несколько опережая события, замечу, что «герой» настоящей работы, Ален, в свое время рассуждавший в том числе и на эту тему – его позиция была вкратце изложена во включенном в настоящее издание эссе «Школа суждения», – безусловно, не согласился бы с выдвинутым мной тезисом.
а человеку, сведущему в архитектуре, – постичь если и не глубинную суть, то хотя бы общий эстетический смысл непривычного для его глаза сооружения и при этом даже испытать восхищение силой (если таковая действительно обнаружится) инокультурального гения – его создателя, и т. д. и т. п.
Однако в тех случаях, когда «строительным материалом» явления культуры оказываются слова, да еще «чужие» и тем более измененные – переведенные, а значит, в какой-то степени обязательно подмененные, – то тут-то и выясняется, что суть, смысл, отдельные (и нередко очень важные) нюансы состоящего из них текста все-таки ускользают от, образно говоря, иноязычных (и, следовательно, инокультуральных) уха и мысли и что сам исходный текст зачастую сопротивляется, порою активно, недостаточно деликатному обращению с ним и истолкованию, осуществленному, вполне возможно, с помощью неверно выбранного интепретатором ключа (а это вводит в заблуждение также и тех, кто ему «поверил»), или же, в худшем случае, вообще не поддается адекватной трактовке. Проецируя сказанное на русскую культуру, очень трудно допустить, чтобы иностранцу, даже не только всего лишь пользующемуся переводом, но и очень хорошо владеющему русским языком, было бы легко в полной мере воспринять все своеобразие, смысловую и художественную насыщенность какого-нибудь скромного стиха А. Тарковского или сочной прозы А. Платонова, оценить по достоинству игру словами (или игру в слова) В. Хлебникова либо Д. Хармса, признать за философские сочинения труды Н. Федорова или «Уединенное» и «Опавшие листья» В. Розанова… Подлинная культура всегда – к сожалению или к счастью, кто знает? – эзотерична (именно это обстоятельство коренным образом отличает ее от культуры потребительской, которая безусловно и принципиально экзотерична). Но в то же время она универсальна, что, собственно говоря, и позволяет даже упоминавшимся выше «иноземцам» и «иновременникам» с удовольствием и пользой для себя совершать увлекательные путешествия по ее садам, лесам, дебрям.
Кроме того, между разными культурами, как и между разными людьми, довольно часто устанавливаются особые отношения: порой отстраненно холодные, реже – особо близкие. Так, богатейшая и своеобразнейшая, но по многим своим характеристикам достаточно от нас далекая (что совершенно естественно, если принять во внимание хотя бы пространства, разделяющие наши страны, а также особенности исторического развития последних) французская культура, пожалуй, несколько неожиданно и, «на мой вкус», излишне решительно вошла в жизнь послепетровской России, в кратчайшие сроки став в высшей степени востребованной в российском обществе и на протяжении десятилетий оказывая огромное влияние не только на переживавшие в то время сложный период трансформации и русское искусство (которому постепенно все в большей степени и со все возраставшей уверенностью удавалось приобщаться к художественным и, шире, культуральным стилям, распространенным и, тем более, господствовавшим в Западной Европе), и государственное управление, и гуманитарные и естественные науки, но и на повседневный быт россиян – прежде всего, естественно, принадлежавших к высшим социальным слоям, усилиями которых инокультуральные контакты в первую очередь устанавливались, развивались и поддерживались. С другой стороны, результатом того же влияния стала совершенно нелепая ситуация, когда приехавший в Россию «французик из Бордо» «ни звука русского, ни русского лица / Не встретил; будто бы в отечестве, с друзьями; / Своя провинция»[3]. И она, эта ситуация, объяснялась, кроме всего прочего, тем, что несколько поколений имперского grand monde[4] подобно пушкинской Татьяне выражалися «с трудом на языке своем родном», предпочитая ему французский, а многие представители высшего света ‒ современники Отечественной войны 1812 г., по свидетельству Л. Толстого, принялись учить русский (что, кстати, получалось далеко не всегда) лишь из патриотических соображений, демонстрируя тем самым свое неприятие языка страны-агрессора. Отсюда можно сделать вывод, что упомянутому выше культуральному результату, если рассматривать его с учетом особенностей развития русской культуры XVIIIXIX вв. в целом, вряд ли можно было бы дать однозначную оценку.
К началу ХХ в. или даже раньше безудержная галломания пошла на убыль. Но при этом Россия сумела сохранить подлинную любовь к французской культуре: мы и сейчас много о ней знаем – и знаем хорошо, многое понимаем – и, можно с достаточной уверенностью утверждать, понимaeм неплохо, многое ценим – и оцениваем по достоинству. И все же…
À propos: в отличие, например, от А. Блока, пожалуй, излишне самоуверенно считавшего, что «Нам внятно все – и острый галльский смысл, / И сумрачный германский гений…»[5], я все-таки не собираюсь преувеличивать степень и глубину постижения в России иноязычной культуры. Отсюда это «и все же…».
Постепенно сужая объект своих рассуждений и переходя к вопросу о французской словесности, я осмелюсь напомнить, что за этим термином «лежит» практически необозримая территория, «густо заселенная» авторами самых разнообразных текстов, своими талантами заслужившими право на «постоянное проживание» на ней и, как собственным семейством, этими текстами окруженными, – выдающимися мэтрами письма (или буквы, что по-французски одно и то же), как их можно было бы назвать по аналогии с употребляемым в подобных случаях в русской культуре выражением «мастер слова». Обозревая эту территорию – хотелось бы подчеркнуть данное обстоятельство, – мы можем заметить, что, к примеру, французским писателям, широко известным (во всяком случае, до сравнительно недавнего времени) в России, À propos: мои оговорки такого рода крайне существенны, поскольку я сам, как минимум в силу своего возраста, отношусь к той культуре, которая в современной России все в большей степени становится всего лишь предметом воспоминаний и музейным экспонатом. Говорю об этом не без грусти, но в то же время с понимаем определенной закономерности всего происходящего.
далеко не всегда принадлежало (и, тем более, принадлежит сейчас) столь же почетное место в иерархии литературных «авторитетов», составленной самими французами, и наоборот.
À propos: в связи со сказанным достаточно указать на крайне нелестно характеризуемых Аленом[6], но зато любимых (во всяком случае, до сравнительно недавнего времени) в России Г. де Мопассана и Г. Флобера или же, с другой стороны, напомнить о том, как, например, в Предисловии к «Песням западных славян» (1831 либо 1832 г.) А. Пушкин, выделив творчество П. Мериме (безусловно, отнюдь не первого литератора Франции своей эпохи, при этом крайне нелюбимого Аленом), писал о «глубоком и жалком упадке нынешней французской литературы», хотя именно в эти годы создавали свои произведения Р. Шатобриан, А. де Виньи, Ш. Нодье, А. Ламартин, Стендаль (кстати, уже упоминавшийся Флобер не считал Стендаля великим писателем), Ш.О. Сент-Бёв, Жорж Санд, В. Гюго, О. де Бальзак (один из лучших романов которого, «Блеск и нищета куртизанок», четверть века спустя другой русский гений – Л. Толстой в высшей степени снисходительно назвал одной «из тех милых книг, которых развелось такая пропасть в последнее время», выразив в добавок свое истинное отношение к подобным «милым книгам» искренним удивлением по поводу того, что они «пользуются особенной популярностью почему-то между нашею молодежью»[7]) и др.
То же самое можно отнести и к философам, являвшимся еще и писателями (ведь французские философы «стремились философию сделать литературой и, с другой стороны, литературу – философией»[8]), и даже прославленными, но далеко не всегда получавшим признание в интеллектуальных кругах российского общества. И в качестве одного из ярких примеров, подтверждающих сказанное, можно указать на протагониста настоящей работы – Эмиля-Огюста Шартье.
Является ли описанная ситуация опровержением истины, что «нет пророка в своем отечестве»? Думаю, лишь в незначительной степени. Скорее, напрашивается вывод о том, что в конечном итоге и прежде всего сам народ – усилиями, естественно, своих наиболее проницательных умов и наиболее чутких сердец – способен по достоинству оценить собственных художественных (и не только!) гениев. Хотя и отнюдь не всегда. Но ведь в культуре вообще вряд ли могут быть оправданы поиски законов, правил и однозначных ответов на самые, казалось бы, простые вопросы, и к тому же не исключены ошибки при формулировании как первых, так и вторых. Кроме того, о вкусах, как видно, могут спорить не только отдельные индивиды, но и целые народы. Во всяком случае, в фактах несовпадения культуральных, культурологических оценок мы также имеем возможность увидеть своеобразное проявление эзотеричности любой культуры, в частности культуры национальной.
Действительно, кого из крупнейших представителей французской словесности – в самом широком толковании этого понятия – первой половины ХХ столетия вспомнили бы представители русской культуры, одновременно являющиеся почитателями культуры французской? Я уверен, что прежде всего были бы названы имена Пруста, Аполлинера, Франса, Роллана, Мартена дю Гара, Сартра, Камю, Мориака, может быть, Бергсона (все-таки лауреат Нобелевской премии по литературе!), Маритена, Марселя… Конечно, могли бы прозвучать и некоторые другие, но с достаточной уверенностью можно предположить, что в любом случае они лишь в малой степени совпали бы с теми, что первыми пришли на ум французскому интеллектуалу – Андре Моруа, авторитет которого в нашей стране (во всяком случае, до недавнего времени был) неоспоримо высок и который сказал: «В мире немало нас – тех, кто считает, что Ален был и остается одним из величайших людей нашего времени. Что касается меня, я охотно скажу “величайшим” и из современников его соглашусь поставить рядом с ним только Валери, Пруста и Клоделя»[9]. Вот так!
Взявшись писать работу об Алене, я ни в коей мере не собираюсь ставить под сомнение приведенное суждение автора «Писем незнакомке», не отрицая при этом его возможной субъективности и «культуральной предвзятости».
Биография философа, дополненная произвольными размышлениями Ad Marginem
1Итак, речь у нас пойдет об Эмиле-Огюсте Шартье (Émile Auguste Chartier)[10] который появился на свет 3 марта 1868 г. в семье ветеринара, жившего в нормандском городке Мортань-о-Перш.
Ален – это всего лишь очередной, но ставший постоянным псевдоним, взятый в 1903 г. преподавателем философии, к тому времени достаточно опытным в области журналистики, в память о своем знаменитом предке, прожившем недолгую, но яркую жизнь, – Алене Шартье (ок. 1392 – ок. 1430), выдающемся писателе и поэте эпохи Возрождения (кстати, оказавшем значительное влияние на современную ему французскую литературу), авторитетном, несмотря на свой молодой возраст, придворном в царствования Карла VI и Карла VII, дипломате и королевском посланнике. Этим псевдонимом пoдпиcывались газетные миниатюры, первоначально появлявшиеся еженедельно на страницах газет «La Dépêche de Lorient», «La Dépêche de Rouen et de Normandie», «La Démocratie rouennaise» под рубриками «Propos de Dimanche» («Воскресные рассуждения») и «Propos de Lundi» («Понедельничные рассуждения»), а затем превратившиеся в хроники, публиковавшиеся уже ежедневно. Краткие эссе, названные их сочинителем propos, À propos: французское существительное «le propos» заслуживает особого «культурологического внимания», проявлять которое в полной мере в данной работе было бы, однако, неуместно.
Тем не менее следует пояснить, что оно не только иноязычное для русского языка, но и, если можно так сказать, крайне иносемантичное или, шире и проще, инокультуральное по отношению к русскоязычному строю мысли и речи. Достаточно перечислить хотя бы основные его словарные значения – «речь, разговор; злословие, толки, пересуды; повод, мотив, цель, намерение; решение; предмет, тема»[11], чтобы с этим согласиться. Совершенно очевидно, что найти в русском языке одно-единственное слово, которое хотя бы в какой-то мере передавало семантику рассматриваемого французского, не представляется возможным. Этим и объясняется тот факт, что на русский его переводили и как «суждение», и как «слово», и как «речь», и как «рассуждение». Я предпочитаю последний вариант перевода, поскольку, на мой взгляд, именно он обнаруживает, напрямую или опосредованно, семантическую близость к большей части приведенных выше значений. Кроме того, как мне кажется, в поисках эквивалента любой вокабулы не следует ограничиваться соответствующим ей «официальным» словарным списком. Дело в том, что сами аленовские тексты, без всякого сомнения, носят характер рассуждений по случаю или, можно сказать, кстати (что по-французски обозначается устойчивым выражением с использованием того же слова – «à propos»), но отнюдь не без особого для них повода. В то же время в рамках разговора об Алене я позволяю себе – по мере надобности и в целях сокращения количества комментариев, в которых может возникнуть необходимость, – вводить французское слово «propos» непосредственно в русский текст.
стали вскоре необыкновенно популярными и даже знаменитыми: «Читатели были в восхищении. Многие читали “Суждения” Алена раньше, чем новости»[12].
По сути дела, их автор стал зачинателем нового, но отнюдь не авангардистского литературного жанра (что – отдадим этому должное! – в ХХ столетии, да еще «на фоне» модернистского бума, сделать было непросто). Действительно, многочисленные его опусы, к этому жанру относящиеся, во многом отличаются и от столь ценимых французской культурой максим и остроумных афоризмов, изрекаемых мудрецами, и от написанных «на тему» эссе – типа тех, что составили «Опыты» Монтеня, и от стихотворений в прозе, необыкновенно популярных среди французских писателей и поэтов разных эпох; однако в чем-то они все же походят и на те, и на другие, и на третьи. Самое же главное – propos стали не только визитной карточкой авторского стиля, но и неочевидным и ненавязчивым способом выражения личности, растянувшегося на десятилетия, самого автора (именно по этой причине народившийся жанр был, как видно, обречен умереть вместе с его создателем). В дальнейшем и сам Э. Шартье и (после его кончины) почитатели его писательского таланта неоднократно объединяли избранные propos в самостоятельные сборники (выходившие в свет, например, под названиями «Сто одно рассуждение Алена», «Рассуждения о…» и т. п.) и даже многотомники, скомпонованные по хронологическому либо тематическому принципу.
À propos: своими эссе Ален обращался ко всем, вне зависимости от образования, возраста, профессии и т. п., а точнее просто к своему читателю, которого надеялся найти и в чем, надо признать, преуспел. При этом эссеист никогда не пытался с ним заигрывать. Это подтверждается хотя бы тем, что он сплошь и рядом включал в свои тексты и с трудом поддающиеся интерпретации образы, и сложные метафоры («Метафора… слаба, если она всех устраивает» [265], – заметил как-то сам писатель; поэтому понимание метафор Алена, попытки их толкования – это, на мой взгляд, важный путь к пониманию самой сути его творчества), и не слишком очевидные, требующие для понимания солидной гуманитарной подготовки аллюзии, и т. п.
Тем самым автор propos серьезно рисковал: ведь, с одной стороны, кажущаяся простота и «приниженность» избираемых им для своих эссе тем, посвященных культуре повседневности (что даже позволяет их автора в какой-то степени считать предшественником основоположников школы «Анналов», с их идеей истории повседневности), а также в основном используемых в них речевых оборотов были способны обмануть неискушенного читателя, не готового к углубленному анализу попавшего в его руки многослойного текста. И это могло привести к неадекватному прочтению последнего. С другой же стороны, «с помощью» той же обманчивой простоты было нетрудно отпугнуть читателей более требовательных, привыкших с недоверием относиться к «несерьезным» литературным жанрам и способных усомниться в возможности обнаружения в сочинениях писателя, пусть даже и выглядящих достаточно «солидно», чего-то заслуживающее их избирательного интереса, тем более что эссеистская манера чаще всего была присуща и его монографическим работам. Но «риск» оправдал себя: книги Алена читают до сих пор (конечно, не все – и слава богу!), а многие читают их и внимательно и с удовольствием.
В начале своей журналистской деятельности и на протяжении нескольких лет Э. Шартье подписывался другими псевдонимами – Quart d’œil, Филибер (Philibert)
À propos: довольно трудно объяснить, не будучи посвященным в тайны личной жизни молодого философа, почему он в качестве одного из первых своих псевдонимов выбрал именно это французское выражение – quart d’œil, которое на парижском арго обозначает «полицейский комиссар», а буквально переводится как «четверть глаза». С великой острожностью можно предположить, что тем самым автор пытался представить себя человеком (поскольку именно таким и должен быть профессиональный сыщик – «какой-нибудь» комиссар Мегре, родившийся, правда, в воображении Ж. Сименона, гораздо позже, лишь в 1929 г., причем сразу в пожилом возрасте, или же «появившийся на свет» в 1916 г. Эркюль Пуаро), чьего даже беглого взгляда достаточно для выборочной и точной фиксации важных, но не сразу бросающихся в глаза обывателя с «замыленным» зрением деталей того, что происходит вокруг него, в повседневной жизни. (Кстати, в том же арго встречается выражение quart d’auteur, имеющее значение «литературный раб», т. е. фактический автор конкретного текста, который выполняет свою работу за мизерную плату, но чье имя остается неизвестным. Не исключено, что это значение также «просвечивает» в аленовском псевдониме – см., например, ниже разделы «Действовать и созидать», «Делать, а затем размышлять» и др.)
В отношении тайного смысла другого псевдонима – Филибер – я, к сожалению, не могу высказать даже самых приблизительных предположений. Если же попытаться привлечь исторические факты, то оказывается, что во французской истории наиболее известны несколько персонажей, носивших это имя. Среди них: святой Филибер – монах VII в., два герцога Савойских, прозванные соответственно Охотником и Прекрасным (XV – самое начало XVI в.), и Филибер Делорм – выдающийся архитектор эпохи Ренессанса (XVI в.). Однако продвинуться в своих попытках прояснить ситуацию с псевдонимом чуть далее приведенной констатации мне не удалось.
и хронологически самым первым (с 1893 г.) – Критон (Criton).
À propos: именно этот псевдоним, под которым еще только набиравшийся профессионаьного опыта журналист писал в «Revue de métaphysique et de morale» («Обозрение метафизики и морали»), привлек мое внимание в особой степени. Конечно же, выбран он был не случайно и, вероятнее всего, отсылал читателей к одному из ранних диалогов Платона, названному тем же именем – «Критон». Исходя из этого я осмеливаюсь предположить, что семантика избранного философом псевдонима не так проста, как может показаться на первый взгляд, поскольку в данном диалоге главная роль отведена не тому великому мудрецу Сократу, который, как мы знаем, увлеченно занимался излюбленной майевтикой, но доживающему по приговору суда свои последние дни и часы пожилому человеку, который уже «…полностью смирился с отечественными законами и стремится во что бы то ни стало им повиноваться, даже если их применяют неправильно»[13]. (В качестве небольшого уточнения стоит обратить внимание на то, что Сократ никогда и не был борцом, допустим, с политическим режимом или с социальной несправедливостью.) Если моя догадка верна, то отмеченное обстоятельство может рассматриваться как в высшей степени симптоматичное: ведь именно подобной – по отношению к политике, государству, к правовым нормам – позиции Э. Шартье придерживался практически всю свою жизнь (к данному вопросу мне придется вернуться позже). И пусть со временем он отказался от использования этого «говорящего» псевдонима, но принципам, сформулированным им для себя еще в молодости и определявшим его социально-политические воззрения, о которых будет сказано в дальнейшем, на протяжении всей последующей жизни он практически никогда не изменял.