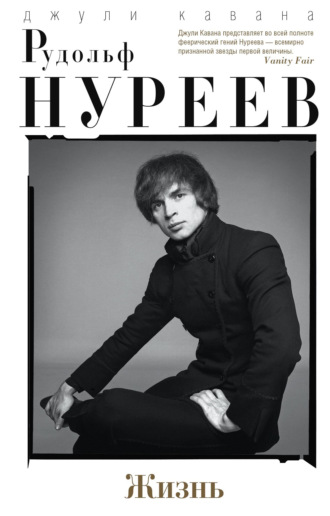
Полная версия
Рудольф Нуреев. Жизнь
Так и было. Он станцевал великолепно, привнеся в образ принца Зигфрида властность и утонченность, которых не было в его исполнении в Ленинграде. Тем не менее слежка КГБ за Рудольфом усиливалась день ото дня. «Смотри, за нами кто-то идет!» – воскликнул он, когда они с Пьером как-то вечером выбрались в город. Пьер рассмеялся: «Ты не придумал?» – «Ты мне не веришь? Я точно знаю. За нами следят люди из русского посольства». Пьер развернулся, но никого не увидел. «Ну, конечно, – сказал Рудольф. – Они спрятались!»
Коллеги тоже предупреждали Рудольфа, что за ним следят. «Говорить о таком было неприятно, – вспоминает Ольга Моисеева. – Но мы решили, что предупредить его стоит, потому что, хотя он подолгу задерживался со своими иностранными друзьями, на следующий день он все равно прекрасно танцевал». Артисты, которых разместили в другом отеле, радовались, что все кагэбэшники сидят в «Модерне» и ждут Рудольфа, а им можно без помех ходить за покупками и гулять по парижским улицам без сопровождения. «Мы даже ходили в ночной клуб!»
В тот вечер, когда французские импресарио пригласили всю труппу в «Лидо», скучающий Рудольф обратился к сидевшей с ним рядом Жанин Ринге: «Ты знаешь, кое-кто хочет, чтобы я остался во Франции!» Я ничего не поняла: «Рудольф, что ты имеешь в виду?» – «Что ты скажешь, если я уйду из труппы?» Должно быть, он увидел выражение ужаса на моем лице – конечно, в таком случае пострадало бы дело, которым мы занимались. Через некоторое время он сказал: «Не волнуйся, я пошутил! Я прекрасно понимаю, что должен остаться в Кировском театре».
Некоторых танцовщиков заставляли доносить друг на друга. Когда одна балерина узнала от другой, агента КГБ, что Рудольф говорит своим друзьям-французам то, что не должен говорить – «что его зажимают в театре и не дают делать то, что он должен делать», – она передала содержание разговора секретарю комсомольской организации, хотя сама признается: «Мы все жаловались».
«Юрия Соловьева постоянно допрашивали о приходах и уходах его соседа по номеру. «Однажды он подошел ко мне и сказал: «Ох, Рудька, меня заставили открыть твои сумки. Я искал твой билет на самолет». Но, хотя Соловьев еще покрывал Рудольфа и предупреждал, чтобы тот вел себя осторожнее, ему все больше надоедала напряженная обстановка и невозможность уснуть (Рудольф редко возвращался раньше двух-трех часов ночи). Он попросил, чтобы его переселили в другой номер. Его просьба породила множество слухов. Так, говорили, что Соловьева специально подселили к Рудольфу, чтобы тот попытался его соблазнить и доказал его гомосексуальные наклонности. Более правдоподобная версия, которую подтверждает сам Соловьев, заключалась в том, что флиртовать пытался Рудольф. Услышав подобное предположение, Александр Шавров, ближайший друг Соловьева, говорит: «Если бы Рудольф попытался сделать нечто подобное, Юрий врезал бы ему по морде, по русскому обычаю». Но именно это и произошло, если верить Алле Осипенко. «Юрий говорил, что, когда Рудик начал к нему приставать, он ударил его по лицу»[19].
Михаил Барышников, который хорошо знал Соловьева, уверен, что подозревать Соловьева в стукачестве нелепо. «Юрий нравился Рудольфу. Он восхищался его исполнением и всегда говорил, что он порядочный человек». И все же существует одна несостыковка. Из всех танцоров, которых допрашивали в Ленинграде после «невозвращения» Рудольфа, только Соловьев настаивал, что этот поступок был спланирован заранее.
Когда обо всем узнала Тамара, она сама отправилась к Соловьеву требовать объяснения. Тот сказал: в отличие от всех остальных артистов, Рудольф не тратил деньги на западные предметы роскоши: должно быть, он заранее знал, что останется на Западе.
Зарубежные гастроли давали советским артистам единственную возможность пополнить свой доход. За границей они могли приобрести вещи, цена которых на «черном рынке» на родине равнялась их месячному жалованью. (Одного танцовщика, который привез из Парижа сорок нейлоновых рубашек, задержали на таможне и в наказание больше никогда не выпускали за границу.) Рудольф на самом деле купил несколько западных предметов одежды и безделушки для семьи, а также избранные ноты для Пушкина, но все, что он приобрел для себя, за исключением железной дороги, которая вполне могла быть подарком для Тейи, составляли аксессуары для танцев: трико, теплые гетры, балетные туфли, макияж. К лондонскому дебюту в «Жизели» французские друзья подарили ему парик, «светлый, как у Мэрилин Монро». Его сводили в магазин Бертрана – лучшего изготовителя париков в Париже, где он жаловался, что парики в Кировском театре «ужасны». Дизайнер Симон Вирсаладзе однажды был приятно удивлен, когда Рудольф попросил его вместе с ним пойти на фабрику «Лайкра», чтобы помочь выбрать ткани для костюма к «Легенде о любви» (он должен был дебютировать в этом спектакле в новом сезоне). «Впервые в жизни танцовщик попросил меня об этом! – признался Вирсаладзе Алле Осипенко. – На фабрике он потратил почти все командировочные. Алла, этот мальчик знает, что делает!»
Ткань для «Легенды о любви», как и парик для «Жизели», могут служить доказательствами того, что Рудольф вовсе не планировал оставаться в Париже. И все же такая возможность по-прежнему занимала его мысли. Очевидно, для того, чтобы воплотить мечту в жизнь, ему недоставало храбрости. Проходя по площади Мадлен, он решил зайти в церковь в романском стиле. Хотя Рудольф не был верующим, ему всегда нравилась церковная атмосфера и эстетика. «Месса – хорошее шоу», – говорил он; интерьер церкви Святой Марии Магдалины, которую парижане называют просто Мадлен, с мраморной отделкой приглушенных тонов, богатыми фресками и позолоченными коринфскими колоннами, поражал его воображение. Однако в том случае он зашел для того, чтобы помолиться. «Я подошел к Марии и попросил: «Сделай так, чтобы я остался, ничего не предпринимая, – пусть все произойдет само собой… устрой так, чтобы я остался».
Накануне того дня, как труппа должна была ехать в аэропорт, Тамара почти всю ночь звонила Рудольфу в отель. «Наконец он ответил. «Рудик, где ты был?» – «Гулял. Смотрел на Париж». – «И как он?» – «Хорошо, но я хочу попасть в Лондон… Здешняя публика глупая».
Под вечер 14 июня, за два дня до отъезда Кировского театра, Рудольф в одиночку пошел в книжный магазин и галерею «Ля Данс» на площади Дофин. Этот магазин для балетоманов и артистов балета был аналогом «Шекспира и Ко». Он услышал, что в магазине выставлены работы Бакста и Бенуа. Сразу узнав Рудольфа и обрадовавшись ему, владелица, Жильберта Курнан, предложила показать ему одну интересную книгу, которую как раз набирали в типографии. Поскольку типография находилась за углом, владелица сама отвела туда Рудольфа и позволила полистать книгу. Через десять минут в галерею вошли Сергеев с Дудинской. Никто из них не спросил о Рудольфе, но мадам Курнан убеждена, что они зашли к ней не случайно. «Должно быть, они следили за ним. Как полицейские».
Рудольф всегда считал, что Сергеев и Дудинская каким-то образом устроили так, чтобы в Лондон его не взяли. «Это они придумали, как отправить меня назад. Чтобы самим выступить в Лондоне»[20]. Он уже слышал, что влияние Сергеева в Ленинградском обкоме КПСС было настолько сильным, что однажды ему удалось добиться отправки в Грузию Чабукиани, своего главного соперника. «Прогнал… И тому подобное. Они обладали сверхъестественной властью. Политической властью». Однако Рудольф совершенно ошибался, подозревая, что это Сергеев его зажимает. Аполитичный, глубоко религиозный человек, который, по словам Барышникова, «в глубине души ненавидел Советы», директор делал все, что мог, чтобы защитить молодого бунтаря. В тот день, 14 июня, они с Коркиным в третий раз получили приказ из Москвы, «не подлежащий обсуждению». Ранее работавший в театре варьете, приземленный и властный Коркин совсем не походил на высокообразованного Сергеева. Их объединяло только презрение к советским бюрократам, антисемитам, которые «терпеть не могли интеллигентов, Запад и искусство в целом». Они снова «категорически» заявили, что без Рудольфа продолжение гастролей немыслимо. Но к ним уже не прислушивались.
15 июня Коркин послал за Николаем Тарасовым, рабочим сцены, и Сергеем Мельниковым, главным осветителем. Им сказали, что на следующий день они полетят в Москву вместе с Наташей, переводчицей с французского, и Александром Грозинским, администратором, который отвечал за транспорт. «С вами полетит и Нуреев, – добавил Коркин, – только он еще об этом не знает». В тот вечер труппа давала в Париже последнее представление. Рудольф танцевал «Лебединое озеро» с Аллой Осипенко, которая заслужила такие же бурные аплодисменты, как и Рудольф (Оливье Мерлен написал, что теперь их имена навсегда «соединены с именами Карсавиной и Нижинского в стране сильфов»). Славившаяся восхитительными длинными ногами и неоклассическим почерком, Осипенко приобрела в Париже немало поклонников: она уже была там на гастролях в 1956 г. с балетной труппой Московского театра Станиславского и Немировича-Данченко.
В тот вечер, покинув вместе с Рудольфом Дворец спорта через служебный вход, они заметили своих друзей и поклонников, которые ждали их по обе стороны огороженного прохода. Стрижевский, который – следуя принятой в КГБ практике – всегда держался на несколько шагов позади, услышал, как танцовщики делятся планами примкнуть к большой группе на прощальный ужин. Он не разрешил им никуда идти. Поскольку Стрижевскому было приказано на следующее утро сопровождать Рудольфа в Москву, он решил ничего не оставлять на волю случая. Догадываясь, что происходит, некоторые поклонники принялись скандировать: «Отпустите их! Отпустите их!» Повернувшись к Стрижевскому, Алла сказала: «Виталий Дмитриевич, если вы нас не отпустите, будет скандал!» Стрижевский, отнюдь не типичный головорез из КГБ, был человеком высокообразованным, с неплохим чувством юмора. «Он все понимал… но соглашался одними глазами. Вслух он никогда ничего не говорил». Как и многие мужчины, Стрижевский питал слабость к Осипенко, которая славилась бешеным темпераментом и замашками «роковой женщины». Кроме того, как она ему напомнила, близился их последний вечер в Париже, а кроме того, канун дня ее рождения. Он нехотя согласился отпустить их. «Но если Нуреев не вернется к себе в номер, – сказал он ей, – отвечать будете вы».
Они ехали в разных машинах: Рудольф со своими друзьями, Алла – со своими. Независимая по-своему, она тоже общалась с «нежелательными» лицами, проводила время с друзьями-французами и русскими эмигрантами. Некоторые из них (в том числе хореограф Леонид Мясин) уговаривали ее остаться во Франции. Что еще неблагоразумнее, тогда у нее был роман с женатым мужчиной, солистом балетной труппы Парижской оперы: «Мы с Х чудесно проводили время в Париже. Мы ездили в маленький отель на окраине города… Не знаю, почему КГБ за мной не следил. Что касается Рудольфа, его все время хотели спровоцировать, подловить». В тот вечер в ресторане французский поклонник спросил у Аллы, получила ли она букет на день рождения, в который он вложил подарок-сюрприз. «Стрижевский спросил, от кого цветы, и тогда я поняла, что он, должно быть, конфисковал подарок – Х очень расстроился». Посреди ужина к столу подошел официант и сказал балерине, что ее просят к телефону. Звонила ее мать, чтобы поздравить с днем рождения. Сначала она позвонила в отель, но ей дали телефон ресторана: хотя ужин был разрешенным мероприятием, за танцовщиками все равно следили. Когда Алла вышла из-за стола, Рудольф крикнул ей вслед: «Попроси маму позвонить Александру Ивановичу и рассказать о нашем успехе. Передай, что спектакль был гениальным!»
Перевалило за полночь, когда Алла и ее поклонник-француз встали из-за стола, собираясь уходить. «Рудик, – игриво сказала Алла, – надеюсь, ты вернешься в отель спать!» – «Конечно, Алла, куда же еще мне идти? Мне еще собирать вещи. Кстати, Алла, а ты-то собираешься ложиться?» Мы пожелали друг другу спокойной ночи и со смехом расстались, зная, что никто из нас той ночью спать не будет». В то время как она и ее возлюбленный поехали из города в небольшой отель на берегу Сены, Рудольф и Клара оставались в ресторане еще долго после того, как остальные уехали домой.
«Потом он сказал, что мы должны в последний раз погулять вместе, – говорит Клара. – Он хотел еще раз посмотреть иллюминацию на Сене». Была теплая июньская ночь, и Париж никогда не выглядел таким красивым, «поэтому мы гуляли, гуляли и гуляли». Перейдя мост Пон-Нёф, они сели на скамейку, не переставая увлеченно разговаривать. Они, что случалось нечасто, остались наедине. Для Клары их дружба превратилась в нечто большее. Она немного поговорила о Венсане Мальро, но ее жизнь не очень интересовала Рудольфа. «Он был настоящим нарциссом». Ей он не раскрывал никаких важных тайн, ни разу не упомянул Тейю и скрыл свой роман с Пушкиной, утверждая, что живет в Ленинграде с девушкой из Кировского балета – Аллой Сизовой. «С девушкой?!» – с удивлением воскликнула Клара. «Да, – ответил он. – В одной квартире, но в разных комнатах».
Если Клара влюбилась в Рудольфа с первого взгляда, его влечение к ней было связано с общей влюбленностью в Париж: он полюбил сам город. В ту ночь он говорил о том, как будет скучать по Парижу, хотя с нетерпением ждет встречи с Англией, с английским балетным стилем и особенно с английской публикой, которая, как он считал, будет прозорливее, чем французская. Наконец, около шести утра, они поймали такси, и Клара высадила Рудольфа у отеля. «Мы распрощались без грусти, потому что через несколько дней собирались в Лондон посмотреть на него». Когда Рудольф поднялся к себе в номер, чтобы собрать вещи, Клара поехала на такси на набережную Орсэ и легла спать.
Когда Рудольф зашел в номер к Ольге Моисеевой, чтобы уточнить, когда они уезжают, она сразу поняла, что он всю ночь не спал. «Как ты поздно!» – воскликнула она. «Знаю. Мы гуляли… Схожу за вещами». Они сидели рядом в знакомом синем автобусе, который возил по Парижу всю труппу, за исключением Рудольфа. «В автобусе у нас отобрали билеты на самолет». Когда они приехали в Ле-Бурже, тогда международный парижский аэропорт, в толпе у стойки он сразу увидел французских друзей, которые приехали проводить его. Клару он не ждал, ведь он с ней только что попрощался; не ждал он и Клер, которая уехала с гастролями в Малагу. Зато он увидел Пьера, который разговаривал с Сергеевым и Дудинской, а также партнера Клер по Парижской опере, Жан-Пьера Бонфу – «jeune, beau et blond (молодого, красивого блондина)», – и Оливье Мерлена, чьи лестные статьи ему нравились. Он подошел к ним, чтобы в последний раз вместе выпить. Потом заметил, что вся труппа встала в очередь на посадку. Когда Рудольф тоже встал в очередь, его отвели в сторону и сказали, что он не полетит в Лондон вместе с остальными[21]. Вместо этого он через два часа сядет на самолет в Москву, потому что его пригласили выступить в Кремле. «Хрущев хочет посмотреть, как вы танцуете».
Сначала Рудольф не поверил: как может быть, чтобы для танцовщика, который принес Кировскому балету такой феноменальный успех, не нашлось места в самолете до Лондона? «Кордебалету место нашлось; плотнику нашлось место, а мне нет». Но когда Коркин сообщил, что его отправляют в Москву, потому что заболела его мать, Рудольф убедился в том, что его обманывают. Это неправда – он разговаривал с матерью накануне, и она была здорова. А если она в самом деле внезапно заболела, зачем лететь в Москву на концерт? Потом он вспомнил один разговор, который у него состоялся перед отлетом из Ленинграда; французские друзья заметили, что он «побледнел как бумага». «Плохие новости из дома»… Именно такой была «ужасная уловка», к какой прибегли с Валерием Пановым, танцовщиком из Малого театра, которого два года назад вернули в Россию с гастролей по Соединенным Штатам и с тех пор преследовали и никуда не выпускали.
В начале мая Рудольф беседовал с Пановым, чтобы выяснить, что же в самом деле случилось с ним в Америке и после того. Артистам Кировского театра велели не забывать о дурном примере Панова, но истинная природа его проступка так и осталась неясной – ни другим, ни ему самому. Дождавшись, пока танцовщик закончит репетировать, Рудольф жадно выслушал его рассказ. Панов не сразу сообразил: его сочли потенциальным изменником, потому что он вел себя «как влюбленный подросток», окунувшись в атмосферу разнообразия, скорости и изобилия в «могучей, магической» Америке. Самой же весомой уликой стала 16-миллиметровая камера, купленная на аванс, который в КГБ расценили как плату за шпионаж. С позором отправленный на родину, Панов стал козлом отпущения – «его наказали в назидание и для острастки другим». Все зарубежные гастроли оказались для него закрыты.
Рудольф, чьи проступки во время гастролей были гораздо более опрометчивыми, точно знал, что его ждет: «Больше никаких поездок за границу… меня приговорят к полному забвению». Всхлипывая, едва не падая в обморок, он сказал Коркину, что покончит с собой, потому что такой запрет будет иметь ужасные последствия для его жизни.
Их обступили; все хотели узнать, что случилось. «Все будет хорошо, – обещала Жанин Ринге. – Наша организация достаточно сильна и поможет тебе. Мы поговорим с мадам Фурцевой…» Но Рудольф ее почти не слушал. «Я покойник!» – повторял он, «плача, как дитя».
Увидев, что к нему приближаются Ольга Моисеева и Алла Осипенко, он скрестил пальцы на двух руках в виде решетки, чтобы показать, что его все равно что отправляют в тюрьму. «Мы все понимали, что это значит. Все очень расстроились – Дудинская и Сергеев тоже. Все знали: если его отправят в Россию, ему будет по-настоящему плохо».
«Плакали почти все балерины – даже те, кто всегда откровенно выступал против меня… Все просили меня вернуться без шума, обещая, что первым делом по прилете в Лондон отправятся в советское посольство. Они объяснят мое поведение, убедят, что в моем образе жизни нет ничего политического, что я просто артист… [которого] нужно оставить в покое и понять. «Они» все поймут, вот увидишь, и отправят тебя прямо в Лондон. Лети в Москву. Не делай глупостей… Если сделаешь, приговоришь себя навсегда… Но я лучше знал… Я подумал: это конец».
«Иди и вызови мне такси», – обратился он к Жан-Пьеру Бонфу, молодому французскому танцовщику, стоящему у стойки. Но 18-летний француз испугался: «Нет-нет-нет. Я не могу». – «Я говорю, все в порядке… Ну ладно, тогда позови мою подружку». Он рассчитывал на то, что Клара, связанная с влиятельными Мальро, сумеет ему помочь. Было почти 9 утра, а рейс на Москву отправлялся в 12.25; ему предстояло ждать три с половиной часа. Как только труппа Кировского театра улетела в Лондон, Стрижевский предложил им посидеть в представительстве «Аэрофлота», но Рудольф категорически отказался.
«Не прикасайтесь ко мне. Если дотронетесь, я закричу». Поэтому они оставили меня на месте. Я подумал: если меня уведут в отдельный зал для советских пилотов, где нас не увидят… мне сделают укол… «Если вы сдвинете меня хоть на дюйм, я начну кричать».
Тогда его проводили в «Летающие тарелки», бар в главном зале аэропорта. Стрижевский и еще один агент КГБ, Романов, предложили ему кофе. «Нуреев отказался: он слишком нервничал». Рудольф был в отчаянии. Его французские друзья растерянно топтались вокруг; они не знали, что делать. Никто ничего не предпринимал, а время уходило. Оливье Мерлен оставил свой восьмицилиндровый «нортон» рядом с выходом; он подумывал предложить Рудольфу убежать вместе, но сразу понял, что это неосуществимо: с двух сторон от танцовщика сидели два агента КГБ, «как в кино», в третий преграждал ему дорогу. Агента Трофимкина Рудольф уже хорошо знал в лицо: «На парижских гастролях он следил за каждым моим жестом».
Клара еще толком не успела заснуть, когда ее разбудил звонок Жан-Пьера Бонфу. Задыхаясь, он объяснил, что случилось, и попросил ее приехать в Ле-Бурже. Быстро одевшись и повязав взъерошенную голову шелковым платком, она бросилась ловить такси и всего через полчаса примчалась в аэропорт. Бонфу сразу же вышел ей навстречу и показал, где сидит Рудольф. «Зажатый между двумя охранниками, он казался очень маленьким и очень грустным. Он не плакал, но был очень бледен». «Что мы можем сделать?» – спросила Клара у Бонфу. «Не знаю. С ним очень трудно разговаривать». Она решила попробовать: «Я подошла к русским и по-французски попросила разрешения попрощаться с моим другом. Они кивнули. Я поцеловала его и шепнула: «Значит, ты не летишь в Лондон?» – «Нет, я лечу в Москву, а весь мой багаж улетел в другом самолете». – «Для тебя это ужасно?» – «Да». Потом он очень тихо сказал: «Я хочу остаться здесь». – «Ты уверен?» – «Да. Пожалуйста, пожалуйста, сделай что-нибудь». В этот миг Стрижевский окликнул Рудольфа и велел вернуться за столик. «Я сказала: «Au revoir, au revoir!» – и снова поцеловала его».
Подойдя прямо к французам, «бледным и очень усталым», Клара передала им слова Рудольфа. Никто, даже Пьер, не хотел в этом участвовать: танцовщики боялись, что их лишат возможности выступать в России, а импресарио хотели и дальше поддерживать хорошие отношения с Советами[22]. «Не рискуй! – предостерег ее Жорж Сориа. – Ты их не знаешь – для тебя это может быть очень опасно». Но Клара, которой нечего было терять, понимала, что должна спасать Рудольфа, даже если ей придется действовать в одиночку. Было почти десять часов; времени оставалось немного. Увидев указатель «Полиция аэропорта», она поднялась на второй этаж и обратилась к Григорию Алексинскому[23], начальнику смены пограничного контроля Ле-Бурже, который сидел в маленьком кабинете со своим заместителем Жаго-Лашомом. «Знаете, там внизу проб лема». Она объяснила, что русского танцовщика удерживают против его воли. «Где он?» – спросил Алексинский. «В баре. Ждет следующий рейс». – «Вы уверены, что он хочет остаться?» – «Да, совершенно уверена – я только что с ним говорила». – «И вы уверены, что он танцовщик?» – «Да. Вчера вечером он танцевал во Дворце спорта. Он из Кировского театра. А что?» – «Если бы он был ученым, это было бы очень опасно». – «Он не ученый. Он великий танцовщик. Идите туда, и увидите его. Чем вы можете ему помочь?» – «Мы не имеем права ничего делать. Мы сами не можем подходить к нему, это он должен подойти к нам». – «Но это невозможно. Его охраняют двое». – «Мы спустимся вниз и встанем у барной стойки, но он должен сам подойти к нам. Он должен сказать: «Je veux l’asile politique» – «Прошу политического убежища» – и тогда мы обо всем позаботимся. Вы можете ему это передать?» – «Постараюсь».
Клара вернулась к столику, сотрудники КГБ пили коньяк. «Я забыла кое-что сказать Рудольфу». Она улыбнулась Стрижевскому, и тот тут же кивнул в знак согласия – девушка явно влюблена в Нуреева и не хочет его отпускать. Склонившись к Рудольфу, она быстро зашептала: «Видишь тех двоих у стойки? Это французские полицейские. Ты должен подойти к ним и сказать, что хочешь остаться». Потом мы стали долго прощаться, я отошла от него и заказала кофе у стойки».
У Валерия Панова в нью-йоркском аэропорту тоже была возможность сбежать. Он мог попросить политического убежища, обратившись к агентам ФБР, которые заподозрили, что отправка в Россию сулит ему неприятности. Его провели через паспортный контроль, нарочно задержав сопровождающих, – пограничники долго изучали их документы. Но, в то время как Панов «в жалком страхе пятился от агентов ФБР», Рудольф понял, что ему предоставляется единственный шанс. «И я на месте решаю, что я не вернусь. Настала пора прощаться». Он вскочил со стула и метнулся к стойке. Стрижевский бросился за ним, спрашивая, что случилось. «Нуреев молчал. А потом он сказал: «Я решился». Он не сказал, на что он решился, но повторил, что его решение твердое, окончательное и он не собирается его менять». Потом Рудольф медленно сделал «ровно шесть шагов» к двум французским полицейским. «Не прыгал, не бежал, не кричал, без истерики. Я тихо сказал: «Я хотел бы остаться в вашей стране».
Два агента КГБ тут же схватили его; следом бежал Трофимкин. Началась потасовка – «Они толкали и тянули Рудольфа», пока, наконец, один из французских полицейских не воскликнул: «Ah non! Ne le touchez pas – nous sommes en France»[24]. Понимая, что они не могут увести Рудольфа силой, русские бросились к телефону-автомату – звонить в посольство. Тем временем Алексинский и Жаго-Лашом повели Рудольфа в полицейский участок (проходя мимо группы французов, Клара, шедшая сзади, слышала выкрики: «Vous êtes folle!»[25]). Полицейские спросили, хочет ли он что-нибудь выпить, и Рудольф с посеревшим лицом ответил: «Коньяк».
Связавшись с посольством, Стрижевский и Романов тоже поднялись наверх в поисках танцовщика. «Мы настаивали, чтобы нам позволили увидеть Нуреева, но французы пытались отрицать, что он там». Вскоре после этого в аэропорт прибыл взволнованный представитель посольства М. Ф. Клейменов. «Я должен поговорить с ним! – вскричал он, врываясь в кабинет. Рудольф слышал, как он говорит инспекторам: – Нуреев – советский гражданин! Вы обязаны передать его мне». – «Месье, мы во Франции, и Нуреев находится под нашей защитой», – последовал ответ. Клейменов заговорил с Рудольфом по-русски; его монолог длился минут двадцать, и танцовщик несколько раз ответил: «Нет!» Жанин Ринге, которая подобрала плащ, берет и камеру Рудольфа в коридоре и ждала снаружи, чтобы отдать его вещи полиции, услышала, как он просит по-русски: «Оставьте меня в покое, оставьте меня в покое!» «Он был совершенно не в себе и зол». Но, подобно тому, как очевидцы в терминале вспоминали все более мелодраматические подробности побега Рудольфа – «Он буквально упал!»… «Он достал из кармана перочинный нож»… «Он бился головой о стену!»… «Осипенко сказала: она клянется, что видела, как я перепрыгнул через барьер. И побежал по платформе!» – также есть разные версии того, что происходило наверху. Сам Рудольф вспоминал какую-то медсестру, которая «визжала», что он сумасшедший и ему надо сделать укол успокоительного; Грозинский уверяет, что сотрудник посольства, взбешенный отказом Рудольфа идти с ним, влепил ему пощечину. «Это неправда, – говорила Клара. – Я все время находилась в кабинете».




