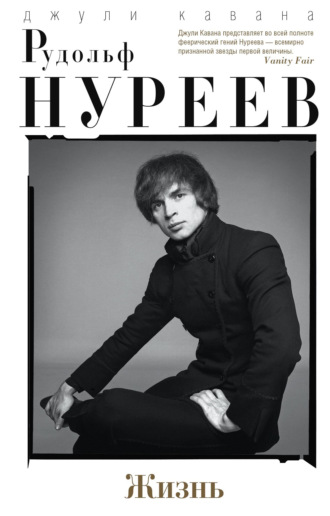
Полная версия
Рудольф Нуреев. Жизнь
Глава 4
Братья по крови
Тейя Кремке был 17-летним юношей из Восточной Германии, которого эротизм окружал, как дымка. Когда он учился в Ленинградском хореографическом училище имени Вагановой, у него были пышные каштановые волосы, белая кожа, полные губы и пытливые серо-голубые глаза – необычайные глаза, чей соблазнительный блеск из-под длинных черных ресниц отмечали даже в детстве. Именно Тейю Рудольф позже назвал своей «первой любовью», но летом 1960 г., когда впереди у Рудольфа были долгие гастроли по ГДР, его главным образом интересовали рассказы нового знакомого о внешнем мире.
Жизнь в Восточном Берлине, где рос Тейя, нельзя было назвать роскошной; он вспоминал постоянную нехватку продуктов и товаров широкого потребления. Зато искусство процветало. Кроме того, до возведения Берлинской стены еще не существовало физической границы между двумя Германиями. Тейя с сестрой два-три раза в неделю пересекали границу на метро: «Мы вливались в толпу, которая встречалась скорее не в кафе, а в театрах и концертных залах». Тейя рассказывал обо всем: от недавних достижений в западных танцах до театра «Берлинер ансамбль», основанного Б. Брехтом, и последних голливудских фильмов. «Рудольф получал от него много сведений. Тейя был очень умен».
Судя по первым письмам Тейи домой, студент был одновременно и довольно зрелым в своем восприятии действительности, и на удивление наивным. «Я и не мечтал, что познакомлюсь с такими великими людьми, как Сергеев и Дудинская, – писал он в январе 1960 г., вскоре после того, как приехал в Ленинград на учебу. – Разговаривая с ними, испытываешь странное чувство. Они держатся очень скромно, и рядом с ними кажешься себе очень маленьким и незначительным». Для Тейи, который после своего приезда не пропускал ни одного спектакля с Нуреевым, Рудольф был таким же божеством, как прославленные звезды Кировского балета, и он не поверил своему счастью, когда молодой солист сам вызвался давать ему и его партнерше, Уте Митройтер из Берлина, уроки по воскресеньям. «Он помогал нам с па-де-де, – вспоминает Уте Митройтер. – Показывал Тейе поддержки и подготовку к ним. Рудольф был фанатиком, Тейя был фанатиком, и я тоже».
Рудольф восхищался энергией юных студентов и поощрял ее. Хотя Тейя не был особенно одаренным, он старался впитать как можно больше. «Русские мальчики принимали все как должное, – заметил Барышников. – Тейя был хорошим учеником и очень практичным: он учился ради своего будущего». Он привез в Ленинград 8-миллиметровую любительскую кинокамеру и снимал занятия, спектакли и отдельные партии. Часто он снимал тайно из-за кулис или из оркестровой ямы»[13]. Поскольку гастроли Рудольфа по Восточной Германии совпадали по времени с гастролями в Ленинграде труппы «Американского театра балета», он попросил Тейю снять для него все, что получится. В ответ он согласился передать, через знакомых в Лейпциге, три пары балетных туфель в подарок подружке Тейи.
Рудольфу не нравилось, что он во второй раз пропускает гастроли «Американского театра балета». Через три недели он сократил отпуск в Уфе, чтобы посмотреть спектакли американской труппы в Москве, но Пушкин велел ему вернуться домой. «Мой педагог сказал мне: «Не оставайся там. Когда они приедут в Ленинград, я достану билеты в первый ряд на все их спектакли. Завтра у меня день рождения. Приезжай!» И я уехал из Москвы». Однако, прежде чем он уехал, Рудольф пошел на спектакль Большого театра «Лебединое озеро», где заметил датского танцовщика Эрика Бруна, который сидел в зрительном зале с двумя своими партнершами-американками, Марией Толчиф и Лупе Серрано. Рудольф давно заметил по фотографиям, что Брун танцует изящно и четко. Он считал его исполнение идеальным, таким, к чему стремился сам. Поэтому очень хотелось подойти к Бруну и поговорить с ним.
«Я заранее заготовил небольшие фразы, которые знал. Тогда я еще подумал: «Что мне сказать Марии Толчиф?» С ней я не стремился познакомиться, только с ним. Когда я двинулся к ним, поклонники преградили мне путь. Мне сказали: «Не смейте, иначе вас ни за что не выпустят из России. Ваша карьера будет кончена, если вы заговорите с ними».
Рудольфу очень хотелось усвоить «школу» Бруна; к тому же в репертуар «Американского театра балета» входил одноактный балет Баланчина «Тема с вариациями», который он мечтал исполнить. «Я не скрывал своего желания, и поэтому меня отправили на гастроли в Германию. Власти не хотели, чтобы на меня влияли западные стили».
Рудольф не сомневался в том, что его нарочно убирают из Ленинграда. Уже в пути он узнал, что руководство Театра имени Кирова «обмануло» их с Кургапкиной. Гастроли выдавали за особую привилегию (им сказали, что они должны заменить великую Уланову), а на самом деле пришлось выступать почти в варьете, вместе с цирком. «Там были клоуны, жонглеры… и мы». Замерзая в тесном автобусе, они объездили всю Восточную Германию. Выступать приходилось в неприспособленных помещениях, в военных городках… Рудольф решил выместить зло на властях, как только они вернутся. Оба танцора обвиняли в своем «наказании» влиятельного Константина Сергеева. Незадолго до гастролей Рудольф публично унизил Сергеева за то, что тот поправлял студента на занятиях Пушкина. «Здесь есть педагог, – не выдержал Рудольф. – Выйдите и закройте за собой дверь!»
Нинель считает, что еще одним мотивом была ревность: «Константин Михайлович помогал молодым, но, как только его протеже… угрожали их с Дудинской положению, он старался снова столкнуть их вниз. В нашем случае это оказалось невозможно. У меня был сильный характер, и я была очень независимой; таким же был Рудольф. Вот почему мы с ним так сблизились. Нам хорошо удавалось быть против всего мира».
Решив получить от гастролей все, что можно, Рудольф и Нинель пошли в Дрезденскую картинную галерею, где он купил каталог и альбом Рембрандта; по возвращении он попросил Тейю перевести ее для него. В Восточном Берлине, последнем пункте их гастролей, Рудольф связался с бывшим соседом по общежитию Эгоном Бишоффом, который стал солистом и балетмейстером в Государственном театре оперы и балета. Как-то вечером они вместе с веселой женой Эгона, Гизелой, пошли в «Мёве» («Чайка»), популярное среди артистов кафе, где много пили, вспоминали прошлое и так танцевали, что у Гизелы порвалось жемчужное ожерелье, и бусины градом посыпались на пол. Чуть раньше они ездили по городу, и Рудольф, «придя в приподнятое настроение», потребовал, чтобы его свозили к границе. «Она тогда была еще открыта. Если бы он захотел убежать, тогда ему это удалось бы без труда». И Рудольф это понимал. «Я без труда могу пойти в Западную Германию, пойти в посольство и сказать: «Я хочу остаться в вашей стране». Перед отъездом на гастроли он набил чемодан печеньем, сахаром, колбасой и чаем, чтобы не тратить на еду ни копейки из скудного гонорара. «Эти деньги предназначались на две вещи: побег на Запад. А если не получится, то купить пианино. Потому что в России пианино не купишь». Он много жаловался Эгону на свою «ссылку». «Он говорил, что его оскорбляют» и даже признался, что думает сбежать. «Мой друг сказал: «Не будь идиотом. Поднимется шумиха из-за того, что ты останешься на Западе, и тебя вышлют назад в Россию. Они поступают так со всеми». Поэтому я купил пианино».
Десять лет спустя Берлин для Рудольфа (как в 1920-х гг. для Кристофера Ишервуда и его соотечественников) был городом раскрепощенных нравов. Тогда Эгону с трудом удавалось отвлечь его от сомнительных клубов, которые танцовщик предпочитал домашним ужинам, приготовленным Гизелой. Но осенью 1960 г. город еще обладал очарованием невинности – а единственная интерлюдия надолго сохранилась в его памяти. Однажды, после репетиции в «Штаатсопер», внимание Рудольфа привлек молодой симпатичный танцовщик. Хайнц Маннигель был на два года старше Рудольфа, с такими же чувственными чертами и пылкостью на сцене. Особенно ему удавались испанские танцы, и Рудольф, как обычно, решил научиться всему, что способен был предложить другой танцовщик. Они договорились: Хайнц научит его танцевать фламенко и расскажет о немецком экспрессионизме, а Рудольф в ответ преподаст ему уроки по методу Пушкина. «Рудольф объяснял мне логику классического балета, а я показал ему, как извлекать из себя безумие, о котором нельзя говорить. Я был молодым и бесшабашным и призывал его танцевать как дикий зверь – именно так я понимал балет». Особенно Рудольфа заинтересовала динамика немецкого экспрессивного танца, накал страстей и примитивная, мощная ритмика, посредством которой выражали себя такие первопроходцы, как Мэри Вигман и Грет Палукка. «Его интересовало все, и я никогда не слышал от него никакой критики. Ему просто нравилось танцевать».
Желая, чтобы Хайнц увидел, насколько электризующим может быть на сцене он сам даже в стилизованной роли испанца, Рудольф пригласил нового друга на спектакль «Дон Кихот». Они поехали в русский военный городок на окраине Берлина, но Хайнца не пустили за проходную. В отместку Рудольф отказался выходить на сцену, если в зале не будет его друга. Потом, вдохновленный новыми для него навыками фламенко, он три раза исполнил на бис всю вариацию. Несмотря на то что на гастролях они еще теснее сплотились с Нинель, Рудольф не познакомил ее с молодым немцем и даже не упомянул о нем, хотя на той же неделе он еще несколько раз приглашал Хайнца на спектакли.
Оба танцовщика Театра имени Кирова каждый день обязаны были докладывать о своем местонахождении представителю комсомола, однако Рудольф совершенно игнорировал это правило. Они с Хайнцем вместе ходили в музыкальный театр «Комише опер», где смотрели оперу Леоша Яначека «Приключения лисички-плутовки» в постановке Вальтера Фельзенштейна; потом они часами бродили по городу, посещали церкви и музеи. В Пергамском музее Хайнц поразился познаниям Рудольфа в области античного искусства: «Это он все мне объяснял». Желая произвести на Рудольфа впечатление, Хайнц решил свозить его в Западный Берлин. «Мы сели на метро, и я сказал Рудольфу, где мы выходим. «Нет, пожалуйста, Хайнц, не надо, – сказал он, и вид у него сделался испуганный. – Мне нельзя туда. У меня будут большие неприятности». Я ничего не понял, но согласился. Мы вышли на следующей остановке и вернулись».
Поскольку у Хайнца не было денег, а Рудольф копил на пианино[14], они не ели в кафе и ресторанах, а покупали еду и готовили в комнатке Хайнца рядом с Унтер-ден-Линден. И хотя там им не раз представлялся удобный случай – «Помню, мы много выпили в тот раз», – Рудольф не пытался заигрывать с Хайнцем. Если его и влекло к Хайнцу, его желание было подсознательным. «Гомосексуальность чувствуется сразу; по-моему, тогда Рудольф не был гомосексуалом; он не так ходил и не так себя вел. У нас просто возникло очень, очень теплое чувство друг к другу». Оба они, по словам Хайнца, были «беспризорниками». Их объединяло бедное, суровое детство, лишенное тех привилегий, какими обладали многие их ровесники. «Мы были уличными мальчишками с большими амбициями и сразу подружились, найдя друг в друге много общего». Очевидно, Рудольф все же что-то почувствовал, потому что перед уходом он так пылко поцеловал Хайнца в губы, что Хайнц изумился и в то же время все понял. «Мы очень сблизились и по-настоящему полюбили друг друга. Это был по-настоящему прекрасный поцелуй, о котором я не жалею по сей день».
Желая поддерживать связь с Хайнцем после возвращения в Ленинград, Рудольф написал ему нежное и ностальгическое письмо, вспоминая, как они вместе проводили время, а когда он получил в подарок нейлоновую рубашку – для него она была символом «западничества», – он в ответ послал Хайнцу шоколадные конфеты и необжаренные кофе-бобы, которые тогда можно было достать только в России. В январе он узнал, что Хайнц после двух недель знакомства женился, но тогда он уже не придал значения этой новости, так как его отношения с Тейей постепенно перешли на новый уровень.
Перелом наступил на день рождения Тейи, которому исполнилось восемнадцать. После этого они начали часто встречаться, в основном в квартире на улице Зодчего Росси. Поскольку Тейя тоже был учеником Пушкина, его, естественно, приглашали туда на ужины и учили нюансам жизни за пределами училища. С самого начала Ксению инстинктивно влекло к этому юному красавцу, а Александр Иванович, которого Тейя боготворил, заменил ему отца. Они вчетвером часто слушали пластинки и разговаривали допоздна. Семья Кремке была музыкальной (сестра Тейи, Уте, была профессиональной пианисткой, и сам он играл на фортепиано и аккордеоне), хотя только под руководством Рудольфа он развил в себе истинную любовь к музыке, особенно к Баху.
Их разговоры редко выходили за пределы музыки и балета. До своего поступления в Ленинградское хореографическое училище Тейя провел месяц в Москве, совершенствуя свой школьный русский; кроме того, его знакомили с идеологией братской страны. Но он, как и Рудольф, не интересовался современной политикой и терпеть не мог коммунистический режим. Как-то вечером они беседовали на кухне общежития Вагановского училища, а Уте Митройтер варила кофе. «Тейя говорил Рудольфу, что он должен поехать на Запад: «Там ты станешь величайшим танцовщиком в мире… А если ты останешься здесь, тебя будут знать только русские». – «Да, конечно, я это знаю, – ответил Рудольф. – Так Нижинский стал легендой. А я буду следующей».
Несмотря на объединявшее их свободомыслие, по характеру они были совершенно не похожи. Тевтонская практичность Тейи противоречила крайней импульсивности Рудольфа. Они часто ссорились. Слава Сантто, молодой друг Пушкиных, как-то вечером наблюдал за тем, как они играют в шахматы: «Тейя делал все очень точно, медленно и тщательно обдумывал каждый ход. Но, когда Тейя начал выигрывать, Рудольф не выдержал. Он сбросил на пол шахматную доску вместе с фигурами, а потом выбежал из комнаты. Тейя остался на месте: очень хладнокровный, без всякого выражения на лице». У Тейи было больше денег, чем у других студентов, даже больше, чем у педагогов, потому что он приторговывал одеждой, пластинками и западными лекарствами. Такое торгашество раздражало Рудольфа. «Уж этот Тейя, – однажды презрительно заметил он одному знакомому. – Либо покупает, либо продает». Правда, и он пользовался способностями друга к своей выгоде, убедив Тейю привезти из одной поездки то, о чем он мечтал с детства.
Когда однажды Тейя не пришел на занятия, озабоченная Уте Митройтер зашла к нему в комнату и увидела, что Тейя сидит на полу и собирает электрическую железную дорогу. «Ему не терпелось удивить Рудольфа. А я еще, помню, подумала: «Боже мой, он заботится только о нем – как он мог прогулять занятия?» Для нас это было очень серьезно. Его забота о Рудольфе выглядела очень странно. Как будто он в самом деле его любил». Уте Кремке тоже поразила сила привязанности Тейи к Рудольфу. «Рудик мой кровный брат», – сказал он сестре, признавшись, что они порезали руки и смешали кровь. «Но зачем? Что ты имеешь в виду?» – изумленно спросила она, не зная о ритуале американских индейцев и поразившись силе его чувства. Тейя в ответ только улыбнулся.
Их растущая близость была тайной; опасно было открывать ее кому бы то ни было, даже Уте Митройтер, которой Тейя до того всегда рассказывал о своих сексуальных победах. «Тейя рассказывал обо всем, что он вытворял с девушками. Многие из них сходили по нему с ума – я слышала, что он очень хороший любовник, – и вот почему я не думала, что между ним и Рудольфом не просто дружба, а нечто большее. Только позже я поняла, что у них роман».
Школьная подружка Тейи, тоже танцовщица, с густыми бровями и красивыми, как у него, глазами, осталась в Германии; хотя ее семья перебежала в Западную Германию, они с Тейей регулярно переписывались. Митце (Анне Эндерс) всегда считала, что Тейя хранил ей верность, пока жил в Ленинграде, хотя на самом деле в училище он с первого дня завоевал репутацию дамского угодника. Приехав на новое место, он увидел, что общий зал красит девушка-маляр. Она не была красавицей, но ее грубоватые ухватки и крепкое тело, от которого пахло потом, возбудили его. Он вкрадчиво заговорил с ней и добился того, что она позволила взять себя прямо на рояле; при этом он наклонил ей голову, чтобы не видеть ее лица. Тейя развился еще раньше, чем юный Саша Блок. Ему было всего двенадцать, когда на каникулах, которые он проводил с семьей, его соблазнила 35-летняя женщина – и эта встреча сформировала у него далеко не традиционные сексуальные предпочтения. (В середине 1960-х он убеждал обожающую его жену-индонезийку жить втроем с красивым арийцем, с которым у него был роман.) «Тейя всегда был открыт для новых опытов. Был в нем какой-то излом. Его особенно волновало то, что другим казалось ненормальным».
Вскоре после того, как Рудольф стал невозвращенцем, Тейю вызвали в Министерство госбезопасности ГДР (Штази) и допрашивали об их дружбе. Он утверждал, что это Рудольф пытался его соблазнить, но, поскольку именно у Тейи имелся гомосексуальный опыт – как-то в школе, еще в Берлине, его застали в душе с мальчиком, – скорее всего, все было наоборот. (Однажды Рудольф признался общему другу, что именно Тейя обучал его «искусству мужской любви».) Как-то Константин Руссу, еще один студент из Восточной Германии, зашел в душ в общежитии Вагановского училища. Оказалось, что Рудольф и Тейя заперлись в кабинке и отказывались открывать. Подтвердилось то, что он подозревал уже какое-то время. Часто, когда вечером Руссу возвращался в комнату, где жил вместе с Тейей, он видел, как из окна вылезал солист Кировского театра и бежал по улице Росси. Поскольку в комнате жили только два студента, Рудольфу и Тейе нетрудно было оставаться наедине, когда Константин был на занятиях. «Они могли запираться, если хотели».
Однако Рудольф все больше и больше мечтал о собственном жилье. «У него это стало идеей-фикс. Где-нибудь, где угодно, но он должен жить отдельно, и в квартире должно быть достаточно места для пианино, о котором он страстно мечтал». Он решил, что попробует обменять комнату в квартире на Ординарной улице (которую Театр имени Кирова выделил ему с Аллой Сизовой) на две комнаты поменьше – одну для себя, а другую для сестры Розы, вместе с которой он жить не хотел. Прописавшись в Ленинграде, Роза по советским меркам жила шикарно, вела, по словам Сизовой, «очень свободную жизнь, у нее постоянно толпился народ». Рудольф знал: сестре не понравится все менять. Так как он боялся сообщать ей о своем решении сам, он поручил Тамаре сделать это за него.
Когда Тамара вошла, Роза лежала на диване. Сообразив, чем ей грозит план брата, она вдруг вскочила и закричала: «Это ты хочешь захапать комнату! Ты ничего не получишь! Она моя. Я здесь живу… И я беременна!» У нее началась истерика; она так кричала, что родители Аллы, которые находились в соседней комнате, прибежали узнать, в чем дело. Позже, когда Тамара рассказала Рудольфу, что случилось, она увидела, что его лицо раскраснелось от стыда. Потом он запретил ей даже заговаривать на неприятную тему. Ссора усугубила растущее отчуждение. В детстве Роза всегда была его союзницей, но теперь больше не вписывалась в мир Рудольфа. Его ленинградские друзья находили ее «странной, замкнутой, зацикленной на себе» и такой не похожей на Рудольфа, что трудно было поверить, что они брат и сестра. По словам Леонида Романкова, «Роза была приземленной; Рудольф как будто прилетел со звезд». Тамара заявила, что больше не будет с ней разговаривать. Ксении же Роза не нравилась с самого начала. «Ксения Иосифовна была из хорошей семьи, очень интеллигентная, с превосходными манерами; Роза была ее полной противоположностью».
Пришлось Рудольфу оставаться у Пушкиных. Как бы ни сковывала его Ксения, никто не заботился о нем лучше, чем она, а чуткая преданность Александра Ивановича была безграничной. Придя как-то вечером к ним домой, Слава Сантто увидел, что Пушкин сидит на крошечной кухне. «Тсс! Не входи, – прошептал он. – Там Рудик. Он слушает музыку». Рудольф лежал на полу и слушал пластинку Баха. Еще одним преимуществом житья на улице Зодчего Росси было то, что Тейю там всегда привечали. Ксения приняла его как нового протеже, она формировала его мысли и вкусы. Теперь между всеми ними образовалась тесная связь: «Это был какой-то любовный квадрат. Они все были связаны вместе».
Руководила почти всегда Ксения; она все освещала своей жизнерадостностью. Впрочем, в самые веселые минуты к ней часто присоединялся и Александр Иванович; во время поездок за город все они дурачились на камеру, которую держал Тейя. На одной фотографии, сделанной у них дома, Пушкины позируют в своей большой кровати красного дерева. Дочь Тейи, Юрико, вспоминает, что видела еще один снимок, где в постели с Пушкиным лежали ее отец и Рудольф. Возможно, именно тот снимок вызвал слухи об «оргиях» в квартире Пушкиных (Рудольф подобных домыслов не опровергал. Так, он шокировал одного знакомого, сказав, что он спал не только с Ксенией, но и с Пушкиным: «Им обоим понравилось!»). Но, если даже Пушкина в самом деле привлекала однополая любовь – а несколько человек считают, что «Александр Иванович был другим», – то он не давал воли своим склонностям. В альбоме, собранном друзьями Пушкиных после их смерти, есть снимок: Пушкин сидит на пляже рядом с загорелым, улыбающимся Сергеевым. Как и все остальные загорающие вокруг них, оба обнажены. Однако в то время, как Сергеев, который позирует с Пушкиным еще на одном снимке у кромки воды, несколько двусмысленно щеголяет своими достоинствами, которые прикрывает лишь узким полотенцем на бедрах, Александр Иванович в бесформенных брюках, тюбетейке, с тонкими руками, выглядит на пляжном фото на удивление неуместно: по контрасту со своей вполне земной женой в нем всегда было что-то возвышенное, даже аскетическое.
Знали ли Пушкины о физической связи Рудольфа и Тейи? Неизвестно (разумеется, это не обсуждалось с другими членами их кружка), но вскоре Ксении начала претить та значимость, какую Тейя приобретал в жизни Рудольфа. Гораздо тревожнее для них было другое, то, о чем они не догадывались: Тейя постоянно побуждал Рудольфа покинуть Россию. «Он, бывало, говорил: «Уезжай! Беги! При первой же возможности. Не оставайся здесь, или никто о тебе не услышит!» Десять лет спустя, боясь, что Тейя окажет такое же пагубное влияние на Михаила Барышникова, который занял место Рудольфа в привязанностях Пушкина, педагог, пользуясь любыми предлогами, уводил своего юного питомца в другую комнату, если к ним заглядывал Тейя, и прятал его там, пока Тейя не уходил. «Александр Иванович был очень, очень советским человеком, – замечает Слава Сантто. – Я помню, каково всем жилось в то время. Многое, о чем Рудольф мог говорить с товарищами своего возраста, Пушкины просто не способны были понять».
Позируя для Тейи во время выходных на Финском заливе, Пушкины не сознавали, что они на самом деле участвуют в заговоре, в тайной репетиции побега Рудольфа. Вначале Рудольф поднимается по ступенькам на набережной Невы и, остановившись наверху, оглядывается, как будто прощается с городом и друзьями. Потом в кадре появляются снятые крупным планом улыбающиеся лица Ксении, Тейи и Александра Ивановича. Затем мы видим, что Рудольф стоит один на занесенной снегом платформе, к которой подходит поезд. Солнце блестит на рельсах и движушихся колесах; в кадр входит зимний русский пейзаж, смешиваясь с лицами Тейи и Ксении. Рудольф с задумчивым видом сидит у окна; его мысли визуализуются, когда пленка проматывается назад, к кускам его спектаклей на сцене Театра имени Кирова – па-де-де в третьем акте «Лебединого озера», поклон торжествующего солиста. Затем мы видим, как Ксения и Слава Сантто в танце приближаются к камере; камера задерживается на Тейе, который провокационно смотрит в объектив.
И вот перед зрителями снова предстает одинокая фигура Рудольфа. Он стоит на фоне заснеженного пейзажа и постепенно сливается с закатом. «Тейя предсказал будущее Рудольфа, – считает его друг Владимир Федянин. – По-моему, он обладал даром предвидения. Он знал, что Рудольф останется на Западе или превратится в ничто, в пыль».
В начале зимы 1960 г. Жанин Ринге, 20-летняя помощница импресарио из Парижа, работавшая в организации, которая занималась культурным обменом между Францией и Советским Союзом, на несколько недель приехала в Ленинград, чтобы посмотреть спектакли Кировского балета. Прошло четыре года после смерти Сталина, и отношения между двумя странами только начали улучшаться. В 1958 г. в Париже с большим успехом прошли гастроли Большого театра, но о Театре имени Кирова в то время почти ничего не было известно. Жанин, бегло говорившая по-русски и побывавшая почти на всех спектаклях театра, стояла в дирекции за несколько дней до возвращения, когда вдруг заметила афишу «Дон Кихота», которого она еще не видела. «О, нет, это вам будет неинтересно, – сказали ей. – Спектакль старый, и мы последнее время над ним не работали». И все же Жанин настояла, что придет, – она предпочитала проводить вечера в зрительном зале, а не в гостиничном номере.
«Сам балет действительно устарел, но я увидела чудесного молодого танцовщика и никак не могла понять, почему мне не показывали его раньше… На следующее же утро я послала телеграмму своему директору: «Вчера я видела лучшего балетного танцовщика на свете. Его зовут Рудольф Нуреев». Через несколько часов я получила ответную телеграмму, в которой говорилось, по сути, что я еще молода и неопытна и не разбираюсь в таких вещах. Однако, когда я вернулась в Париж и они поняли, что я настроена серьезно, они решили: будет большой ошибкой не пригласить этого танцовщика на гастроли в Париж».




