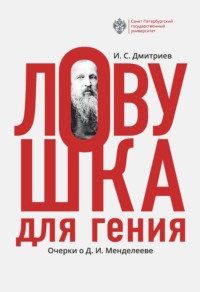Полная версия
Академия благих надежд

И. С. Дмитриев, Н. И. Кузнецова
Академия благих надежд
© И. Дмитриев, Н. Кузнецова, 2019,
© ООО «Новое литературное обозрение», 2019
* * *Hic Tuta Perennat?
Петербургская академия наук в XVIII веке
В России надо было начинать все вдруг и высшее предпочитать низшему: …академию – уездным училищам, корабли – баркам.
В. Г. Белинский[1]Большая степень гражданской свободы имеет, кажется, преимущество перед свободой духа народа, однако ставит этой последней непреодолимые преграды. Наоборот, меньшая степень гражданских свобод дает народному духу возможность развернуть все свои способности.
И. Кант[2]Предисловие
Данная работа представляет собой краткий очерк истории создания и функционирования Петербургской академии наук в XVIII столетии. Это был период, когда время для естественного, вытекающего из предшествующего культурного развития страны формирования научных и образовательных заведений еще не настало, но уже возникли условия, позволившие трансплантированным по указу императора научным и образовательным институтам («Минервенным храмам») уцелеть и даже засвидетельствовать известное процветание. Кроме того, как было отмечено А. Б. Каменским, «мы сегодня переживаем конец той эпохи, начало которой восходит как раз к „осьмнадцатому веку“»[3].
Поскольку истории Петербургской академии наук посвящено немало замечательных исследований, я рассмотрю эту историю в двух ракурсах: 1) отношение между научным сообществом и российской бюрократией и 2) эффективность научной деятельности Академии в указанный период. Выбор именно ранней истории Академии обусловлен тем, что начальный импульс является «наиболее долгоживущим, а время показало, что избранные Академией приоритеты оставались таковыми, почти без всяких изменений, без малого два столетия»[4]. Кроме того, происходящее в отечественной науке и образовании в XXI веке в некоторых отношениях аналогично (разумеется, не по своим конкретным проявлениям, но по некоторому структурному сущностному сходству) тому, что происходило с Академией в первые 70 лет ее истории, ибо принципы, положенные Петром I в основу организации Академии наук, определили те «особости» ее судьбы, которые в итоге стали ее историческими традициями. Об одной из них в 1911 году в речи, произнесенной в день открытия официальных торжеств, посвященных 200-летию со дня рождения М. В. Ломоносова, упомянул В. И. Вернадский, и слова его, увы, не потеряли своей актуальности: «Теперь, как и 150 лет назад, русским ученым приходится совершать свою национальную работу в самой неблагоприятной обстановке: в борьбе за возможность научной работы»[5].
Книга состоит из двух частей, написанных разными авторами: первая (И. С. Дмитриев) касается более событийной стороны, вторая (Н. И. Кузнецова) посвящена анализу ранней истории Петербургской академии наук в более общем ключе (с позиций философии и социологии науки и культурологии). Авторы не во всем сходятся в оценке феномена Академии, и это различие входит в замысел монографии.
Хотелось бы также выразить глубокую признательность Татьяне Михайловне Моисеевой, замечательному специалисту по истории российской науки и культуры XVIII века, много лет проработавшей в Музее М. В. Ломоносова, в том числе в качестве директора, а также ученым секретарем Ломоносовской комиссии Санкт-Петербургского научного центра Российской академии наук.
Стрельчатое окно в курной избе[6]
Все счастливые академии похожи друг на друга, каждая несчастливая несчастлива по-своему. Все смешалось в российской культуре и быте, когда царь Петр Алексеевич начал реформировать русскую жизнь и государство, делая это решительно и бесповоротно, как правило вопреки традициям, а иногда и здравому смыслу. «Надлежало, – по словам Н. М. Карамзина, – …свернуть голову закоренелому Рускому упрямству, чтобы сделать нас гибкими, способными учиться и перенимать»[7]. При Петре I была начата систематическая работа по подготовке отечественных кадров всевозможных специалистов, «начиная с „филозофских и дохтурских наук“ и до печного мастерства»[8]. 13 (24) января 1724 года была основана Петербургская академия наук, потом Академический университет, а при нем гимназия. Несколько ранее, в 1718 году, были созданы Кунсткамера, т. е. первый российский публичный научный музей, и Библиотека[9].

Рис. 1. Портрет Петра I. Художник Поль Деларош (1838). Hamburger Kunsthalle, Hamburg
Сам Петр I в юные годы волею случая был «отторгнут из дворцовой кремлевской среды… его воспитателями стали не московские попы и дьяки, а голландские матросы и плотники»[10], никакого систематического научного образования он не получил, а потому имел лишь весьма смутные, обрывочные представления о современной ему науке. «Дивно всякому было легко рассуждающему, где он и от кого тако умудрен был, понеже ни в какой школе, ни в какой академии не учился, – восклицал Феофан Прокопович. – Но академии были ему грады и страны, республики и монархии и дома царские, в которых гостем бывал; учители были ему, хотя и сами про то не ведали, и к нему приходящие послы, и гости, и его, его угощяющии, потентаты и управители»[11].
Действительно, уже в период Великого посольства (1697–1698)[12] Петр, побывав в Голландии, Англии, Австрии и других странах Европы, где изучал кораблестроение и кораблевождение, посещал лекции по астрономии и анатомии, знакомился с коллекциями музеев и преподаванием наук в университетах, встречался со многими известными учеными и т. д., смог составить более или менее ясную картину западноевропейской научной жизни. Царь не только работал топором на Саардамской верфи, он знакомился с культурной, технологической и научной ситуацией Западной Европы, ибо прежде всего он ездил «за идеями»[13]. К примеру, в Амстердаме Ост-Индская компания специально заложила фрегат «Апостолы Петр и Павел» для того, чтобы царь смог лично участвовать во всех стадиях его строительства. И все же Петр оставался глубоко разочарованным. Дело в том, что «в ходе строительства он обнаружил, что голландцы строят свои корабли, руководствуясь практическими навыками, а не теорией. Разнообразные строительные навыки, вероятно, можно было получить и в России, но навыки, даже если они приводили к практически хорошим результатам, мыслились как нечто низшее, царь требовал от „иностранных учителей“ „ушить ла грамер“ (т. е. учить основам, грамматике. – И. Д.) корабельного дела. Вот как он сам рассказал об этом в предисловии к „Морскому регламенту“: „На Ост-Индской верфи, вдав себя с прочими волонтерами в научение корабельной архитектуры, государь в краткое время совершился в том, что подобало доброму плотнику знать, и своими трудами и мастерством новый корабль построил и на воду спустил.
Потом просил той верфи баса[мастера] Яна Поля, дабы учил его препорции корабельной, который ему чрез четыре дня показал. Но понеже в Голландии нет на сие мастерство совершенства геометрическим образом, но точию некоторые принципии, прочее ж с долговременной практики, о чем и вышереченный бас сказал, и что всего на чертеже показать не умеет, тогда зело ему стало противно, что такой дальний путь для сего восприял, а желаемого конца не достиг“.
Далее сообщается, что Петр был „гораздо невесел ради вышеписанной причины“ и утешился, лишь узнав, что „в Англии сия архитектура так в совершенстве, как и другие, и что кратким временем научиться мочно“»[14].
Но вместе с тем следует отметить, что естествознание интересовало Петра главным образом в его, как выразился В. Хинц, «кунсткамерной форме»[15]. «Выбор Голландии, вне всякого сомнения, был сделан под влиянием „великого посла“ Франца Лефорта, выходца из семьи женевских патрициев, кальвиниста, женатого на католичке. Напомним, что в Голландии Петр основал русскую типографию. Иначе говоря, царь поступил в соответствии с эмигрантским стереотипом поведения: для идеологов всех толков Голландия была притягательна прежде всего как страна свободного книгопечатания. Пусть книги, выпущенные в этой типографии, по содержанию мелки. Но у них есть важная и общая черта: это книги светские (следовательно, амстердамская типография противопоставляется московскому Печатному двору, находившемуся в ведении патриарха Адриана); это книги многоязычные, утверждающие равноправие латыни, сакрального языка католиков, и национальных языков евангелистов. „Вмешательство“ в традицию московского книгопечатания сам Петр считал первой своей реформой»[16].
По-видимому, поначалу он склонялся к созданию в России не академии, но университета. Таков был западный опыт. Молодой царь в беседе с патриархом Адрианом, состоявшейся в декабре 1698 года, т. е. вскоре после возвращения Великого посольства, пожаловался, что в Москве хотя «благодатию Божиею и есть школа, и тому бы делу порадеть можно», да «мало которые учатся» и «никто школы как подобает не надзирает», а потому для подготовки образованного духовенства приходится посылать в Киев. Между тем необходимо, чтобы из «царской школы» в Москве «во всякия потребы люди благоразумно учася происходили, в церковную службу, и в гражданскую, воинствовати, знати строение и докторское врачевское искусство». А кроме того, Петр указал патриарху на необходимость обучения духовенства, поскольку именно в нем он тогда надеялся увидеть проводников своих реформ в массу народа: «Священники ставятся грамоте мало умеют; еже бы их таинств научати и ставити в тот чин. На сие надобно человека и не единого, кому сие творити, и определите место, где быти тому. Чтобы возыметь промысл о вразумлении к любви Божией и знанию его христиан православных и зловещих татар, мордвы и черемисы и иных»[17].
В итоге основанное братьями Лихудами Славяно-греко-латинское училище в Заиконоспасском монастыре[18] было в 1701 году преобразовано в Московскую академию, которая представляла собой полный аналог академии Киевской. В связи с чем иерусалимский патриарх Досифей – в свое время отправивший в Москву ученых братьев Лихудов – в послании от 15 ноября 1703 года упрекал Стефана Яворского (бывшего префекта Киево-Могилянской коллегии, назначенного в конце 1700 года местоблюстителем патриаршего престола), что тот «в конец еллинское училище стерл и токмо о латинских школах старается»[19].
И в Московской, и в Киевско-Могилянской академиях читались лекции по философско-богословским дисциплинам, тогда как право и медицина не преподавались, а потому эти учебные заведения не могли считаться «полными» университетами, хотя в некоторых отношениях были близки к ним[20]. Но формально царский наказ был исполнен: выпускники этих академий, люди «всякого чина и сана», могли служить на разных государственных должностях.
Позднее, по мере усиления контактов с Западной Европой, идея организации в России «настоящего» университета обретала все более отчетливый вид. После капитуляции шведских провинций Эстляндии и Лифляндии[21] Петр пообещал сохранить университет (Academia Gustaviana) в Пернове (совр. Пярну)[22] при условии, что горожане не будут оказывать сопротивления при вступлении в него русских войск. После капитуляции Пернова Петр I подтвердил обещание сохранить университет и даже собирался направить туда на учебу русских студентов, но вскоре университет был закрыт (поскольку шведские профессора покинули Лифляндию) и возрожден только в 1802 году.
В начале XVIII столетия появился ряд проектов организации как отдельных университетов, так и сети высших государственных школ (проекты А. Курбатова, Ф. С. Салтыкова и др.). Авторов этих предложений объединяло понимание того, что русские люди должны «сравняться во всех свободных науках со всеми лучшими европскими государствами», поскольку «без свободных наук и добрых рукоделий не может государство стяжать себе умного имения и такожде будет всегда требовать во всех делех из других ученых государств людей на послуги свои и вспоможение»[23]. Какова была реакция Петра на подобные проекты – неизвестно, но вполне возможно, что он в дальнейшем так или иначе учитывал высказанные в них мысли и пожелания.
Вместе с тем, как отметил А. Ю. Андреев, «вопрос о будущей форме и устройстве нового „петровского“ университета оставался открытым. Следует подчеркнуть, что потенциал развития православных университетов „доклассического“ типа не был исчерпан и… с их помощью можно было удовлетворять требования государства по подготовке образованных людей для различных родов государственной службы. Закономерным продолжением этой тенденции было бы предлагавшееся широкое открытие академий или коллегий при монастырях, а также превращение существующих Киевской и Московской академий в „полные“ университеты. Однако эти тенденции остались нереализованными в петровскую эпоху, что во многом обуславливалось общим направлением проводимой царем секуляризации общественной жизни. Возможность организации российских университетов под церковным управлением была окончательно отсечена Духовным регламентом 1721 года, который поставил перед Святейшим Синодом задачу создать отдельную систему школ для подготовки духовенства – в развитии же светского образования роль Церкви не получала по Духовному регламенту никакой законодательной опоры»[24]. Таким образом, Петр I в итоге отказался от мысли доверить подготовку государственных служащих Церкви. Более того, он перевел монастырские и церковные вотчины под государственное управление, монахам было запрещено держать письменные принадлежности. Царь, ориентируясь на пример протестантской Северной Европы, технически более развитой, чем европейский юг, пришел к другой идее относительно того, как именно надлежит действовать, «чтобы науки и искусства в нашем государстве в вящий цвет произошли»[25], о чем пойдет речь далее.
Крестный отец академии
В исторической литературе отмечается важность контактов Петра с Г. В. Лейбницем, который искренне желал, чтобы русский царь «привел в исполнение прекрасное и великое намерение цивилизовать свою обширную империю и ввести в нее науки, художества и хорошие обычаи… Таким образом, можно было бы сразу усовершенствовать и привести в лучшее состояние значительную часть земного шара и почти весь северо-восток нашего материка»[26].
Петр общался с немецким философом как заочно (Лейбниц неоднократно подавал царю записки о «введении наук и художеств» в России), так и при их личных встречах.
Акад. В. Е. Захаров, физик-теоретик и поэт, с простодушием и безапелляционностью дилетанта заявил на собрании РАН: «Лейбниц впервые встретился с Петром I в 1697 году, во время первого путешествия Петра по Европе, – тогда неотесанный парень из России ему не понравился»[27]. Поэтическое воображение в данном случае подвело Владимира Евгеньевича. Дело было не так.
Как выразился С. М. Соловьев, «цивилизованная Европа выслала двух своих представительниц со своей стороны посмотреть на Петра, на эту диковину, высылаемую нецивилизованною Восточною Европою»[28], а именно: Софию Шарлотту Ганноверскую (Sophie Charlotte von Hannover; 1668–1705)[29] и ее мать Софию Ганноверскую (Sophie von Hannover, Sophie von der Pfalz; 1630–1714). Причем встреча произошла по инициативе этих замечательных дам, одна из которых так мотивировала свое желание в письме тайному советнику, президенту консистории П. Фуксу: «Мне очень жаль будет его не видать, и я хотела бы, чтобы его уговорили проехать здесь, не для того, чтобы что-либо видеть, но, чтобы показаться, и мы с удовольствием сберегли бы в том, что тратят на редких зверей, чтобы использовать его в этом случае»[30].
Поскольку Петр путешествовал инкогнито[31], то встреча происходила в небольшом замке Коппенбрюгге (Coppenbrügge) в 40 километрах от Ганновера и в весьма узком кругу. Лейбниц, как, кстати, и курфюрст Фридрих, на встрече не присутствовал. Повеселились от души: поели, попили («по-московски, т. е. выпивая зараз и стоя»[32]), потанцевали[33] и к утру разошлись.
Личность Петра очень интересовала Софию Шарлотту и ее мать. Последняя так охарактеризовала молодого царя: «У него прекрасные черты лица и благородная осанка, он обладает большою живостью ума; ответы его быстры и верны. Но при всех достоинствах, которыми одарила его природа, желательно было бы, чтобы в нем было поменьше грубости. Это государь очень хороший и вместе очень дурной; в нравственном отношении он полный представитель своей страны. Если бы он получил лучшее воспитание, то из него вышел бы человек совершенный, потому что у него много достоинств и необыкновенный ум». «Видно также, что его не выучили есть опрятно», – заметила другая курфюрстина[34].
Лейбницу же удалось тогда добиться только встречи с племянником Ф. Лефорта Петром[35], которому он передал составленные накануне записки. В первой из них немецкий философ сформулировал свой взгляд на первоочередные задачи, стоящие перед царем в деле «цивилизации» страны:
«Чтобы перенести их (т. е. «науки и художества». – И. Д.) в Россию сообразно с намерением царя, было бы полезно предоставить заботу об этом известным лицам и поручить им составить общий проект, который имел бы следующие два основания: во-первых, привлечь в Россию все, что ни есть лучшего у иностранцев как относительно умных и сведущих людей, так и относительно вещей редких и полезных; во-вторых, совершенствовать у себя в отечестве людей, страну и все, что с этим в связи. Людей можно развивать, заставляя их путешествовать и обучая их дома. Страну же можно совершенствовать, точно изучая все, что в ней есть и чего нет, и стараясь дополнить то, чего ей недостает.
Итак, вот несколько статей, которые заключают в себе все, что необходимо сделать: 1) основать центральное учреждение для наук и художеств; 2) привлечь способных иностранцев (во второй записке Лефорту, конкретизировавшей первую, Лейбниц настоятельно советовал отменить или изменить законы, «которые пугают иностранцев, особенно закон, воспрещающий им свободный приезд и выезд»[36]. – И. Д.); 3) выписать из‐за границы такие вещи, которые стоят этого; 4) посылать подданных путешествовать, приняв надлежащие предосторожности; 5) просвещать народ у себя; 6) составить точное описание страны, чтобы узнать ее нужды, и 7) доставить ей то, чего ей недостает»[37].
В последующих записках и беседах с Петром I Лейбниц по сути придерживался идей, сформулированных им в 1697 году, добавляя и изменяя некоторые детали.
Разумеется, немецкий философ-энциклопедист хотя и уверял Петра и его окружение в том, что предпочитает «интерес общечеловеческий (а следовательно, и славу Божью) всем остальным более частным интересам»[38], однако же не забывал и о последних, и особенно о тех, которые касались лично его. По словам В. И. Герье, Лейбниц, который «давно тяготился своим положением в Ганновере и искал выхода из него» и который «охотно променял бы свою службу у резкого и повелительного курфюрста, мало интересовавшегося наукой, на более легкую зависимость от добродушного Антона-Ульриха»[39], «чрезвычайно желал принять на себя руководство академией, которую советовал учредить в Петербурге, или занять место в ученой коллегии, которой, по его плану, следовало поручить введение наук и устройство учебной части в России»[40]. Но при этом он хотел, получая русское жалованье, оставаться в Германии, чтобы иметь возможность продолжать свою научную деятельность и сохранять свои ученые связи, а главное – свободу (пусть даже относительную). Для Лейбница (как и для любого интеллектуала) вопрос о сохранении своей независимости от тех, кто ему платит, т. е. о возможности по своему усмотрению распоряжаться своим временем и выбором занятий, был главным. Но, как правило, тот, кто платит (будь то государство или патрон/спонсор), этого не понимают и/или не принимают, исходя из того, что если они платят, то они же вправе регулировать творческий процесс. В итоге это приводит к весьма затейливым играм между патроном и клиентом (властью и подданным). «Нет слов, – писал 5 сентября 1695 года Лейбниц немецкому юристу и философу Винсенту Плакку (Vincentius Placcius; 1642–1699), – чтобы описать, насколько я не сосредоточен. Ищу в архивах разные вещи и собираю ненапечатанные рукописи, с помощью которых надеюсь пролить свет на историю Брауншвейгского дома. Я получаю и отправляю немалое число писем». И далее он упоминает также о своих математических и логических трудах, замечая: «Но все эти мои работы, за вычетом исторических, идут чуть ли не тайно. Вы ведь знаете, что при дворе требуют и ожидают совсем иного (Hi tamen omnes labores mei [si Historicos excipias], pene furtivi sunt. Nam in aulis scis longe alia quaeri atque expectari). Поэтому время от времени мне приходится заниматься вопросами международного права и прав имперских князей, особенно моего господина»[41].
Не следует недооценивать и политического фактора. Лейбниц надеялся, что Россия сыграет ключевую роль в коалиционной борьбе против Османской империи, т. е. поможет «смирить турок и изгнать магометанство по крайней мере из Европы»[42], для чего России потребуется пройти этап модернизации, или, говоря словами Лейбница, «благоустройства… и возделывания до совершенства вертограда (plantation)»[43], данного Богом русскому самодержцу, а в этом деле «ничто не может быть так важно… как наука и художества»[44].
Вполне возможно также, что Лейбниц, видя возрастающее могущество России, опасался, что в итоге оно может быть обращено против Западной Европы, а потому полагал необходимым, в интересах западного мира, «цивилизовать… обширную империю и ввести в нее науки, художество и хорошие обычаи»[45].
Как изящно подытожил позицию Лейбница академик М. М. Богословский, немецкий философ «в необъятной стране восточных варваров видел, с одной стороны, источник для лингвистических и этнографических ученых изысканий, а с другой – пригодный материал для политических экспериментов»[46]. Разумеется, Лейбниц, особенно в последнее десятилетие своей жизни, ратовал за включение России в систему европейских государств. Но его позиция определялась не какими-то пророссийскими симпатиями и даже не тем, что он «поддался магии, исходившей от Петра»[47], но прагматической необходимостью расширения цивилизационного пространства Европы, необходимостью, порожденной военно-политическими, геополитическими и экономическими соображениями. Иными словами, встретились два прагматика с разными «бизнес-планами»: один отстаивал идею цивилизовать Россию в интересах Запада, другой надеялся ее преобразовать, исходя из ее интересов, используя Запад как инструмент задуманного преобразования. Если верить графу А. И. Остерману, Петр сформулировал свою программу с солдатской прямотой: «Мы возьмем у Европы все полезное, а потом повернемся к ней задом»[48].
В ноябре 1708 года Лейбниц тайно встречался с русским послом в Вене, своим давним знакомым бароном Иоганном Кристофом фон Урбихом (Johann Christof von Urbich; 1653–1715). О чем они говорили – неизвестно, но результатом их переговоров стала датированная декабрем 1708 года следующая записка, которую Лейбниц составил для передачи Петру I:
«§ 1. По требованию его превосходительства царского уполномоченного я набросал здесь на бумаге несколько мыслей о введении истинной науки в обширном государстве его царского величества, ибо для меня не может быть ничего приятнее, как содействовать сколько-нибудь общему благу и усовершенствованию людей, а также славе Божьей, тем более, что это царство обнимает большую часть земного шара, т. е. почти весь север нашего полушария. Кроме того, я полагаю, что так как эта страна представляет почти непочатое поле и, подобно новому сосуду, не усвоила себе чуждого запаха, то многие вкравшиеся у нас ошибки могут быть предотвращены и исправлены, особенно потому, что всем будет руководить ум мудрого государя.
§ 2. Истинную цель науки составляет блаженство людей, т. е. состояние постоянного удовлетворения, насколько это возможно для человека, причем они не должны жить в праздности и роскоши, но содействовать всякий по своим силам прославлению Господа и общественному благу нелицемерной добродетелью и познанием истины. Средство, с помощью которого можно повести людей на этот путь добродетели и счастья, заключается в хорошем воспитании юношества. Посредством воспитания можно даже у животных делать чудеса, тем более у людей, которые получили от Господа бессмертную душу и созданы по его образу и подобию. Юношество можно так вести, чтобы вселить в него любовь к добродетели и охоту к науке; взрослых же, которые не получили такого воспитания, нужно сдерживать страхом наказания; с ними приходится иметь много терпения и им следует многое прощать.