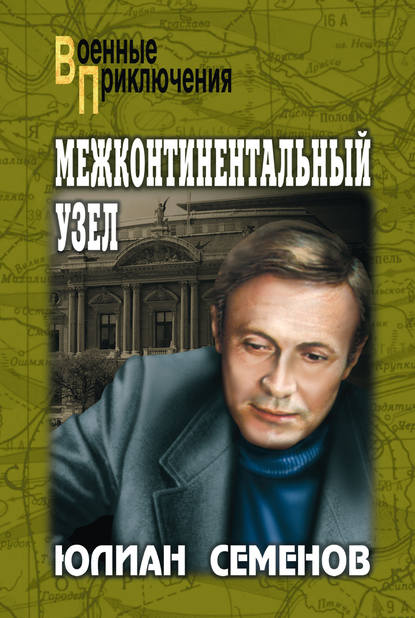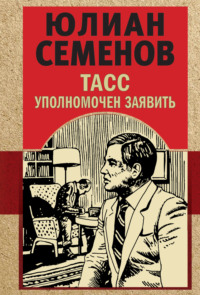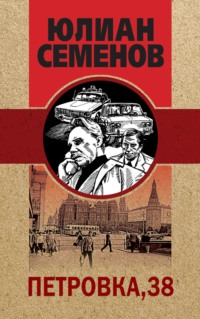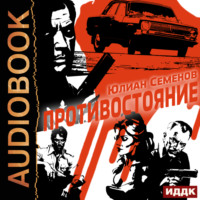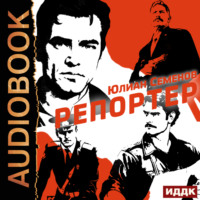Полная версия
Бриллианты для диктатуры пролетариата. Пароль не нужен
Волобуев долго сидел, закрыв глаза, потом спрятал наган в кобуру, подошел к Белову, взял у него из рук портфель и, открыв замки, высыпал содержимое на стол. Выросла горка золота: три портсигара, двенадцать штук часов, пятнадцать колец с бриллиантами, четыре десятирублевые царские монеты.
Волобуев долго сидел возле этой горки золота и медленно трогал каждый предмет руками… Потом – неожиданно для себя самого – уронил голову на это тусклое, холодное золото и завыл – на одной ноте, страшно, по-бабьи…
– Хочешь – все забери, только меня – Христом Богом молю – выпусти, – услышал он у себя за спиной голос Белова. – Бери, никто и не узнает, я, как могила, немой, я слова не пророню, дяденька…
Волобуев вытер слезы, высморкался в тряпочку и сказал:
– За слабость простите, а предложение взятки, конечно, в особый протокол выделим, и карманы валяйте навыворот – все, что есть, ложите на стол.
В карманах у Белова оказалось сто пятьдесят тысяч рублей, удостоверение работника Гохрана РСФСР и письмо без адреса следующего содержания:
«Гриша, я вынужден написать тебе это письмо, потому что от личных встреч ты постоянно уклоняешься, а это мне горько – и по-человечески и по-дружески (прости меня, но я по-прежнему считаю тебя другом, а не случайным сожителем по комнате).
Когда мы встретились с тобой, помнишь, ты ж был одним из лучших людей, каких я только знал, – ты последнюю рубаху мог отдать другу.
А что ж стало с тобой сейчас, Григорий? Неужели власть золота и жемчугов для тебя важнее великой власти мужской дружбы? Если так – изволь передать мне третью часть из того, что получаешь у себя в Гохране. В случае, если ты откажешься выполнить эту просьбу, я донесу властям о твоей деятельности на службе – не открытой, за которую ты получаешь деньги от правительства нашей трудовой республики, а тайной, которая наносит ущерб несчастным голодающим пролетариям. Следовательно, если к завтрашнему дню, к утру, ты не придешь на нашу квартиру и не выделишь мне драгоценностей на сумму в 1 (один) миллион рублей, то я сразу же сделаю заявление в ВЧК. Твой бывший друг, а ныне знакомый Кузьма Туманов».
– Где Туманов проживает? – спросил Волобуев.
– На Палихе.
– Палиха – это что такое?
– Улица это в Москве.
– Значит, надо говорить, улица такая-то, дом такой-то.
– Дом двенадцать, квартира шесть «а».
– Это как так, шесть «а»? Пять есть пять, шесть – будет шесть, а если семь – так и надо говорить.
– Быдло проклятое! – закричал Белов. – За что ж ты мне попался в жизни?! Темень перекатная! Не буду я тебе ничего говорить! Не стану, понял! Не стану! – И тут Белов бросился на агента угро, но бросился он неумело, парнишка был изнеженный, поэтому Волобуев легко толкнул его кулаком в плечо, Белов упал и начал биться головой о грязный, заплеванный пол.
– Не допрос у нас с тобой, – заметил Волобуев, отходя к двери, – а взаимная истерика. Только если когда я вою – так я по голодающим вою, а ты звереешь по своим часам да монетам, сука поганая.
Он распахнул дверь и закричал:
– Лапшин! Эй, кто-нибудь там, Лапшина найдите, пущай он понятых пригласит и сюда топает, тут у меня буржуй пол слюнявит и пятками зад молотит.
В тот же день МЧК забрала Белова к себе. Находился он в состоянии прострации, вопросы понимал плохо. Вызванный доктор констатировал сильный нервный шок и дал задержанному успокаивающее лекарство, предписав на допросы его в течение ближайших пяти дней не водить.
Председатель МЧК Мессинг наложил резолюцию: «Нач. тюрьмы. Просьба выполнить предписания врача».
Все поиски Кузьмы Туманова ни к чему не приводили: он исчез, как в воду канул. Оперативная группа МЧК выезжала в деревню Аверкино, где жил отец Белова – Сергей Мокеевич. Раньше он имел три трактира, но все они были конфискованы новой властью в девятнадцатом году. Обыск в доме старика Белова ничего не дал.
Через неделю доктор увидел в заключенном резкую перемену. Тот жадно заглядывал в его глаза и шепотом спрашивал:
– Доктор, а если я чистосердечно – не постреляют?
– Я, голубчик, врач и тонкостей этих, право, не знаю… Нуте-ка, ножку на ножку…
– Да, господи, при чем здесь ножка? Я на следующую ночь, как вы уехали, проснулся – весь в поту. Все глаза боялся открыть – думал, вот бы сон это был, вот бы сон… Лежал так, лежал, а потом один глаз открыл – а тут потолок серый и лампочка в решетке. И так я плакал, доктор, всю ночь плакал. А и плакать сладостно: сколько мне еще раз в жизни плакать? И боль чувствовать в руке, словно током пронзило – отлежал на нарах, – все равно приятно… И в парашу пописать – тоже сладостно так, нежно…
– А раньше о чем думали? – спросил доктор. – Когда начинали все это?
– Вы, пьяный, о чем думаете?
– Я уж, милейший, забыл, когда пьяным был…
– А я пьяный – дурной. За девицу черт знает что могу натворить. Меня, когда пьян, кураж разбирает. Наутро совещусь в зеркало смотреть – плюнул бы в рожу-то, а хмельной сам себе так нравлюсь, сильный я тогда, весь в презрении, а девицам это очень загадочно.
– Вы как в смысле секса?
– Секс – это половой акт?
– Почти, – доктор не смог сдержать улыбки.
– Могу, только если пьяный. Когда трезвый, я с девицами цепенею и слова не могу сказать, не то что секс.
– В роду у вас больных падучей не было?
– Не псих я, доктор, не псих… Я все отчетливо понимаю, что вокруг происходит, где я сижу и что может быть…
Доктор выписал новую порцию успокаивающих средств, хотя в беседе с начальником тюрьмы высказал предположение, что арестованный вполне вменяем.
Той же ночью Белов написал письмо Дзержинскому с просьбой вызвать его на допрос. Когда ему в допросе отказали, он объявил голодовку. От молодого парня этого не ожидали. В тюрьму приехал председатель МЧК Мессинг[6].
– Какие у вас претензии? – спросил он Белова. – Почему голодовка?
– Потому что меня не допрашивают.
– Вы не в том состоянии, чтобы вас допрашивать.
– Мне каждый день в неведении – как смерть… Я на себя руки наложу!
– В отношении наложить на себя руки – мы этого постараемся не допустить. – Мессинг полуобернулся к начальнику тюрьмы и попросил: – Если будет замечен в подобного рода фокусах, посадите в карцер.
– Ясно, товарищ Мессинг.
– Что еще имеете заявить, Белов?
– А вы мне что имеете заявить?
– Не паясничайте!
– Я не паясничаю. Каждый человек имеет свою манеру обращения… Я хочу знать, что меня ждет, если я принесу покаяние?
– Чистосердечное покаяние приносят, когда человек без этого не может, если он себя хочет очистить… А если он торгуется – «вы мне за покаяние булку», – тут у нас разговора не будет…
– Я не булку прошу, а жизнь…
– Пока ставите условия – разговора у нас не получится. И с голодовкой – прекратите, несерьезно это. Потерпите дня два, а потом заскулите…
– Почему вы так жестоко со мной говорите?
– Скажите спасибо, что я с вами говорю, Белов. Мне очень хочется вас расстрелять – прямо здесь, не сходя с места… Ладно, ладно! Москва слезам не верит!.. На те драгоценности, которые у вас отобрали, можно завод накормить!
– Но мне же двадцать лет! Двадцать всего! – закричал Белов и начал хрустко ломать пальцы. – Я жить хочу! Мне надобно жить – я ведь молодой, глупый!
– Свою голову надо иметь в двадцать лет… Мне – двадцать шесть, кстати говоря. Хотите – напишите все подробно на мое имя: и про то, как убили Кузьму Туманова, и про то, где оборудовали тайник, – неторопливо говорил Мессинг, замечая, как расширяются зрачки Белова и как он медленно подается назад, – и чем подробнее напишете – тем будет лучше…
– Для меня?
– Больше, конечно, для нас, – усмехнулся Мессинг, – но, глядишь, трибунал учтет ваши глупые годы, глядишь – докажете, что не вы похищали, а другие, а вы только были передаточным звеном…
«Молчи, кругом молчи, – вспомнил Белов отчетливо и до жути явно лицо Ивана Ивановича во время их последней встречи. – Как бы ни было тебе страшно и плохо – молчи. Это я не пугаю тебя, это я тебе свою тайну открываю. Ты гляди: амнистии каждый год – на Первомай и в Октябрьские. Раз. Потом – не долги они, их голод сломит. Два. Мы своих в обиду не даем, у нас тоже руки длинные, мы из таких передряг выходили – что ты… это третье будет. И помни, время всегда на того работает, кто смел и тверд. Кто раскис, того время сразу в расход списывает».
– Ничего я писать не буду, – сказал Белов наконец. – Можете и не допрашивать: под лежачий камень вода не течет. Не хотели по-хорошему – и не надо.
– От мерзавец, – удивленно протянул Мессинг, – ну, каков же мерзавец, а? Ладно, иди в камеру. И запомни, больше я с тобой говорить не стану – как ни проси. Это мое последнее слово, гаденыш…
Об аресте Белова Мессинг поставил в известность замнаркомфина Альского[7], попросив его об этом никому больше не сообщать.
– Я бы даже порекомендовал вам сообщить в Гохран, что Белов откомандирован в Тобольск.
– Такие фокусы мне не очень-то нравятся, – ответил Альский, – но если вам это кажется целесообразным, я пойду навстречу – в виде исключения.
– Товарищ Альский, исключение здесь ни при чем, просто Белов похитил драгоценностей на миллион.
– Сколько?! – ахнул Альский. – Не может быть!
– Знаете, у меня от правды голова трещит, так что выдумывать сил нет, да и профессия мне этого не позволяет.
– Кто оценивал?
– Мы возили цацки в Петроград, чтобы не подключать к делу ваших гохранщиков.
– Из-за одного негодяя ставите под сомнение коллектив?
– Где вы там видели коллектив?
– А Шелехес? Пожамчи? Александров? Левицкий, наконец, старый спец, который прекрасно работает?
– Помимо названных товарищей там трудится еще много народа. И у меня есть к вам просьба: было бы целесообразно ввести троих наших людей к вам – под видом рабочих. Как вы к этому отнесетесь?
– Отрицательно, – ответил Альский. – Неужели вы не верите, что мы сами сможем навести там порядок? Я назначу ревизию, брошу настоящих специалистов – зачем же считать Гохран каким-то притоном?
– Глядите… Я не имею права вторгаться в ваши прерогативы, но Феликсу Эдмундовичу я об этом деле доложу.
Начало начал
Когда в приемной ВЧК рано утром раздался звонок и некто хрипловатым голосом с нерусским акцентом спросил прямой телефон начальника контрразведки и когда выяснилось, что звонил к чекистам поляк Стеф-Стопанский, досье на которого было весьма пухлым (Стопанский был сотрудником второго отдела польского генштаба), беседовать с ним член коллегии ВЧК Кедров[8] отправил по совету Дзержинского – помначинотдела Всеволода Владимирова.
– Всеволод с его блеском, – сказал Феликс Эдмундович, – в беседе со шляхтичем будет незаменим. Молодость Всеволода, его изящество и мягкость позволят нам точно понять Стопанского: зубр, видимо, решит поиграть с нашим юношей. Всякая игра рано или поздно открывает разведчика, его истинные намерения. А отказываться от контакта со Стопанским неразумно: у него есть выходы на Лондон, Париж и на Берлин.
Встретился Всеволод со Стопанским в табачной лавке на Третьей Мещанской. Цепко оглядев собеседника, поляк сказал:
– Мне приятно увидаться с вами, и я понимаю, где мы с вами сейчас находимся. Однако я просил бы пристрелочную часть разговора провести на улице, где нас никто не будет слышать. Если мы верно поймем друг друга на воле, – он усмехнулся, – кажется, так у вас говорят о «не тюрьме», тогда мы продолжим беседу здесь, где, как я догадываюсь, каждое мое слово будет слышно еще по крайней мере двум вашим сослуживцам.
Всеволод весело посмотрел на Стопанского, взял его под руку и сказал:
– Не скрою, я чертовски устал, поэтому прогулка мне не помешает – особенно с таким интересным собеседником.
…Выезжая на встречу с поляком, он уже знал от службы наружного наблюдения, что Стопанский идет один. На всякий случай, правда, он надел дымчатые очки с нулевой диоптрией – он относился к тому типу людей, которых очки очень сильно меняли.
Они шли по булыжному тротуару, сквозь который уже проступала свежая, словно бы подстриженная на английский манер трава, мимо маленьких домиков, и со стороны казалось, что прогуливаются два товарища.
– Так что же вас привело ко мне? – спросил Всеволод.
– К вам меня ничто не приводило. Я пришел в ЧК.
– Похвально. Я, как индивид, и мы, как коллектив, любим, когда к нам приходят интересные люди…
– Представляться мне надо?
– То есть?
– Звание, операции, связи?
– Вообще-то мы знаем вас.
– Вы знаете, что я подполковник польской разведки?
– Детали, думаю, мы лучше запомним, если они будут изложены в письменном виде. Нет?
– Вы думаете, я стану писать?
– Станете. Если вы затеяли что-то против нас – вам придется играть. А если вас привело к нам истинное намерение сотрудничать, вы захотите убедить нас в своей искренности и начнете делать это с мелочей, а именно: с фамилий ваших друзей, близких и родных. Разве нет?
– Браво!
Взгляды их встретились. Всеволод улыбался, и в глазах у него не было той жестокости и чувства превосходства, которое так боялся увидеть Стопанский.
В свою очередь Всеволод отметил, что поляк небрит, рубашка у него измятая, ботинки не чищены, пальто испачкано, на левом плече несколько пушинок, а пальцы покрыты тем сероватым налетом грязи, который особенно заметен на ухоженных и полных руках.
– Браво! – повторил Стопанский. – Вы четко мыслите, молодой человек…
– Иначе не стоит.
– Я не хотел обидеть, упомянув про вашу молодость…
– Этим нельзя обидеть. Наоборот…
– Я не знаю, – сказал Стопанский, начавший отчего-то злиться, – приходилось ли вам иметь дело с серьезными агентами из иностранных разведслужб, но хочу заметить: польский генштаб сейчас находится в средоточии интересов всех европейских стран. Я, в частности, имею контакты с французами и англичанами.
– Помните имена ваших людей в Париже и Лондоне?
– Естественно.
– Операции?
– Старые?
– Новые тоже.
– Те, которые собирается проводить Лондон и Париж, я не знаю. Но их операции меня не минуют – я считаюсь специалистом по Совдепии… Когда доложите начальству об этой беседе? Можете пригласить кого-либо из ваших ответственных руководителей?
– Это мы устроим, – пообещал Всеволод.
– Когда?
– Дней через семь.
– Это невозможно…
– Ну что ж делать…
После долгой паузы Всеволод спросил:
– Когда вас обокрали?
Он не знал наверняка и не мог знать этого. Просто его мозг – мозг аналитика, человека смелого и веселого – автоматически проанализировал факты: из всей массы полученной информации Всеволод отобрал для себя следующую: во-первых, поляк голоден, ибо он несколько раз смотрел на вывески трактиров и принюхивался к запахам жареной колбасы; во-вторых, он хочет курить, но курева у него нет; в-третьих, Стеф-Стопанский слыл щеголем, и одежда его всегда отличалась отменным вкусом, а сейчас он был неряшлив и грязен; в-четвертых, он всячески подчеркивал свою значимость, а это обычно бывает с людьми, которые вынуждены в силу каких-то обстоятельств больше уповать на прошлое, чем верить в спасительное будущее.
Стеф-Стопанский брезгливо поморщился:
– Ваша работа?
– Разве друзья в посольстве не могли вам помочь? – не отвечая на его вопрос, продолжал Всеволод.
– В Европе вы не жили?
– Жил.
– Видимо, в среде эмиграции… Взаимовыручка, товарищество и так далее… Молодой чело… Простите…
– Да нет, господь с вами, пожалуйста, пожалуйста… Мы ведь чины не возрастом выслуживаем.
– Деловыми качествами?
– Именно.
– Кто в Европе «просто так» дает деньги?
– Заявите, что вас обворовала ЧК… Неужели на обратную дорогу не воспомоществуют?
– Браво! А в Варшаве что делать?!
«Оп! – сказал себе Всеволод. – Мышка попалась! Там ему будет нечего кусать, потому что прогонят из разведки, ибо он что-то важное тащил в портмоне или слишком много денег. Видимо, он к нам прет вчистую».
– Закуривайте, – предложил Всеволод.
По тому, как жадно затянулся Стопанский, норовя при этом держать папиросу так, чтобы не показывать свои грязные пальцы, Владимиров до конца уверовал в то, что его версия правильна.
– Зайдем в трактир? – предложил Всеволод.
Наказав Стопанскому извозчичьей колбасы, холодца и пива, он сказал:
– В ресторан, видимо, идти нет смысла: там могут быть ваши знакомые.
Стопанский молча кивнул, потому что рта открыть не мог – колбаса была горячая, но, как всякий голодный человек, он отрезал себе слишком большой кусок и сейчас осторожно втягивал ноздрями воздух, чтобы как-то остудить шипучее, грубое, прекрасное мясо…
После обеда Стеф-Стопанский закрыл глаза и сказал:
– А теперь за час сна – полжизни.
– Пошли ко мне: там все обговорим, и можете лечь поспать, пока вам приготовят номер в гостинице. У меня еще несколько вопросов к вам.
– Пожалуйста…
– Вам фамилия Бечковский ничего не говорит?
– Нет.
– А Кряковяцкий?
– Нет.
– А Леснобродский?
– Полковник Леснобродский? По-моему, он курирует ваше представительство в Варшаве.
«Нота полномочного представителя РСФСР в Польше
Министру Иностранных Дел Польши
Скирмунту
В течение последних недель в Российское полномочное представительство несколько раз являлось неизвестное лицо, впоследствии оказавшееся агентом II отдела Польского генерального штаба полковником Леснобродским, с предложением доставлять Российскому правительству официальные секретные документы из Польского генерального штаба. В Российском полномочном представительстве он встречал неизменный отказ воспользоваться его предложением. Тем не менее 10 октября поздно вечером полковник Леснобродский явился в Российское полномочное представительство и принес с собой разнообразные документы и целое секретное дело о польском шпионаже в Германии с многочисленными печатями, подписями, штемпелями II отдела, с картой и фотографиями якобы польских шпионов в Германии и предложил купить у него за 500 000 марок все эти документы. Как только мне было об этом доложено, я сейчас же позвонил вице-министру г. Домбовскому и просил его немедленно командировать в полномочное представительство чиновника министерства иностранных дел совместно с представителями других властей для составления протокола и ареста полковника Леснобродского. Вице-министр г. Домбовский за поздним временем, к сожалению, не мог командировать представителя министерства иностранных дел. В полномочное представительство были командированы лишь представители общей и сыскной полиции, которые арестовали полковника Леснобродского, но отказались допросить его. Отсутствие в деле первого показания г. Леснобродского в самом полномочном представительстве является существенным ущербом для нормального следствия, который может отразиться на дальнейшем ходе его. Во время ожидания представителей польских властей полковник Леснобродский сознался, что ему в качестве агента II отдела генерального штаба поручено было непосредственным начальником, майором Кешковским, войти в доверие полномочного представительства с провокационной целью и что доставленные им документы являются фальсификацией, изготовленной II отделом и врученной ему майором Кешковским для продажи Российскому полномочному представительству.
В то время как Российское и Польское правительства путем переговоров стараются уладить недоразумение между обеими сторонами и достигли недавно соглашения по всем спорным вопросам, Польский генеральный штаб прилагает все усилия, чтобы какой-либо преступной провокацией обострить и испортить отношения между Россией и Польшей.
В последнюю неделю в Российское полномочное представительство систематически являлись подозрительные лица, которые представляли удостоверения II отдела Польского генерального штаба за подписью майора Кешковского и предлагали доставлять нам разнообразные документы. Каждый раз такие предложения оканчивались нашим требованием немедленно покинуть здание полномочного представительства.
В свое время, когда Российское правительство опубликовало документы, установившие преступную работу II отдела генерального штаба в контакте с “Народным союзом защиты родины и свободы”, возглавляемым Савинковым, Одинцовым и другими, уличенные лица, защищаясь, пытались прикрыть преступление фельетоном, напечатанным во всех польских газетах за подписью Масловского. Чтобы оправдать и усилить этот способ защиты, II отделом генерального штаба был задуман план действительной провокации, который, удавшись, должен был служить оправданием и спасением от законного и неопровержимого обвинения, которое Русское правительство предъявляло Польскому генеральному штабу.
Случай с полковником Леснобродским с очевидностью устанавливает, что против Российского полномочного представительства ведется широко задуманная провокационная работа, руководимая Польским генеральным штабом.
Представляя при сем 1) одну копию протокола, составленного 10 октября в Российском полномочном представительстве, 2) удостоверение полковника Леснобродского за № 3835, выданное II отделом Польского генерального штаба за подписью майора Кешковского, 3) все документы, доставленные в Российское полномочное представительство для продажи по поручению II отдела того же штаба г. Леснобродским, имею честь просить Вас, господин министр, предпринять шаги, которые Вы найдете нужными, к пресечению провокационной работы II отдела Польского генерального штаба, которая ставит своей целью осложнение отношений между Россией и Польшей.
Примите, господин министр, уверение в совершенном моем уважении.
Карахан[9]».Ноту эту Стопанскому показали ночью, сразу же после того, как Всеволод сообщил Кедрову о данных, связанных с Леснобродским. Ноту в целом Стопанский одобрил и даже шутливо завизировал ее.
Наутро он начал давать показания. Наиболее серьезным было то, что, по его данным, в Ревеле среди сотрудников русского посольства есть человек, работающий на чужую разведку.
– На какую именно разведку он работает, не знаю, но факт сам по себе бесспорен. Из обрывков разговоров могу предположить, что готовила этого человека к вербовке эмиграция.
Всеволод запросил данные на ревельскую эмиграцию. Ему принесли список имен наиболее видных личностей в Ревеле из разных лагерей: от крайне правого монархиста Воронцова до эсера Вахта, редактировавшего газету «Народное дело». Он назвал Стопанскому фамилии лидеров комитета содействия эмигрантам и беженцам: Вырубова, Львова, Зеелера, Оболенского, редакторов кадетских «Последних известий» Ратке и Ляхницкого в надежде, что поляк вспомнит кого-либо конкретно, но Стопанский категорически утверждал, что хотя имена эти он и слышал, но протянуть какую-либо связь к русскому дипломату он не решается.
Сказал он также, что в Москве существует глубоко законспирированное подполье, имеющее в своем распоряжении громадные запасы бриллиантов, золота и платины. Подполье это сторонится всяких аспектов политической борьбы и преследует лишь своекорыстные цели личного обогащения. Кое-кто из этих людей поддерживает контакты с представителями здешних дипломатических кругов, которые не только скупают драгоценности, но в ряде случаев являются передаточным звеном: драгоценности уходят в Париж и в Лондон, а после маклеры играют на бирже, причем на понижении акций фирм, которые начинают торговые сделки с Россией.
– Мне сдается, что один из моих здешних друзей, – их имена, как вы понимаете, я не называю и не стану называть впредь, – сказал Стопанский, – связан с этим московским подпольем, но в корыстных, личных целях – он покупает драгоценности для себя, и у меня, кстати, похитили принадлежащие его семье деньги – две тысячи долларов, – об этом разговор впереди…
– А если мы своими возможностями найдем этого человека?
– Вы вольны делать все, что угодно, это ваш долг. Важно, чтобы я не испытывал угрызений совести. Кстати, в подполье Москвы нам известно имя богатейшей старухи – Стахович Елена Августовна…
Через три дня, после очередной беседы со Стопанским, член коллегии ВЧК Глеб Иванович Бокий[10] вызвал начальника МЧК Мессинга, старшего помощника начальника спецотдела Будникова и Владимирова.
Поначалу, еще до этого совещания, Бокий был у Дзержинского и Уншлихта[11]: он предлагал установить за валютчиками более пристальное наблюдение, но Уншлихт круто возражал:
– Это вам не эсер или кадет, который токует, как тетерев. «Аполитичные» валютчики куда как осторожнее и мудрее. Каждый час чреват тем, что драгоценности могут уйти из России. Надо брать сразу. Тщательнейшие обыски, четко разработанные допросы: в данном случае временной риск не оправдан, это вам, – он усмехнулся, – не контрреволюционный заговор, к тем мы можем присматриваться не торопясь…
Бокий не соглашался с Уншлихтом: