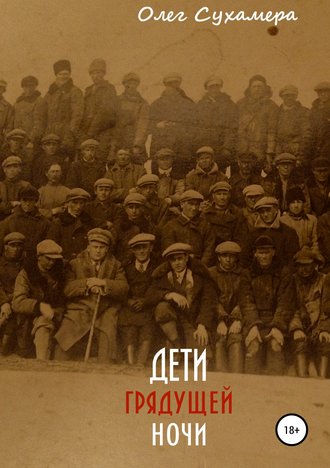 полная версия
полная версияДети грядущей ночи
– Ну, как тебе «наши люди»? Скажи спасибо, не пустили по кругу. И то благодаря офицерью, против которого ты агитировала. – Сергей цыкнул красной слюной на земляной пол сарая и потрогал отекшее от удара прикладом ухо.
– Бывает, – Мира попыталась извернуться, чтоб ослабить стянувшие ее путы, но ничего не вышло. – Добротно связали. Уроды.
– Так уж и уроды. Наши товарищи, рабочие, крестьяне… – Сергей не удержался, чтоб не съязвить. – Маленькая искра сделала большой пшик. Чего такого? Бывает…
– Хватит ныть! Давай что-то думать. Как выбираться теперь?
– А никак. Стреножили на совесть. У входа два часовых, калачи тертые, по виду понятно. На мякине таких не проведешь. Пой «Интернационал»…
– Зачем?
– Там слова, подходящие ситуации: «это есть наш последний и решительный бой». Ну, не бой, конечно, замени на «ой» – в самую тютельку про нас получится.
– Марута, тебя зачем ко мне прикрепили? Ты ж не из таких передряг выпутывался! Кто из нас мужчина?
– Знаешь, я начал сомневаться. Был бы мужиком, не повелся б на романтические фантазии. Агитатор ты что надо. Не отнять. Клюнул на твои бредни, ч-черт… сами полезли в мышеловку.
– Прости. И что теперь …с нами?
– Хорошо, чтобы трибунал назначили. Время б появилось, и шансы. Призрачные… А если не в масть судьба попрет, то….
– Что?
– Ничего особенного. Расстреляют в ближайших кустах. Военное время. А чего им? Тренькаться с нами? Легко.
Мира насупилась и закусила губу.
– Ясно. Знаешь, что хотела бы тебе сказать перед смертью?
– Знаю. Любишь меня, и все такое. И тебе жалко, что не повстречала такого орла раньше.
– Придурок…
– Спасибо за комплимент. Так что хотела сказать? Говори.
– Не скажу теперь. Так и помрешь в неведении. Зря я, дура, в любви хотела объясниться. Думала сказать тебе, что ты настоящий. Что даже Борис, муж мой, подумала сейчас, мельче будет по характеру.
– Вот. И я о чем. Само время для прощальных поцелуев? Мне так кажется…
Мира еле слышно рассмеялась.
– Куда? Ты свои губы видел? Две синие лепешки! А ухо! Как у слона.
– Угу. Но внутренняя красота вроде бы тут, никуда не делась!
– Это факт. Душа у тебя красивая, Марута. Потерпи. На том свете всего тебя обцелую!
– Заманчиво. В таком разе жду не дождусь расстрела, – Сергей заухал, рассмеявшись, но тут же скорчился: прихватило в отбитом прикладами боку.
* * *Полковник понюхал воздух, брезгливо поморщился, порылся в карманах кителя и извлек белоснежный платок, который немедленно приложил к носу. Тимофей Ильич по мере сил изобразил глазками сострадание к пленникам, и у него почти получилось, если бы не голос, приобретший под тряпицей отвратительный гнусавый тон: «Удастный, удастный и отвдатильный поступок! Мододые люди… Могни бы дить и дить… м-да. А то тицяс? Дасстлел! Да-да! По даконам боенного бмевени! Бне искненне пзяль…такая пимпатицная паочка».
Сергей едва не заржал от пламенной риторики, но почуял, что командная шишка образовалась не на пустом месте. К гадалке не ходи, какой-то корыстный интерес у полковника имеется.
– Ваше превосходительство, давайте сразу к делу. Нотациями нас не исправишь. Другое дело, если у нас есть что предложить друг другу.
– Похбальное благобазумие! Ободяю делобой подход! Итак, мододые люди, у бас есь дба пути. Дасстрел без суда и сдетствия дибо… этап в тыл, сдетствие, суд… Зызнь! Я пнедвагаю бам зызнь, мададые бюди!
Мира, подавив приступ дурацкого смеха, ответила как можно серьезнее:
– Спасибо. Мы согласны.
– Отницно! – Тимофей Ильич, позабыв о сарайных миазмах, опустил платок и бойко начал излагать часть своего гениального плана наивным революционерам.
– Итак, господа. Не будем вдаваться в моральную сторону вашего, кхм, проступка. Бог вам судья. Что от вас требуется. Немного, право слово. Завтра на утренней поверке мы устроим показательный допрос. И в ходе его вы должны назвать лишь одну фамилию. Ротмистр Булатов. Это он помог вам проникнуть в часть, оказал помощь, направил и – кхм – благословил. Вы, пешки, рядовые, так сказать, звенья цепи, лишь озвучивали крамольные мысли. А вот вложил их в ваши юные головы этот негодяй ротмистр. Как поняли?
Мира скривилась, как будто в рот ей залетела муха.
– А что, если мы скажем нет?
– Ничего. Отдам приказ, и через минуту ваше прекрасное молодое тело начнет гнить в яме неподалеку. А душа отправится в ад. В компанию к таким же, как вы, предателям Отечества.
Сергей заметил, как в зрачках женщины вспыхнули хорошо знакомые яростные огоньки. Пока любимая не наговорила дерзостей милашке полковнику, пришлось взять инициативу в свои руки.
– Так кто такой, говорите, этот ваш Булатов?
– Ужасный человек! Такой же, как и вы… Одним словом, преступник!
– И если мы поможем вам…
– То и я не останусь в долгу. Слово чести!
– Отличное предложение. Все организовал ваш негодяй ротмистр Булатов. Как он хоть выглядит?
– Чем-то на вас похож, голубчик. Может, поменьше ростом. До завтра! Будут ли какие-то особые пожелания?
– Покурить – мне, пищи и воды – даме.
– Будет. Алешенька, распорядитесь. Что ж. Прошу не подвести. Или… что мне вас учить… До завтра, господа-товарищи! – Окрыленный благополучным началом очередной интриги полковник вышел из сарая бодрым шагом.
* * *Объявили утреннее построение. Вестовой шепнул Стасу, что поймали каких-то лазутчиков, которых, скорее всего, публично казнят.
Ротмистр затягивал портупею, хмурился. С приходом нового командира всякого рода показательные экзекуции перестали быть редкостью. Раз в месяц, а то и чаще, Тимофей Ильич Лаевский находил повод, как проявить жесткость и решительность, которых так не доставало ему на поле брани.
Плешивый самодур своими дурацкими приказами за год командования погубил едва ли не больше народу, чем ушлые вояки немцы. На штабных совещаниях Стас по привычке все еще открывал рот, сопротивляясь явно идиотским распоряжениям, но поддержки в рядах офицерского состава встречал все меньше и меньше.
По старой русской привычке умудренные опытом служивые терпели вышестоящую глупость, «несли тяготы военной службы», как велел Устав.
Все давно заметили, что критики Тимофей Ильич не выносит, обид не забывает, при первом удобном случае лишает чинов и званий.
Отряд Стаса из-за опалы полковника в последнее время за глаза так и называли «смертнички». Правильно, все так, было с чего закрепиться такой кличке. Задачи ротмистру ставились такие, что справиться без потерь или малой кровью было невозможно в принципе.
Двадцать процентов личного состава полегло за год из-за неприязни Лаевского к командиру особого отряда. Каждый пятый. Вот и вся арифметика.
Стас утешал себя, что остались лучшие из лучших, сорвиголовы и асы, которые в бою каждый десяти стоил. А если учесть слаженность, вбитую постоянными столкновениями с врагом, то равных отряду Булата не было не то что в полку, а наверное, во всей армии. Впрочем, утешение слабое. Дело времени, когда фортуна отвернется, и после очередного безумного распоряжения от отряда останутся лишь кровавые ошметки.
… Поле, еще вчера серое от пожухшей прошлогодней травы, зазеленело. Солдаты, выстроенные коробками, смотрели на такую робкую красоту тяжелыми потухшими взглядами. Без слов: устали потомственные землепашцы от бессмысленной войны, конца и края которой не было видно. Запах земли щекотал им ноздри, где-то на уровне инстинктов пробуждалось смутное желание разуться, размотать осточертевшие обмотки и почувствовать матушку землицу босыми ногами. Мужикам в серых гимнастерках хотелось покрыться мурашами, бегущими по коже от прикосновения стоп к подземному холоду первой борозды. Хотелось налечь на плуг, не со всей дури, а справно, как учили батя и дед. Мечталось прочертить это одичавшее поле ровными, от горизонта до горизонта, распластованными линиями чернозема.
И эх! Наработавшись, нахлопотавшись не о государевом, а о своем, хозяйском, пить бы сейчас родниковую воду из кувшина, заботливо поднесенного дочкой.
Только вот незадача, судьба-злодейка отодрала с кровью от землицы, от семьи, одела в казенное и бросила париться в ожидании невесть чего на первом ласковом солнышке.
Тимофей Ильич хотел было птицей взлететь на сколоченную из заборных досок импровизированную трибуну, но досадно споткнулся и едва не упал. По стройным рядам пронесся легкий гогот, на особо смешливых тут же зацыкали унтер-офицеры и прочее начальство помельче. Лаевский поморщился, но тут же, как ни в чем ни бывало, истерически заголосил, подбирая особые слова, долженствующие показать его в самом лучшем свете отца-командира.
– Солдаты! Мы с вами прошли многое! Тяжелые лишения войны. Холод. Голод.
Откуда-то из задних рядов донеслось едкое:
– Оно и видно. Пузо аж раздулось с голодухи у ихнего превосходительства!
Тимофей Ильич с ужасом услышал, как среди его послушных солдатиков лавиной распространяется злой смех. Даже первые ряды кривили рты, старательно пытаясь скрыть глумливую улыбку. Полковник недобрым взглядом окинул полк, холодно ожидая, когда волна дурацкого хохота стихнет, но все же не выдержал и взорвался:
– МАЛЧАТЬ!
Приступ смеха затух, в воздухе повисла неловкая пауза. Удовлетворенный произведенным эффектом, Лаевский продолжил, как будто ничего и не было:
– Победа близка как никогда! Войска кайзера разобщены и подавлены нашим позиционным перевесом. Но не стоит почивать на лаврах! Враг не только на передовой. Он в тылу. И даже здесь, среди нас! Увы, но это грустный факт. Вчера нашими доблестными офицерами были обезврежены два вражеских лазутчика. Эти негодяи и предатели пытались убедить вас, доблестных сынов Отечества, перейти со стороны правды и света на путь тьмы, лжи и предательства!
Стас с интересом наблюдал за крошечным из-за расстояния человечком на помосте, который азартно махал ручками. Булат даже не пытался понять, о чем там пискляво вещает картинно дергающаяся кукла. Смотрел на выступление Лаевского так, как смотрят на забавную козявку от нечего делать, просто чтоб убить время. Видел, как караульные привели к трибуне двоих. Одна из фигурок вроде бы женская. Что там рассмотришь, стоя с самого края построения? Понятно было лишь то, что полковника снова понесло витийствовать, и тот наслаждается собственным красноречием, которое, по обыкновению, должно будет закончиться кроваво. Пламенная речь все лилась, редкие порывы весеннего ветра выхватывали из нее малосвязанные слова и фразы.
– …Родины! …в то время как… взросло злое семя предательства! …нашло благодатную… в среде …в ходе дознания …Пусть они скажут сами! …Повторите громко, чтобы слышали все! …и вы узнали… крысу …рядах… Булатов!
Стас насторожился. Показалось, или в самом деле там, на горних командирских высях, вдруг всплыла его фамилия.
– Ротмистр Булатов! Ко мне!
По выпученным глазам стоящего рядом Войцеха Стас понял, что нет, слух не подвел, и его по какой-то причине требуют на лобное место.
Булат привычным движением огладил гимнастерку и, чеканя шаг, вышел из строя. Не побежал, как это стало принято у офицерского корпуса, а пошел нарочито неспешно, в надежде переварить ситуацию и понять, что ж там сказали такого, что весь полк теперь смотрит на него, как на диковинное чудо-юдо.
… Впервые Сергей чувствовал себя так неуютно. Тысячи злых, презрительных глаз, кажется, пробуравили тело насквозь. Ненависть русского человека ко всякого рода иудам сконцентрировалась на нем и на Мире. Маруте на секунду показалось, что еще немного – и задымится под тысячью яростных взоров, вспыхнет, закорчится и сдохнет обуглившись, как паук под увеличительным стеклом.
Было Сергею не то чтобы стыдно. Мерзко. Гадостно от того, что одним своим словом он, неплохой человек, вымарался в грязных интригах подонка при полковничьих чинах.
Пусть захиревшая, больная и полумертвая, но жила там, внутри, позабытая за ненадобностью, захиревшая совесть. Ворочалась, смердела, махала культями, корчилась и сипела в агонии: «Что ж ты так… остановись, там дальше – пропасть, ад, гибель и гнилая мертвечина. Не губи душу, пока жива… пока… жива».
Серая фигурка, перетянутая крест-накрест рыжей портупеей, уже приблизилась. Силуэт превратился в стройного юношу с суровым, совсем не по возрасту серьезным, повидавшим всякого выражением серых глаз.
Память дернула за какую-то потаенную ниточку, зазвенел тревожный колокольчик: во взгляде ротмистра было что-то до боли знакомое.
Стало по-настоящему страшно. По спине пробежал холодок, Сергей вдруг понял, что да, факт, откуда-то знает этого бравого вояку, что судьба-злодейка в очередной сыграла с ним крапленой колодой. Взгляни на этого Булатова попристальней, вспомнит.
Но Сергей лишь спрятал глаза и согнул повинно голову. Рассматривал пыльные сапоги, а сам внутренне ежился, предчувствуя, что самая мерзость еще не наступила, но уже тут, на пороге. «Близ есть при дверех…»
Тем временем ротмистр подошел так близко, что Сергей почуял его запах.
Пахло от Булатова дымом и полынью, потом и выделанной кожей. И было в запахе что-то знакомое, родное даже. Смутное воспоминание стронуло какую-то вешку в памяти, отбросив Маруту куда-то далеко, в детство. Сердце замерло на мгновенье, но тут же запрыгало снова, так и не поверив в наведенный морок.
Не в силах поднять взгляд, Марута напряг шею, справедливо полагая, что офицер вправе бить его, предателя и поклепщика. Он готов был снести побои, сам поступил бы так же.
Сергей обмяк и едва не свалился, отупело перемалывая ощущение позора тяжелыми, как мельничные жернова, мыслями.
– Господин провокатор, подтверждаете, что получали содействие? Материальную помощь, сведения секретного характера?
Сергей помедлил с ответом. Язык чесался сказать пару ласковых купающемуся в лучах собственной поносной славе старикану. Не в силах сдержаться, но чтобы было слышно только ему одному, пробубнил под нос: «Да пошел ты в жопу…»
– Эээ… Скажите громко, чтобы слышали!
– Ну. Подтверждаю! – Сергей дернулся от презрительного взгляда Миры и сплюнул в расстройстве на вытоптанную траву. Провалиться бы от стыда перед этим бравым ротмистром, ценой крови которого покупалась жизнь себе и любимой женщине.
– Громко! Чтобы не было …эээ… разночтений! Еще раз – фамилия предателя!
Окунувшись в смрадную жижу презрения, раздавленный, выгоревший внутри, как дерево, ударенное молнией, Сергей разорвал тягостную тишину охрипшим от напряжения голосом:
– Да. Это он. РОТМИСТР! БУЛАТОВ!
Маруте стало совсем тошно, когда ротмистр не ударил, а наоборот, доверчиво положил ему на плечи крепкие и жесткие, как дощечки, ладони, больно уткнувшись козырьком фуражки в лоб. Какая-то сила вдруг выдернула ошалевшего от такого расклада Сергея навстречу, прямо в объятья Булатову. Почуял он, что нет, память не обманула. Ответил на пружинистую силу рук, которые все сильнее и сильнее вжимали его, съежившегося, размазанного собственной низостью, ставшего вдруг таким маленьким и беспомощным, в это поджарое, состоящее из вспучившихся жгутов мышц тело ротмистра. Горячее дыхание обожгло ухо, и Сергей помертвел от голоса, который не хотелось услышать сейчас. Ротмистр прошептал:
– Вот и свиделись, Марута…
– Стась? Стась! Почему ты… почему Булатов? Как же?! Как так вышло?!
– Долгая песня, брат.
Стас не удивился. На фронте можно ожидать чего угодно. Столько случайностей произошло и в немецком тылу, и на передовой, что атрофировалось само свойство удивляться. Много передумано об этих треклятых ручейках не связанных, на первый взгляд, событий, которые со временем превращаются в забавную или трагическую линию, приводящую кого-то в могилу, а кого-то – к чинам и наградам на ровном месте. Пресловутой соломки не подстелешь, суждено пропасть – утонешь в ложке с водой. Суждено встретиться – встретишься, хотя б вот так, на краю гибели, тут, где Сергея быть не должно.
Картинка из вертящегося в голове разноцветного калейдоскопа обрывков фраз, общего недоумения, охватившего вдруг полк, оживленной жестикуляции полковника на помосте и двух несчастных согбенных фигур перед строем, сложилась. Правда, была она не цветной, а черно-серой, пугающей острыми гранями чужой, лживой по сути, но нацеленной персонально на него, Сергея, ненависти. А что с него взять? Спасает собственную жизнь, озвучивая то, что предложил ему Лаевский.
Весь вопрос, а что теперь? Отрицать глупо. Не для того их превосходительство устроил весь этот цирк с показательным допросом пойманных агитаторов, чтобы выслушать доводы и оправдания. Все козыри на чужих руках. А раз так, то нет выбора, нужно идти ва-банк, терять нечего. Пропадать, так с музыкой!
– Все видели?! Ротмистр Булатов, вы обвиняетесь в государственной измене! Попрошу сдать оружие!
Мысли еще не успели оформиться, а Булат уже повернулся лицом к радостно потирающему ладошки полковнику, высоко вскинул голову и гордо вперился в командира злым презрительным взглядом.
– Другому сдал бы! Только не тебе, гнида. Не ты мне его выдал, твое превосходительство. Сможешь – сам забери. Или, как всегда, за чужими спинами спрячешься?
Молчаливые ряды солдат оживились. Мужики озадаченно чесали затылки, переглядываясь друг с другом, пока робко, но уже озорно. Очередной балагур с галерки полка не замедлил подлить масла в искрящую от напряжения атмосферу:
– Не ссыте, ваше превосходительство, отбирайте у яго пистоль и шашку! Токмо аккуратнее! Булат энтот – злючий, падла, могеть и покусать!
Полк выдохнул и заржал азартно, чуть ли не взахлеб, прогоняя смехом захолонувший души страх.
Лицо Тимофея Ильича вытянулось, недавняя злорадная улыбка стекла. Былая уверенность в легкой виктории над несговорчивым ротмистром испарилась.
Внутренней чуйкой опытного интригана Лаевский почувствовал, что колесо событий, крутившееся до этого момента исправно и в нужном ему направлении, внезапно расшаталось и начало выписывать прихотливые загогулины, неизбежно ведущие к серьезной катастрофе. Надо было что-то делать, и срочно. Пытаясь справиться с липким чувством страха и беззащитности перед этой глумящейся озлобленной серой толпой, полковник не нашел ничего лучше, чем могуче проорать, срываясь на истерический визг:
– МААААЛЧАААТЬ!!!!
Эффект получился обратным ожидаемому. Солдатики, доселе безмолвные, послушные и подавленные, словно прозрели, увидев перед собой не могучего стратега и вершителя судеб, а жалкого испуганного старикашку. Почуяв внезапно силу своего единства над этим злобно верещащим ничтожеством, тертые войной калачи ухали и корчились в приступах смеха, остановить который теперь было под силу разве что самому господу Богу.
Лаевский беспомощно оглянулся в поисках поддержки от стоящих поодаль штабных офицеров, но те доставали платки и украдкой вытирали слезы, выступившие у них от очередного взрыва хохота. Только лицо адъютанта Алешеньки превратилось в белую безжизненную маску. Он, как и полковник, осознал, чем может закончиться для него эта нахлынувшая на полк волна дурацкого смеха.
В отчаянии зажатого в тиски обстоятельств пропадающего человека, Тимофей Ильич непослушными пальцами кое-как расстегнул болтающуюся на поясе кобуру с маузером, взвел боек и быстро-быстро, пока никто не очухался, со всей возможной ненавистью начал нажимать его, целясь прямо в наглые серые глаза ротмистра.
Впрочем, стрелок из Лаевского был аховый. Человек глубоко гражданский по сути, имел он обыкновение закрывать глаза от громких звуков.
Будь это передовая или выход в тыл противника, Стас и не подумал бы, при первом же сухом хлопке пистолетного выстрела бросился б ниц на землю, уходя с линии огня. Но тут другая история. Упасть перед обезумевшим от страха полковником, на виду у боевых товарищей, было позорно, а для рубаки Булата так и вовсе равносильно смерти. Он только плотнее сжал зубы, чувствуя у лица ласковые прикосновения теплого воздуха от пролетающих мимо пуль.
Первая.
Вторая.
Третья…
Словно в дурном сне вспыхивали и вспыхивали яркие пятнышки света, вылетающие из наведенного дрожащего дула. Стас замер в дурном ожидании неизбежного, а полковник и не думал останавливаться.
Третья пуля легла совсем рядом, вспоров погон, и тут же, четвертая, обожгла, чиркнув по щеке.
В какие-то доли секунды Булат осознал: все, резерв его личной удачи исчерпан. Следующий свинцовый комок неизбежно вопьется в голову. Стало обидно, что придется сдохнуть по-дурацки, из-за гнусной прихоти перепуганного до смерти старикашки.
… Потом, пытаясь вспомнить, что произошло, он так и не смог полностью восстановить произошедшее. Картинка была скупой: саднящая от отдачи ладонь с невесть как впрыгнувшим в нее наганом; грузное тело полковника в рассеивающемся пороховом дыме, падающее сверху; ломающиеся под навалившейся тушей неструганые перила трибуны. Тут же – удар о пыльную землю. Почему-то врезались в память фигуры офицеров, расстегивающие на бегу кобуры с оружием, и странное чувство освобождения и эйфория от надвигающегося собственного конца. Помнился воздух, сгустившийся, как холодец, надышаться которым не было никакой возможности, и неожиданно громкий женский голос, рвущий своей непреклонностью сжимающиеся, удавливающие кольца событий:
– Товарищи! Долой войну и самодержавие! Да здравствует социал-демократия! Да здравствует революция! Предлагаю выбрать командиром полка ротмистра Булатова! Ну, же… Кто за? Прошу поднять руки!
Стас смотрел на эту, как будто взлетевшую над землей красивую женщину с высоко поднятой рукой, на поникшего, будто побитого брата. На всколыхнувшийся солдатский строй и лес поднимающихся рук, на небо, которое в самый последний момент отказалось растворить в своей бирюзе его грешную душу, и думал: «Вот как повернулось. За краем, оказывается, новый мир. Новая жизнь. Новый я».
– Полк! Равняйсь! Смирно! Слушай мою команду!
Глава четвертая
Затмение
(1918)
Холодно. Мороз проникал в каждую пору тела, мышцы дрожали мелко-мелко, пытаясь хоть как-то выработать благословенное тепло и отдать насквозь промерзшему организму. Ганна куталась в дырявую конскую попону, найденную под стрехой сарая, но толку от заиндевевшей тряпки было немного. Прижимала к себе пылающего жаром Владика, сходя с ума от того, что не может согреть провалившегося в лихорадку ребенка.
«Сейчас бы в дом. Вон он, рядом, перейди двор, и мы там – возле родной теплой печи. Отец смеялся: «Положил всем печам печку, в четыре обвода, жара еще и нашим внукам хватит. Залезай, Ганка, – твое с Мишкой место, козырное, полати, самое тепло там живет». И точно, стоит печь десятилетия и после его смерти, хоть бы что ей треклятой. Ни трещины, ни сколов. Немцы нарадоваться не могут. «Гуд, зеер гуд». Сволочи. Принесла нелегкая. Тяжкий выдался восемнадцатый год. Из родного дома выгнали.
Ну как выгнали? Сама ушла. Попробуй не уйди, когда семеро мужиков в трех комнатах. Так и норовят под юбку залезть. Сказала офицерику ихнему: «Не уймутся твои, спалю ночью всех к чертям собачьим. Пусть сами себе полы моют потом. На том свете». Как он их чихвостил на языке своем собачьем! Любо-дорого было смотреть. Дал разнос. Дисциплина у них. Слава Богу, поутихли, озабоченные. Только что с того? Новая беда. Только укачала Влада, глядь, а господин унтер-офицер прется в выделенный закуток с шоколадкой и шнапсом. Схватила сыночка, и ходу. Лучше уж в сарае, чем быть чужой подстилкой.
Они ж под осень войском зашли. Оккупация. Тепло еще в сарае было, черт с ней с этой хатой.
Но знала же, что будут бедовать. Соорудила буржуйку из жестяной бочки. Только толку с нее. Через дыры в крыше сарая небо видно. Вот Влад и прихворал. Хрипит во сне. А такой веселый младенчик был. Как Ленин, что на фото в красном углу. Владлен. Владимир Ленин. Имя дурацкое мальчонке Васька выбрал, потому как сам идиот. А для меня мальчик, сынок мой названный – Владик, Владислав. И пусть не родной по крови, усыновленный, так то и хорошо, что нет в нем крови приглумного Васьки. Глазки у сыночка точь-в-точь, как у отца Яна Граховского, которого Васька со свету сжил, но по цвету серые, не отличишь от нашей родни. Даст Бог, еще один Марута вырастет. И родители его хорошие были люди. Не дворняжки, как муженек.
Может, все это горе нам из-за него, Васьки. Говорил матери, что крещеный. А иконы святые, что предки наши из века век берегли, выбросил на улицу. Повесил вместо них улыбку лысого. Владимира, тьфу, Ильича. Только что не крестился на него: «Мировая революция не горами». Долбень. В жизнь бы не глянула на сморчка. Ни внешности, ни мозгов, ни пожитков. Посмешище. Если б не мама.
«Надо, дочка. Председатель комитета бедноты. Все зерно в округе отобрал. Отсеяться нечем. Сдохнем с голодухи. Зачем мертвым гордость шляхетская. Сучьи времена. По-сучьи и будем выть. Не покоришься, все равно поймает, а там прикопает в лесу, чтоб никто не нашел. Не до жиру. Выжить бы…».

